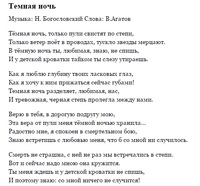Тем кто расстается без войны я не верю: «Здесь всё – вопреки»
«Здесь всё – вопреки»
«Двадцать дней без войны». Реж. Алексей Герман. 1976 © Киностудия ЛенфильмДвижение военной темы в нашем кино — это приближение к правде. Каждое время диктует свою меру правды, и в этом его право и закон. Закон временной чуткости экрана, по которому фильм имеет свой час высоты, созвучия со временем. Боевые киносборники и фильмы военных лет сейчас во многом неловки своей прямолинейностью. Но так корректирует их наше время со своей дистанции. А тогда, в 1941 году, в них была своя правда — они были верой в нашу победу. Была жестокая ненависть к врагу и единственная необходимость — борьба и победа. А потому — необходимость в оптимизме, бодрости, спрямленности коллизий.
Когда я снимал первые варианты эпизода в «Двадцати днях без войны», где велся разговор об искусстве военного времени, они получались у меня смешными, сатиричными. Один такой эпизод, в котором я от этого не избавился, Константин Михайлович Симонов попросил выбросить. Тогда я от этого страдал, а сейчас я безмерно рад, что послушался Симонова.
Время, удаляясь от военного, диктует нам меру реализма,
диктует все более совестливое и неприукрашенное отношение к всенародному подвигу и к каждой человеческой жизни
на войне. Как замечательно сказал Константин Симонов: «Войну не перевоюешь, а стало быть, надо говорить о ней правду».
Дай бог сказать свое слово правды. ‹…›
Мне всегда нравилось польское кино о войне времен «Пепла и алмаза». И нравится. Оно романтично и трагедийно. Наверное, в свое время мы испытали его сильное внутреннее влияние, недаром во время съемок «Двадцати дней без войны» воспоминание о польском кино было для нас как бы шлагбаумом: стоп! В эту сторону путь закрыт — польское кино! Фильм начинался прежде другим эпизодом. Я его снял, посмотрел материал и спохватился: кадр метафоричен, мужчины чуть мужественней, обстоятельства чуть сгущенней. Да это же польское кино! Другая, более условная мера правды. Для своего времени — достижение, сейчас — шаг назад.
Я его снял, посмотрел материал и спохватился: кадр метафоричен, мужчины чуть мужественней, обстоятельства чуть сгущенней. Да это же польское кино! Другая, более условная мера правды. Для своего времени — достижение, сейчас — шаг назад.
Романтизирование — это в основном пройденная, но еще очень реальная болезнь. Правда жизни и проще, и сложнее.
В стихах Константина Симонова о разведчиках есть слова:
И как последнее «прости»
На жданный и нежданный случай,
Им сказано: пора идти.
Чем проще сказано, тем лучше.
Вот так и хотелось снять картину. Чтобы сказано было только «пора идти». Но сказано как последнее «прости», которое осталось невысказанным.
В финале раньше было снято: молодого лейтенанта, которого встречает Лопатин, тяжело ранят, он плачет, его несут на носилках, потом он умирает и под проливным дождем долго стреляет батарея. Константин Михайлович Симонов предложил другой финал: лейтенанту не обязательно было погибать. Проще, похожее было пережить этот обстрел и идти.
Я и сейчас сожалею о том, что мы сняли эпизод, где старуху заваливает разрушившийся дом в Сталинграде, а в это время ее фотографируют. Это уже исключительность. В Сталинграде погибали тысячи, а фотографировали редко. Кино нужно мысленно прожить и вспомнить, представить, как это было на самом деле обычно.
Хотелось передать ощущение: мы там были, шли по этому берегу моря, в этом поезде ехали. Хотелось поймать верную интонацию. Интонацию обыденного, которое и волнует. Герой — Лопатин — мятый, невзрачный, вроде незаметный. Его любовь в грязном озябшем городе зимой. Южный город зимой не годится для жизни, а уж тем более для любви. Здесь все — вопреки.
Что значит снять войну достоверно? Найти людей нужного возраста, постричь «под сорок второй год», одеть «под сорок второй год», заставить пройтись по грязи и снимать «под хронику»? Но так ничего не получится. Мне кажется, нужна внутренняя созвучность лиц и глаз обстоятельствам.
В картине вообще нет музыки. Мы приглашали композиторов, но в дальнейшем от музыки отказались. Лица картины — это и есть ее музыка. Я не противник музыки на экране в принципе. Но каждый фильм должен звучать по-своему, в зависимости от его замысла. Музыка Вивальди в фильме И. Авербаха «Объяснение в любви» — важная часть образа всего фильма. В «Двадцати днях без войны» музыка была бы катастрофой. Усиливать истинное страдание не нужно. Когда хоронят близкого человека — оркестр невыносим. Не нужны допинги, чтобы страдать по нем.
О «Двадцати днях без войны» писали, что фильм напоминает хронику военных лет, а между тем фильм снят совсем иначе.
Нет тряски камеры, бесформенных композиций, когда вдруг в кадр влезает, например, стенка, коротких монтажных кусков. Напротив, он снят очень длинными, слишком длинными планами. Монтаж фильма страшно растянут. Где нужно обычно ставить пять метров, мы ставили пятнадцать. И вообще монтировали по принципу: три метра — длинно, пять — невозможно, восемь — то, что нужно. Эта затянутость тоже создавала подспудный музыкальный ритм картины. Скажем, отъезд Лопатина из Ташкента — длинная панорама, исчезающие навсегда грузовики, костры, солдаты, двое ребят, собака, воинский эшелон, санитарный поезд, санитар, машущий рукой. И все это, с чем расстается Лопатин и в чем для него последний след прожитых дней без войны, след этой любви вопреки в южном городе зимой, завершает паровозный гудок — как крик, как прощание, как «всё». И долго бежит за поездом какая-то девочка… Важно ведь не то, что Лопатин уезжает, а что он чувствует, когда уезжает.

Когда оператор Валерий Федосов снимал эту сцену, я ходил рядом и бормотал ему в ухо, чтобы создать внутреннее самоощущение ритма: прощай, машинист, прощай, паровоз, прощайте, ребята, прощай, грузовик, прощай, девочка… Я даже некоторые эпизоды пытался кадровать в интонации, похожей на стихи:
Вагон был такой, как тогда,
Так же он поскрипывал, как тогда.
У окна стоял лейтенант.
И рядом с ним, Лопатиным, окажется эта
женщина…
Ведь сценарий «Двадцать дней без войны» написан Константином Симоновым, прозаиком и поэтом. «Двадцать дней без войны» — не поэтическое кино. В нем, как мне кажется, просто усилена интонация, ибо история видится не автором, а глазами героя. Если вспомнить прозу Константина Михайловича, то, к примеру, эпизод смерти Мишки из «Живых и мертвых», когда он рвал письма, и они летали над ним, уже мертвым, для нас в военных эпизодах «Двадцати дней без войны» был стилистическим ключом. Проза ли это, поэзия ли — я затрудняюсь сказать. Наверное, и то и другое. ‹…›
Проза ли это, поэзия ли — я затрудняюсь сказать. Наверное, и то и другое. ‹…›
На «Двадцати днях без войны» мы пробовали не актера как такового. Что пробовать известных актеров — посмотрев их в чужих фильмах, в крайнем случае просто порепетируй. Мы проверяли другое: может ли, например, актер выдержать на экране монолог в триста метров? Может ли заставить себя слушать не тридцать, а триста метров, существовать в таком метраже и быть не скучным, не надоесть на едином крупном плане? Не всякий даже очень хороший актер это умеет. Алексей Петренко мог. У него в фильме длиннейший монолог, в котором его герой, военный летчик, — человек и страстный, и несчастный, он и жалок, и опасен, и жлоб откровенный. Мы так его и пробовали: один кадр — триста метров. И проба нас убедила.
Кому-то Никулин в драматической, не комедийной роли может и не нравиться. Я считаю, что его актерское исполнение, его умение быть органичным находится на уровне, на котором может оказаться только персонаж, снятый скрытой камерой. Без Никулина, с любым иным артистом, наша картина развалилась бы, все стало бы отдельными вставными номерами — актерскими или типажными, и невозможной стала бы вся стилистика, построенная на слиянии сцен, кажущихся странными, с подробной, выходящей часто на первый план несыгранной жизненной средой. Соединить все это смог, на мой взгляд, только Никулин своей неяркой (намеренно неяркой — артист он очень яркий) игрой. На мой взгляд, такие выигрышные эпизоды, как монологи Алексея Петренко или Лии Ахеджаковой, могли войти в картину не как вставные номера только благодаря Никулину. ‹…›
Без Никулина, с любым иным артистом, наша картина развалилась бы, все стало бы отдельными вставными номерами — актерскими или типажными, и невозможной стала бы вся стилистика, построенная на слиянии сцен, кажущихся странными, с подробной, выходящей часто на первый план несыгранной жизненной средой. Соединить все это смог, на мой взгляд, только Никулин своей неяркой (намеренно неяркой — артист он очень яркий) игрой. На мой взгляд, такие выигрышные эпизоды, как монологи Алексея Петренко или Лии Ахеджаковой, могли войти в картину не как вставные номера только благодаря Никулину. ‹…›
Фильм «Двадцать дней без войны» неважно прошел в прокате.
И мне это горько. Я об этом думаю. Мне ведь казалось: раз это мне близко, значит, должно быть близко и другим. Но для меня — это время моих детских воспоминаний, а для зрителя до тридцати лет — основного контингента кинотеатров — это уже время вне его личного опыта. Для восприятия это важно. И все же я верю, что наш зритель эмоционально прошибаем, если мы будем настойчивы и бескомпромиссны в нашем движении к правде.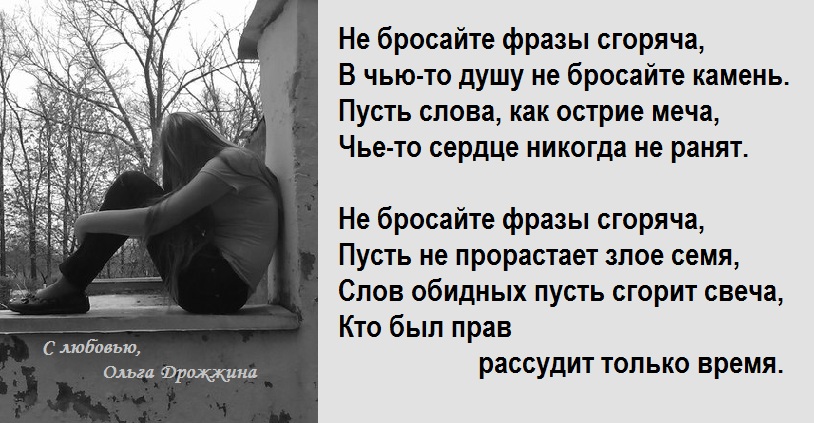 Успех «Рублева» при повторном прокате подтверждает это.
Успех «Рублева» при повторном прокате подтверждает это.
Герман А. Правда — не сходство, а открытие // Искусство кино. 2001. № 12.
книги
1.
Самые важные гносеологические загадки мне задавали велосипед, плавание и советская власть. Вы можете забыть первую любовь или первую учительницу или первую заповедь, но никаким силам не удастся отучить вас держаться в воде или на велосипеде. Я не знаю, где коренится это знание — в мозгу, мозжечке или мышцах, но уверен в его неизбежности. Раз овладев этим опытом, мы не можем с ним расстаться — ни мытьем, ни катаньем.
Разлука с властью дается не проще.
Власть так рано и основательно приучила нас жить с оглядкой на себя, что страх стал служить инстинкту самосохранения, регулируя выхлоп правды и оберегая от нее.
Советская цензура в этой игре выполняла своеобразную роль, которая отнюдь не ограничивалась запретом. Как объяснил Фуко, то, что мы и сами знали, она творила и вычитанием, и сложением. К первому относилось запрещенное, например, Александр Солженицын, ко второму — разрешенное, скажем, Егор Исаев. Соединившись, они создавали диковинную версию немыслимой реальности, в которой мы тем не менее жили.
К первому относилось запрещенное, например, Александр Солженицын, ко второму — разрешенное, скажем, Егор Исаев. Соединившись, они создавали диковинную версию немыслимой реальности, в которой мы тем не менее жили.
Если внутри опасной зоны все обрастало головоломными эвфемизмами, осложнялось фигурами умолчания и переводилось на эзопов язык, то обратная, так сказать, позитивная функция цензуры насыщала наш мир симулякрами: чучелами романов, картин, спектаклей и фильмов в натуральную величину, которые, однако, никого не могли обмануть. Работая в обе стороны, цензура создавала причудливый мир, в котором культура спасалась, как умела. Мы привыкли жить в суррогатной, наподобие желудевого кофе, вселенной, где глобусом являлся СССР, телевизором — Штирлиц, газеты покупали ради кроссворда, и гардероб исчерпывался штанами. Это не значит, что власть истребляла всю жизнь, она делала ее однобокой, увечной.
Уже в Америке рядом с моим балконом росло дерево, на которое годами мечтал взобраться наш Геродот. Боясь за него, я просил садовника срезать ветки, до которых кот мог добраться. В итоге дерево все равно выросло, но кривым. Нечто похожее творилось в отечественном искусстве.
Боясь за него, я просил садовника срезать ветки, до которых кот мог добраться. В итоге дерево все равно выросло, но кривым. Нечто похожее творилось в отечественном искусстве.
— В эпоху великого террора, — писала Мариэтта Чудакова, — настоящие писатели выбирали безопасные темы, и советская литература стала детской, охотничьей, дачной и природоведческой.
Пожалуй, самое любопытное в цензуре было то, что она никого не обманывала. Все знали, что стихи пишет не Сергей Михалков, а Иосиф Бродский, хотя первый был автором гимна, а второй — тунеядцем. Другими словами, цензура функционировала в качестве мертвого ритуала, смысл которого заключался в нем самом. Запреты, однако, выгораживали ареал риска, проникая в который каждый автор получал бонус славы, равный преодоленному им пространству в опасной зоне.
Так функционировала цензурная система до последних дней своего существования. Когда в разгар перестройки мы с Вайлем напечатали первый после эмиграции опус в еще советском журнале, публикации сопутствовала внутренняя рецензия, где нас хвалили за то, что мы не вышли за границы достигнутой к тому времени гласности.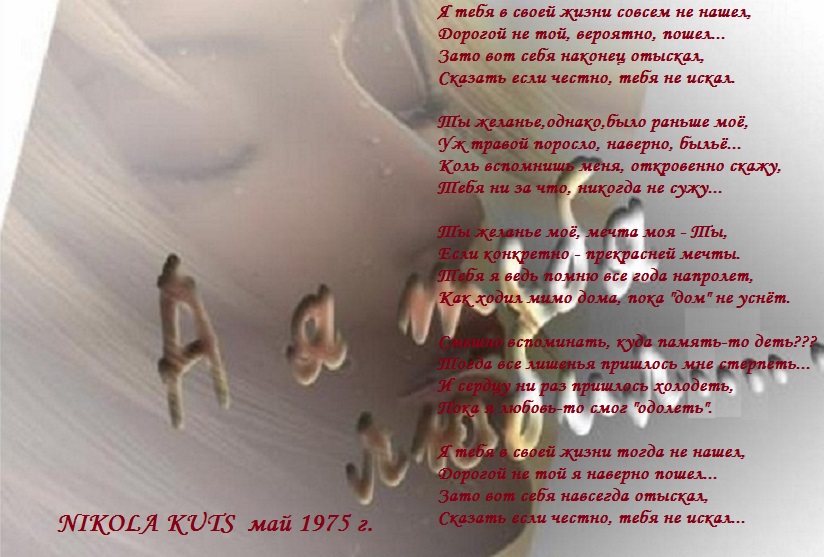 Из этого следовало, что свобода с нарастающим ускорением наползала на тело умирающей власти, разрешая сегодня то, что было запрещено вчера и окажется банальным завтра.
Из этого следовало, что свобода с нарастающим ускорением наползала на тело умирающей власти, разрешая сегодня то, что было запрещено вчера и окажется банальным завтра.
Если вся эта система кажется безумной, то только потому, что она такой и являлась. А вспомнил я о ней из-за того, что она возвращается, как в кино с обратной съемкой, где хоккеисты играют в советской форме.
2.
С быстро нарастающим ускорением власть въезжает в новую реальность. По пути она постоянно расширяет сакральную зону, объявляя кощунственным все, что с ней спорит. Так, фильм «Смерть Сталина» запретили не потому, что тот изображен злодеем, а потому, что в кино над ним смеются. В лояльной исторической перспективе даже зло должно быть героическим, как Макбет у Шекспира или Плюшкин у Гоголя, где он — прореха сразу на всем человечестве.
Новая цензура отличается от старой тем, что она не интересуется будущим. Раньше оно называлось коммунизмом, принадлежало партии и не подлежало скептическому обсуждению. Сейчас под запрет попало все, что сомневается в прошлом, версия которого вновь обрастает ложью и застывает в нерушимом, каноническом обличии. Если прежде первоначалом священной истории была Октябрьская революция, то теперь война, которую надлежит называть только «отечественной», отрезая от истории подробности тех первых двух лет, вспоминая о которых можно угодить под статью.
Сейчас под запрет попало все, что сомневается в прошлом, версия которого вновь обрастает ложью и застывает в нерушимом, каноническом обличии. Если прежде первоначалом священной истории была Октябрьская революция, то теперь война, которую надлежит называть только «отечественной», отрезая от истории подробности тех первых двух лет, вспоминая о которых можно угодить под статью.
В риторике власти «война» занимает то же место, что в моем детстве «мир». Это слово писали на плакатах, стенах, афишах и цветами на клумбах, включая ту, что была разбита на крыше бомбоубежища, мимо которого я каждый день ходил в школу. Лозунг «Миру — мир!» служил девизом социализма, который он навязывал своим клиентам и которым соблазнял остальных. Конечно, этот мир не мешал Хрущеву давить Венгрию, а Брежневу — Чехословакию. Но это, как сейчас с Украиной, называлось братской помощью и не мешало школьникам, вроде меня, учить на уроках гражданской обороны про ястребов из Пентагона, служивших поджигателями войны, а взрослым соглашаться на все, лишь бы ее не было.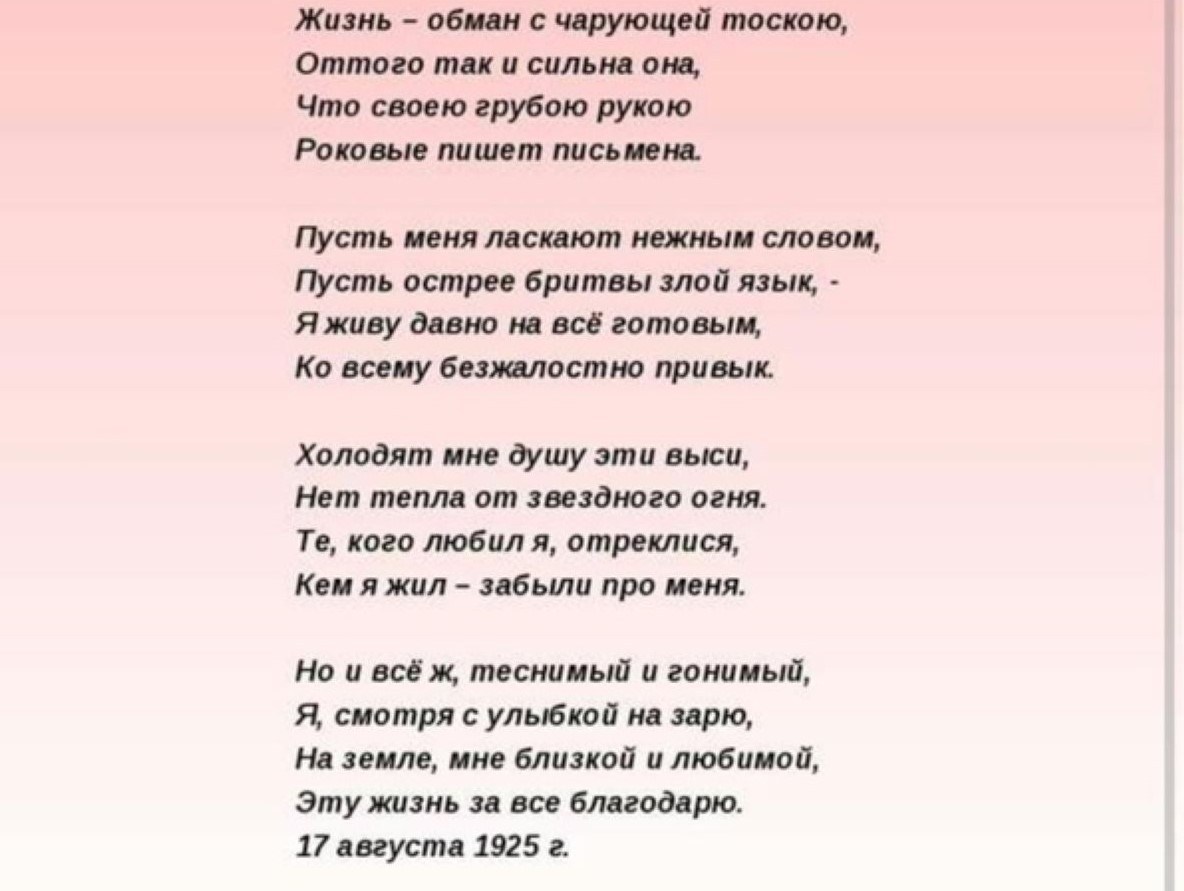
Теперь вся эта противоречивая партийная конструкция вывернулась наизнанку и свелась к свирепому кличу «можем повторить». Поскольку настоящих ветеранов почти не осталось, то больше всего хотят повторить те, кто сам не воевал, да и детей не пустит — они же в Англии.
Там, кстати говоря, войну, которая была еще длиннее, тоже не забывают. Я в этом убедился в Имперском военном музее Лондона, где вопреки гордому названию не столько хвастают победами, сколько скорбят о потерях. А чтобы о них никто не забыл, сюда со всей Европы свозят на экскурсии школьников. Забравшись вместе с ними в тесное убежище, я попал в Блиц 1940-го. Над нами взрывались бомбы, дрожала ненадежная крыша, качалась одинокая лампа без абажура. Мы слушали настоящую запись, дошедшую из тех военных дней. На ней плакали грудные дети, всхлипывали женщины, мужчины для храбрости пели что-то бодрое и полузабытое. В ярко освещенный музейный зал разноязычные внуки бывших непримиримых противников выходили бледные и молча. Никто тут не рвался «повторить».
Никто тут не рвался «повторить».
3.
Я верю, что книги лучше знают, когда их читать. Они к нам попадают вовремя, ведь их посылает провидение, которое некогда звалось исторической необходимостью. Поэтому я не удивился тому, что в разгар текущего раунда борьбы со свободой у меня под рукой оказалось пособие по выживанию без нее.
Это — труд Ральфа Дарендорфа «Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний» (изд-во «НЛО»). В нем перебравшийся из Германии в Англию социолог и философ, много лет возглавлявший Лондонскую школу экономики, исследует способы существования мыслящих людей в неприспособленных к ним обществах. Вынося за скобки борцов и мучеников и никого не осуждая с маху, автор выстроил классификацию возможного поведения интеллигента при оголтелом режиме. Она чрезвычайно полезна сразу двум поколениям: старым ее стоит освежить, молодым — освоить.
Самая распространенная тактика — молчаливое приспособление к обстоятельствам, которое по-нашему называется «вы же сами понимаете». В первые годы нацизма, пишет Дарендорф, это означало завешивать картины «дегенеративных художников», когда приходят гости, среди которых не должно быть евреев. На этой ступени лестницы, ведущей вниз, минимальное требование сводится к тому, чтобы «не сделать ничего, что могло бы лечь тяжелым бременем на совесть».
В первые годы нацизма, пишет Дарендорф, это означало завешивать картины «дегенеративных художников», когда приходят гости, среди которых не должно быть евреев. На этой ступени лестницы, ведущей вниз, минимальное требование сводится к тому, чтобы «не сделать ничего, что могло бы лечь тяжелым бременем на совесть».
Следующий шаг — самооправдание: включение в систему необходимо, чтобы «спасти культурный капитал и защитить от уничтожения традиционные ценности».
Скажем, при фашистах немецкая музыка достигла небывалых вершин исполнительского мастерства отчасти потому, что остальная культура безоговорочно сдалась идеологии.
Благодаря умению приспосабливаться можно выкроить «пространство свободы», вроде «Нового мира» Твардовского, где копились ресурсы для будущей перестройки.
Третий выход нашел еще Платон. Это — «внутренняя эмиграция, уход от общественной жизни» в созерцание — или куда получится. Иногда мне кажется, что так мы все жили, пока не уехали.
Настоящая эмиграция по Дарендорфу — наиболее радикальное, но отнюдь не безболезненное решение. Особенно для пишущего, которому «выразить себя можно в конечном счете только среди соотечественников» (Й. Хёйзинга). Но и это для нас на безопасном Западе не так просто. Помимо державной цензуры есть другая, в определенном смысле еще более свирепая самоцензура, которая хватает меня за руку, когда я пишу все это, боясь навредить тем, кто в отличие от меня не живет в свободном мире.
Совместное обращение к Конгрессу, приведшее к объявлению войны Германии (1917 г.)
Когда в 1914 г. между несколькими странами Европы вспыхнули военные действия, почти сразу же президент Вильсон заявил о намерении Америки сохранять нейтралитет и призвал всех американцев сохранять беспристрастность в мысли, как и дела. Однако Вильсону и Соединенным Штатам стало все труднее сохранять нейтралитет. Серия событий между 1915 и 1917 годами привела к тому, что Вильсон, наконец, передал свое военное послание Конгрессу 2 апреля 19 года. 17. Немецкая подводная война привела к потоплению нескольких кораблей и гибели американцев. Наиболее примечательным было нападение на Лузитанию 7 мая 1915 года, когда погибло 128 американцев. Хотя этот корабль плавал под американским флагом нейтралитета, он также перевозил несколько тысяч ящиков с боеприпасами и осколками, направлявшимися в Великобританию. После строгих предупреждений Вильсона немцы обязались соблюдать традиционные правила обыска и ареста. Однако Америка все больше склонялась на сторону британцев. Помимо исторических культурных связей как с Великобританией, так и с Францией, поставки боеприпасов в эти страны из Соединенных Штатов выросли примерно с 6 миллионов долларов в 1914 до почти 500 миллионов долларов в 1917 году. Американские банкиры ссудили союзникам более 2 миллиардов долларов.
17. Немецкая подводная война привела к потоплению нескольких кораблей и гибели американцев. Наиболее примечательным было нападение на Лузитанию 7 мая 1915 года, когда погибло 128 американцев. Хотя этот корабль плавал под американским флагом нейтралитета, он также перевозил несколько тысяч ящиков с боеприпасами и осколками, направлявшимися в Великобританию. После строгих предупреждений Вильсона немцы обязались соблюдать традиционные правила обыска и ареста. Однако Америка все больше склонялась на сторону британцев. Помимо исторических культурных связей как с Великобританией, так и с Францией, поставки боеприпасов в эти страны из Соединенных Штатов выросли примерно с 6 миллионов долларов в 1914 до почти 500 миллионов долларов в 1917 году. Американские банкиры ссудили союзникам более 2 миллиардов долларов.
Вслед за объявлением Германии о возобновлении неограниченной подводной войны 1 февраля 1917 года британцы 24 февраля обнародовали телеграмму Циммермана. Когда 1 марта Уилсон опубликовал сообщение для прессы, американцы были шокированы и возмущены. При поддержке всего своего кабинета Вильсон, переизбранный в 1916 году под лозунгом «Он удержал нас от войны», неохотно пришел к выводу, что война неизбежна. В своем выступлении перед специальной сессией Конгресса Вильсон, как обычно, взял верх над моралью и заявил, что не только нарушены права Америки как нейтральной страны, но и что «мир должен быть безопасным для демократии». Американцы должны бороться «за права и свободы малых народов» и «нести мир и безопасность, чтобы наконец сделать сам мир свободным».
При поддержке всего своего кабинета Вильсон, переизбранный в 1916 году под лозунгом «Он удержал нас от войны», неохотно пришел к выводу, что война неизбежна. В своем выступлении перед специальной сессией Конгресса Вильсон, как обычно, взял верх над моралью и заявил, что не только нарушены права Америки как нейтральной страны, но и что «мир должен быть безопасным для демократии». Американцы должны бороться «за права и свободы малых народов» и «нести мир и безопасность, чтобы наконец сделать сам мир свободным».
АДРЕС:
ГОСПОДА КОНГРЕССА:
Я созвал Конгресс на внеочередную сессию, потому что есть серьезные, очень серьезные, политические решения, которые нужно сделать, и сделать немедленно, что было бы ни правильным, ни конституционно допустимым, чтобы я должен взять на себя ответственность за изготовление.
Третьего февраля прошлого года я официально представил вам чрезвычайное заявление имперского германского правительства о том, что с первого дня февраля его целью было отложить в сторону все ограничения закона или человечности и использовать свои подводные лодки для потопления каждое судно, которое стремилось приблизиться либо к портам Великобритании и Ирландии, либо к западному побережью Европы, либо к любому из портов, контролируемых врагами Германии в Средиземном море.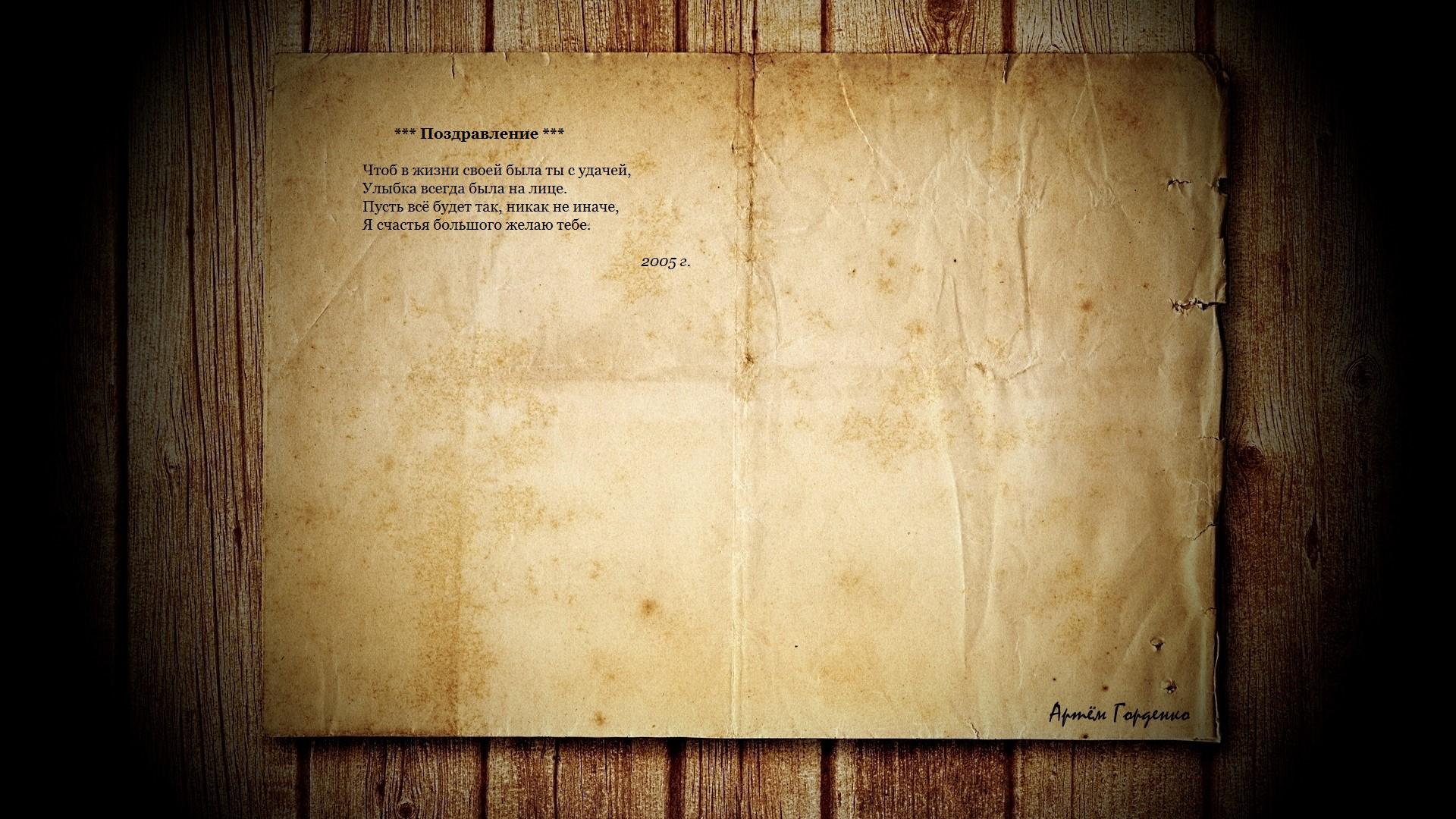 Это казалось целью немецких подводных лодок в начале войны, но с апреля прошлого года имперское правительство несколько ограничивало командиров своих подводных кораблей в соответствии с данным нам тогда обещанием, что пассажирские суда не должны потоплен, и что должным образом будут предупреждены все другие суда, которые его подводные лодки могут попытаться уничтожить, когда не будет оказано сопротивления или не будет предпринята попытка побега, и будут приняты меры к тому, чтобы их экипажи получили по крайней мере справедливый шанс спасти свою жизнь в своих открытых шлюпках. Принятые меры предосторожности были скудными и достаточно случайными, что доказывалось печальным случаем за случаем в ходе этого жестокого и не мужественного дела, но известная степень сдержанности все же была соблюдена. Новая политика отменила все ограничения. Суда всякого рода, каков бы ни был их флаг, их характер, их груз, их назначение, их поручения, безжалостно шли на дно: без предупреждения и без мысли о помощи или пощаде для тех, кто на борту, суда дружественных нейтралов вместе с те из воюющих сторон.
Это казалось целью немецких подводных лодок в начале войны, но с апреля прошлого года имперское правительство несколько ограничивало командиров своих подводных кораблей в соответствии с данным нам тогда обещанием, что пассажирские суда не должны потоплен, и что должным образом будут предупреждены все другие суда, которые его подводные лодки могут попытаться уничтожить, когда не будет оказано сопротивления или не будет предпринята попытка побега, и будут приняты меры к тому, чтобы их экипажи получили по крайней мере справедливый шанс спасти свою жизнь в своих открытых шлюпках. Принятые меры предосторожности были скудными и достаточно случайными, что доказывалось печальным случаем за случаем в ходе этого жестокого и не мужественного дела, но известная степень сдержанности все же была соблюдена. Новая политика отменила все ограничения. Суда всякого рода, каков бы ни был их флаг, их характер, их груз, их назначение, их поручения, безжалостно шли на дно: без предупреждения и без мысли о помощи или пощаде для тех, кто на борту, суда дружественных нейтралов вместе с те из воюющих сторон. Даже госпитальные суда и суда, доставлявшие помощь тяжело осиротевшим и пострадавшим бельгийцам, хотя последние были обеспечены безопасным проходом через запрещенные районы самим германским правительством и отличались безошибочными идентификационными знаками, были потоплены с таким же безрассудством. отсутствие сострадания или принципа. Некоторое время я не мог поверить, что такие вещи действительно могут быть сделаны любым правительством, которое до сих пор придерживалось гуманных обычаев цивилизованных наций. Международное право зародилось в попытке установить некий закон, который уважался бы и соблюдался на морях, где ни одна нация не имела права господства и где пролегали свободные дороги мира… Этот минимум права правительство Германии отмел под предлогом возмездия и необходимости и потому, что у него не было оружия, которое он мог бы использовать на море, кроме того, которое невозможно применить, поскольку он использует его, не отбрасывая на ветер все сомнения гуманности или уважения к взаимопониманию.
Даже госпитальные суда и суда, доставлявшие помощь тяжело осиротевшим и пострадавшим бельгийцам, хотя последние были обеспечены безопасным проходом через запрещенные районы самим германским правительством и отличались безошибочными идентификационными знаками, были потоплены с таким же безрассудством. отсутствие сострадания или принципа. Некоторое время я не мог поверить, что такие вещи действительно могут быть сделаны любым правительством, которое до сих пор придерживалось гуманных обычаев цивилизованных наций. Международное право зародилось в попытке установить некий закон, который уважался бы и соблюдался на морях, где ни одна нация не имела права господства и где пролегали свободные дороги мира… Этот минимум права правительство Германии отмел под предлогом возмездия и необходимости и потому, что у него не было оружия, которое он мог бы использовать на море, кроме того, которое невозможно применить, поскольку он использует его, не отбрасывая на ветер все сомнения гуманности или уважения к взаимопониманию. которые должны были лежать в основе общения мира. Сейчас я думаю не о связанной с этим потере имущества, какой бы огромной и серьезной она ни была, а только о бессмысленном и массовом разрушении жизней мирных жителей, мужчин, женщин и детей, занятых занятиями, которые всегда, даже в самые мрачные периоды современной истории, считались невинными и законными. Имущество может быть оплачено; жизни мирных и невинных людей быть не может. Нынешняя подводная война Германии против торговли — это война против человечества.
которые должны были лежать в основе общения мира. Сейчас я думаю не о связанной с этим потере имущества, какой бы огромной и серьезной она ни была, а только о бессмысленном и массовом разрушении жизней мирных жителей, мужчин, женщин и детей, занятых занятиями, которые всегда, даже в самые мрачные периоды современной истории, считались невинными и законными. Имущество может быть оплачено; жизни мирных и невинных людей быть не может. Нынешняя подводная война Германии против торговли — это война против человечества.
Это война против всех наций. Американские корабли были потоплены, американские жизни унесены способами, о которых мы очень глубоко взволнованы, узнав, что корабли и люди других нейтральных и дружественных наций были потоплены и затоплены в водах таким же образом. Дискриминации не было. Задача брошена всему человечеству. Каждая нация должна решить для себя, как она встретит его. Выбор, который мы делаем для себя, должен быть сделан с умеренностью в совете и сдержанностью в суждениях, соответствующих нашему характеру и мотивам нашей нации. Мы должны убрать возбужденное чувство. Нашим мотивом будет не месть или победоносное утверждение физической мощи нации, а только отстаивание права, человеческого права, единственным поборником которого мы являемся.
Мы должны убрать возбужденное чувство. Нашим мотивом будет не месть или победоносное утверждение физической мощи нации, а только отстаивание права, человеческого права, единственным поборником которого мы являемся.
Когда я обращался к Конгрессу 26 февраля прошлого года, я думал, что будет достаточно отстаивать наши нейтральные права с помощью оружия, наше право использовать моря против незаконного вмешательства, наше право защищать наш народ от незаконного насилия. Но вооруженный нейтралитет, как теперь оказывается, неосуществим. Поскольку подводные лодки фактически объявлены вне закона, когда они используются, как немецкие подводные лодки использовались против торгового флота, невозможно защитить корабли от их атак, поскольку право наций предполагает, что торговые суда будут защищаться от каперов или крейсеров, видимые суда преследуют их. открытое море. Обычное благоразумие в таких обстоятельствах, даже мрачная необходимость, состоит в том, чтобы попытаться уничтожить их, прежде чем они выявят свои собственные намерения. С ними нужно разбираться сразу же, если с ними вообще приходится иметь дело. Германское правительство вообще отрицает право нейтральных стран применять оружие в тех районах моря, которые оно запретило, даже для защиты прав, право на защиту которых ни один современный публицист никогда прежде не ставил под сомнение. Намекают, что с вооруженной охраной, которую мы разместили на наших торговых кораблях, будут обращаться как с вышедшими за рамки закона и с ними будут обращаться так же, как с пиратами. Вооруженный нейтралитет в лучшем случае достаточно неэффективен; в таких обстоятельствах и перед лицом таких притязаний он более чем бесполезен: он, скорее всего, произведет только то, что должен был предотвратить; практически наверняка втянет нас в войну без прав и эффективности воюющих сторон. Есть один выбор, который мы не можем сделать, мы не в состоянии сделать: мы не выберем путь подчинения и не позволим игнорировать или нарушать самые священные права нашей нации и нашего народа. Ошибки, против которых мы сейчас выступаем, не являются обычными ошибками; они подрезают до самых корней человеческой жизни.
С ними нужно разбираться сразу же, если с ними вообще приходится иметь дело. Германское правительство вообще отрицает право нейтральных стран применять оружие в тех районах моря, которые оно запретило, даже для защиты прав, право на защиту которых ни один современный публицист никогда прежде не ставил под сомнение. Намекают, что с вооруженной охраной, которую мы разместили на наших торговых кораблях, будут обращаться как с вышедшими за рамки закона и с ними будут обращаться так же, как с пиратами. Вооруженный нейтралитет в лучшем случае достаточно неэффективен; в таких обстоятельствах и перед лицом таких притязаний он более чем бесполезен: он, скорее всего, произведет только то, что должен был предотвратить; практически наверняка втянет нас в войну без прав и эффективности воюющих сторон. Есть один выбор, который мы не можем сделать, мы не в состоянии сделать: мы не выберем путь подчинения и не позволим игнорировать или нарушать самые священные права нашей нации и нашего народа. Ошибки, против которых мы сейчас выступаем, не являются обычными ошибками; они подрезают до самых корней человеческой жизни.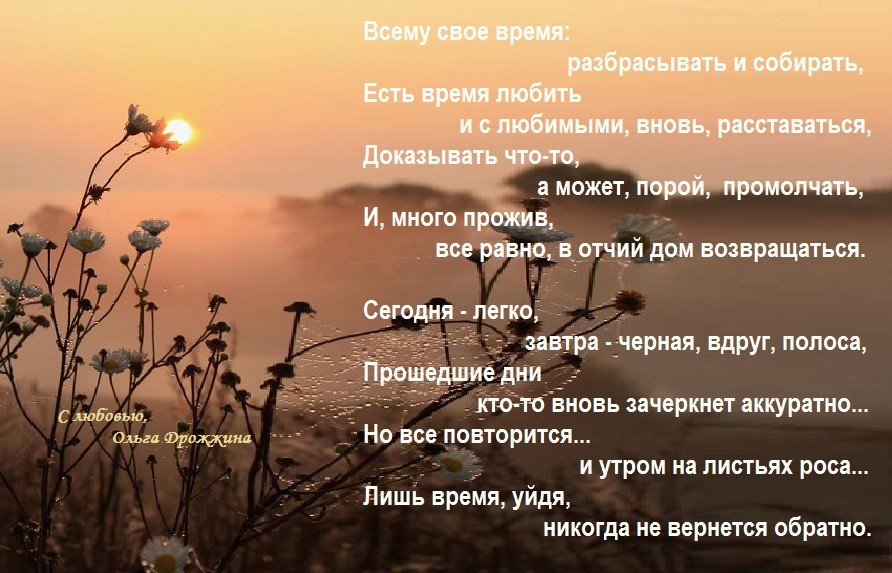
С глубоким чувством торжественного и даже трагического характера шага, который я предпринимаю, и серьезной ответственности, которую он влечет за собой, но в непоколебимом повиновении тому, что я считаю своим конституционным долгом, я советую Конгрессу объявить недавний курс Имперское правительство Германии на самом деле было не чем иным, как войной против правительства и народа Соединенных Штатов; официально принять навязанный ей таким образом статус воюющей стороны и предпринять немедленные шаги не только для того, чтобы привести страну в более надежное состояние обороны, но и приложить все свои силы и использовать все свои ресурсы, чтобы привести Правительство Германской империи смириться и положить конец войне.
Ясно, во что это выльется. Это потребует максимально возможного сотрудничества в советах и действиях с правительствами, которые сейчас находятся в состоянии войны с Германией, и, в связи с этим, предоставления этим правительствам самого либерального финансового кредита, с тем чтобы наши ресурсы могли быть, насколько это возможно, добавил к своим.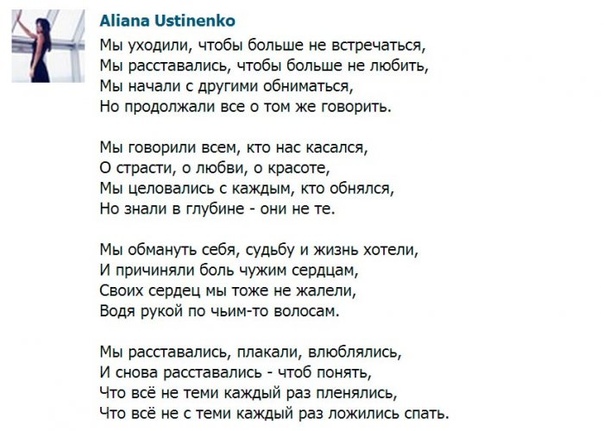 Это потребует организации и мобилизации всех материальных ресурсов страны для снабжения военными материалами и удовлетворения непредвиденных потребностей нации наиболее обильным и в то же время наиболее экономичным и эффективным способом. Это потребует немедленного полного оснащения военно-морского флота во всех отношениях, но особенно в обеспечении его лучшими средствами борьбы с подводными лодками противника. Он будет включать в себя немедленное пополнение вооруженных сил Соединенных Штатов, уже предусмотренных законом на случай войны, по крайней мере, на пятьсот тысяч человек, которые, по моему мнению, должны быть выбраны на основе принципа всеобщей воинской повинности, а также санкционирование последующих дополнительных приращений равной силы, как только они могут понадобиться и могут быть обработаны в процессе обучения. Это также потребует, конечно, предоставления адекватных кредитов правительству, поддерживаемых, я надеюсь, в той мере, в какой они могут быть справедливо поддержаны нынешним поколением, хорошо продуманным налогообложением.
Это потребует организации и мобилизации всех материальных ресурсов страны для снабжения военными материалами и удовлетворения непредвиденных потребностей нации наиболее обильным и в то же время наиболее экономичным и эффективным способом. Это потребует немедленного полного оснащения военно-морского флота во всех отношениях, но особенно в обеспечении его лучшими средствами борьбы с подводными лодками противника. Он будет включать в себя немедленное пополнение вооруженных сил Соединенных Штатов, уже предусмотренных законом на случай войны, по крайней мере, на пятьсот тысяч человек, которые, по моему мнению, должны быть выбраны на основе принципа всеобщей воинской повинности, а также санкционирование последующих дополнительных приращений равной силы, как только они могут понадобиться и могут быть обработаны в процессе обучения. Это также потребует, конечно, предоставления адекватных кредитов правительству, поддерживаемых, я надеюсь, в той мере, в какой они могут быть справедливо поддержаны нынешним поколением, хорошо продуманным налогообложением. Я говорю, что поддерживается в той мере, в какой это может быть справедливым путем налогообложения, потому что мне кажется, что было бы в высшей степени неразумно основывать кредиты, которые теперь потребуются, исключительно на заемных деньгах. Наш долг, я со всем уважением призываю, защищать наш народ, насколько это возможно, от очень серьезных лишений и бедствий, которые могут возникнуть из-за инфляции, вызванной огромными займами.
Я говорю, что поддерживается в той мере, в какой это может быть справедливым путем налогообложения, потому что мне кажется, что было бы в высшей степени неразумно основывать кредиты, которые теперь потребуются, исключительно на заемных деньгах. Наш долг, я со всем уважением призываю, защищать наш народ, насколько это возможно, от очень серьезных лишений и бедствий, которые могут возникнуть из-за инфляции, вызванной огромными займами.
При выполнении мер, посредством которых эти вещи должны быть достигнуты, мы должны постоянно помнить о мудрости как можно меньше вмешиваться в нашу собственную подготовку и в оснащение наших собственных вооруженных сил с обязанностью — ибо это будет очень практическая обязанность — снабжать нации, уже находящиеся в состоянии войны с Германией, материалами, которые они могут получить только от нас или с нашей помощью. Они в поле, и мы должны всячески помогать им быть там эффективными.
Я возьму на себя смелость предложить через несколько исполнительных департаментов правительства на рассмотрение ваших комитетов меры для достижения нескольких целей, которые я упомянул. Я надеюсь, что вам будет приятно иметь дело с ними, поскольку они были созданы после очень тщательного обдумывания той ветвью правительства, на которую самым непосредственным образом ляжет ответственность за ведение войны и защиту нации.
Я надеюсь, что вам будет приятно иметь дело с ними, поскольку они были созданы после очень тщательного обдумывания той ветвью правительства, на которую самым непосредственным образом ляжет ответственность за ведение войны и защиту нации.
В то время как мы делаем эти вещи, эти очень важные вещи, давайте будем очень ясными и ясно объясним всему миру, каковы наши мотивы и наши цели. Мои собственные мысли не были сбиты с привычного и нормального направления несчастливыми событиями последних двух месяцев, и я не верю, что они изменили или омрачили мысль нации. Теперь я имею в виду то же самое, что я имел в виду, когда обращался к сенату 22 января прошлого года, то же самое, что я имел в виду, выступая перед Конгрессом 3 февраля и 22 января. шестое февраля. Наша цель сейчас, как и тогда, состоит в том, чтобы отстоять принципы мира и справедливости в мировой жизни против корыстной и самодержавной власти и создать среди действительно свободных и самоуправляемых народов мира такое согласие цели и действий, которые отныне будут обеспечивать соблюдение этих принципов. Нейтралитет больше невозможен или желателен там, где речь идет о мире во всем мире и свободе его народов, и угроза этому миру и свободе заключается в существовании автократических правительств, поддерживаемых организованными силой, которая полностью контролируется их волей, а не волей их народа. Мы видели последний нейтралитет в таких обстоятельствах. Мы находимся в начале эпохи, в которой будет настаивать на том, чтобы среди наций и их правительств соблюдались те же нормы поведения и ответственности за совершенное зло, что и среди отдельных граждан цивилизованных государств.
Нейтралитет больше невозможен или желателен там, где речь идет о мире во всем мире и свободе его народов, и угроза этому миру и свободе заключается в существовании автократических правительств, поддерживаемых организованными силой, которая полностью контролируется их волей, а не волей их народа. Мы видели последний нейтралитет в таких обстоятельствах. Мы находимся в начале эпохи, в которой будет настаивать на том, чтобы среди наций и их правительств соблюдались те же нормы поведения и ответственности за совершенное зло, что и среди отдельных граждан цивилизованных государств.
Мы не ссоримся с немецким народом. У нас нет к ним никаких чувств, кроме симпатии и дружбы. Их правительство вступило в эту войну не по их импульсу. Это было не с их предыдущего ведома или одобрения. Это была война, определяемая так же, как в старые несчастливые дни, когда народы ни с кем не советовались со своими правителями, а войны провоцировались и велись в интересах династий или небольших групп честолюбцев, привыкших использовать своих собратьев в качестве пешек и инструментов.
Самоуправляемые нации не наполняют свои соседние государства шпионами и не устанавливают курс интриг, чтобы привести к какому-то критическому положению дел, которое даст им возможность нанести удар и завоевать. Такие конструкции можно успешно отрабатывать только под прикрытием и там, где никто не имеет права задавать вопросы. Хитро продуманные планы обмана или агрессии, передаваемые, быть может, из поколения в поколение, могут быть разработаны и сокрыты от света только в тайне двора или за тщательно охраняемым секретом узкого и привилегированного класса. Они, к счастью, невозможны там, где общественное мнение требует и требует полной информации обо всех делах страны.
Стойкий мир невозможен без партнерства демократических наций. Ни одному автократическому правительству нельзя было доверять в том, что касается сохранения веры в него или соблюдения его заветов. Это должна быть лига чести, партнерство мнений. Интрига съела бы его жизненные силы; заговоры внутренних кругов, которые могли бы планировать то, что они хотели бы, и ни перед кем не отчитываться, были бы коррупцией, сидящей в самом сердце. Только свободные пионы могут твердо держать свою цель и свою честь ради общей цели и предпочитать интересы человечества любым своим узким интересам.
Только свободные пионы могут твердо держать свою цель и свою честь ради общей цели и предпочитать интересы человечества любым своим узким интересам.
Не кажется ли каждому американцу, что наши надежды на грядущий мир во всем мире прибавили уверенности в чудесных и воодушевляющих событиях, которые произошли в России за последние несколько недель? Россия была известна тем, кто знал ее лучше всех, что она всегда была действительно демократична в душе, во всех жизненных складах своего мышления, во всех интимных отношениях своего народа, говоривших о его природном инстинкте, его привычном отношении к жизни. Самодержавие, венчавшее вершину ее политического строя, как бы долго оно ни стояло и как ни ужасна была действительность его могущества, на самом деле не было русским ни по происхождению, ни по характеру, ни по цели; а теперь оно стряхнулось и великий, великодушный русский народ во всем своем наивном величии и могуществе присоединился к силам, борющимся за свободу в мире, за справедливость и за мир. Вот подходящий партнер для Лиги Чести.
Вот подходящий партнер для Лиги Чести.
Одно из обстоятельств, которое убедило нас в том, что прусское самодержавие не было и никогда не могло быть нашим другом, состоит в том, что оно с самого начала настоящей войны наполнило наши ничего не подозревающие общины и даже наши правительственные учреждения шпионами и Повсюду затевают преступные интриги против нашего национального единства совета, нашего мира внутри и снаружи, нашей промышленности и нашей торговли. В самом деле, теперь очевидно, что его шпионы были здесь еще до начала войны; и, к сожалению, это не вопрос догадок, а факт, доказанный в наших судах, что интриги, которые не раз были опасно близки к нарушению спокойствия и разрушению промышленности страны, проводились по наущению, с поддержке и даже под личным руководством официальных представителей имперского правительства, аккредитованных при правительстве Соединенных Штатов. Даже проверяя эти вещи и пытаясь их искоренить, мы стремились дать им самое великодушное толкование, какое только возможно, потому что мы знали, что их источник лежит не во враждебных чувствах или намерениях немецкого народа по отношению к нам (который, без сомнения, так же невежественны о них, как и мы сами), но только в эгоистичных замыслах правительства, которое делало все, что ему заблагорассудится, и ничего не говорило своему народу. Но они сыграли свою роль, убедив нас, наконец, в том, что это правительство не питает к нам настоящей дружбы и намеревается действовать против нашего мира и безопасности по своему усмотрению. Красноречивым доказательством того, что это означает возбудить против нас врагов у самых наших дверей, является перехваченная записка германскому посланнику в Мехико.
Но они сыграли свою роль, убедив нас, наконец, в том, что это правительство не питает к нам настоящей дружбы и намеревается действовать против нашего мира и безопасности по своему усмотрению. Красноречивым доказательством того, что это означает возбудить против нас врагов у самых наших дверей, является перехваченная записка германскому посланнику в Мехико.
Мы принимаем этот враждебный вызов, потому что знаем, что при таком правительстве, следуя таким методам, у нас никогда не будет друга; и что в присутствии его организованной силы, всегда подстерегающей для достижения неизвестно какой цели, не может быть гарантированной безопасности для демократических правительств мира. Теперь мы собираемся принять меру битвы с этим естественным врагом на свободу и, если необходимо, израсходуем все силы нации, чтобы обуздать и свести на нет его притязания и его мощь. Мы рады теперь, когда мы видим факты без завесы ложного предлога о том, чтобы бороться таким образом за окончательный мир во всем мире и за освобождение его народов, включая германские народы: за права наций, больших и малых и привилегия людей повсюду выбирать свой образ жизни и послушания. Мир должен быть безопасным для демократии. Ее мир должен быть посажен на проверенном фундаменте политической свободы. У нас нет эгоистичных целей для служения.
Мир должен быть безопасным для демократии. Ее мир должен быть посажен на проверенном фундаменте политической свободы. У нас нет эгоистичных целей для служения.
Мы не желаем ни завоеваний, ни господства. Мы не ищем для себя никакой компенсации, никакой материальной компенсации за жертвы, которые мы добровольно приносим. Мы всего лишь один из защитников прав человечества. Мы будем удовлетворены, когда эти права будут защищены настолько, насколько это могут сделать вера и свобода наций. Именно потому, что мы сражаемся без злобы и без корыстных целей, не ища для себя ничего, кроме того, чем мы хотели бы поделиться со всеми свободными народами, я уверен, что мы будем проводить наши операции как воюющие стороны без страсти и сами с гордой пунктуальностью будем соблюдать принципы право и честная игра, за которую мы боремся.
Я ничего не сказал о правительствах, союзных имперскому правительству Германии, потому что они не объявили нам войну и не призвали нас защищать наши права и нашу честь.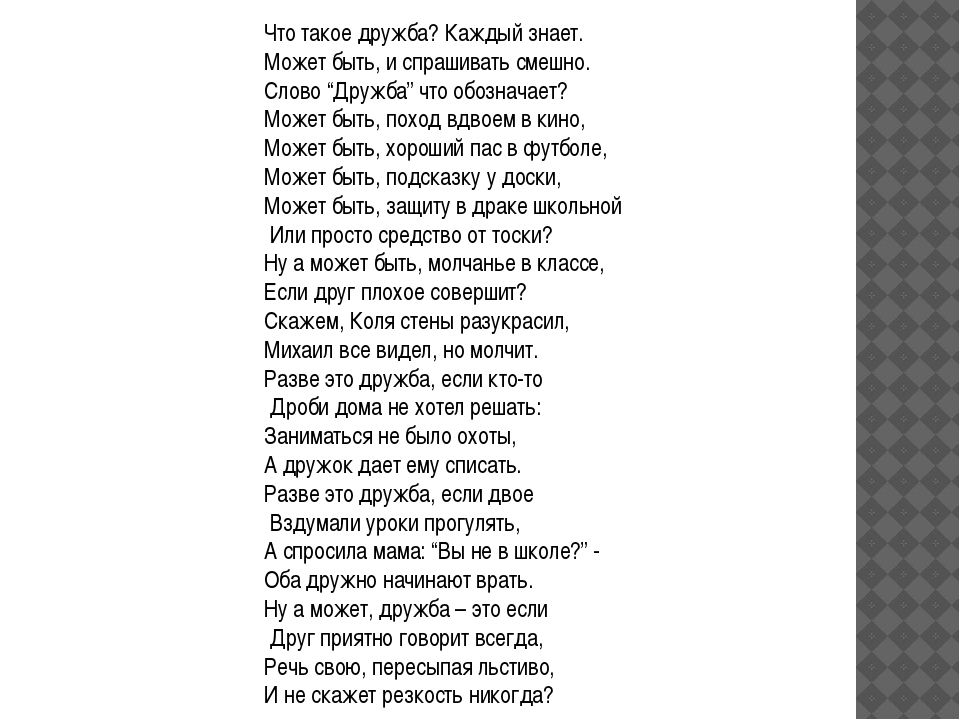 Правительство Австро-Венгрии действительно заявило о своей безоговорочной поддержке и признании безрассудной и беззаконной подводной войны, безоговорочно принятой имперским германским правительством, и поэтому это правительство не могло принять графа Тарновского, недавно посла. аккредитованы при этом правительстве имперским и королевским правительством Австро-Венгрии; но это правительство фактически не участвовало в военных действиях против граждан Соединенных Штатов на море, и я беру на себя смелость, по крайней мере на данный момент, отложить обсуждение наших отношений с властями в Вене. Мы вступаем в эту войну только там, где нас явно к ней принуждают, потому что других средств защиты своих прав нет.
Правительство Австро-Венгрии действительно заявило о своей безоговорочной поддержке и признании безрассудной и беззаконной подводной войны, безоговорочно принятой имперским германским правительством, и поэтому это правительство не могло принять графа Тарновского, недавно посла. аккредитованы при этом правительстве имперским и королевским правительством Австро-Венгрии; но это правительство фактически не участвовало в военных действиях против граждан Соединенных Штатов на море, и я беру на себя смелость, по крайней мере на данный момент, отложить обсуждение наших отношений с властями в Вене. Мы вступаем в эту войну только там, где нас явно к ней принуждают, потому что других средств защиты своих прав нет.
Нам будет тем легче вести себя как воюющие стороны в высоком духе справедливости и справедливости, потому что мы действуем без враждебности, не во вражде к людям или с желанием причинить им какой-либо вред или ущерб, а только в вооруженной оппозиции безответственному правительству, которое отбросило в сторону все соображения гуманности и справедливости и бесчинствует. Мы, повторяю еще раз, искренние друзья немецкого народа и ничего так сильно не желаем, как скорейшего восстановления тесных взаимовыгодных отношений между нами, как бы трудно им ни было на данный момент верьте, что это сказано от нашего сердца. Мы выдержали с их нынешним правительством все эти горькие месяцы благодаря этой дружбе, проявляя терпение и снисходительность, которые в противном случае были бы невозможны. К счастью, у нас все еще будет возможность доказать эту дружбу в нашем повседневном отношении и действиях по отношению к миллионам мужчин и женщин немецкого происхождения и местной симпатии, которые живут среди нас и разделяют нашу жизнь, и мы будем горды доказать это по отношению к все, кто на самом деле верен своим соседям и правительству в час испытания. Они, в большинстве своем, такие же настоящие и преданные американцы, как будто никогда не знали никакой другой верности или преданности. Они сразу же встанут вместе с нами в упреке и сдерживании тех немногих, кто может иметь иной образ мыслей и цели.
Мы, повторяю еще раз, искренние друзья немецкого народа и ничего так сильно не желаем, как скорейшего восстановления тесных взаимовыгодных отношений между нами, как бы трудно им ни было на данный момент верьте, что это сказано от нашего сердца. Мы выдержали с их нынешним правительством все эти горькие месяцы благодаря этой дружбе, проявляя терпение и снисходительность, которые в противном случае были бы невозможны. К счастью, у нас все еще будет возможность доказать эту дружбу в нашем повседневном отношении и действиях по отношению к миллионам мужчин и женщин немецкого происхождения и местной симпатии, которые живут среди нас и разделяют нашу жизнь, и мы будем горды доказать это по отношению к все, кто на самом деле верен своим соседям и правительству в час испытания. Они, в большинстве своем, такие же настоящие и преданные американцы, как будто никогда не знали никакой другой верности или преданности. Они сразу же встанут вместе с нами в упреке и сдерживании тех немногих, кто может иметь иной образ мыслей и цели. Если и проявится нелояльность, то с ней будет покончено твердой рукой суровых репрессий; но если оно вообще и поднимет голову, то поднимет ее только тут и там и без лица, за исключением немногих беззаконных и злонамеренных.
Если и проявится нелояльность, то с ней будет покончено твердой рукой суровых репрессий; но если оно вообще и поднимет голову, то поднимет ее только тут и там и без лица, за исключением немногих беззаконных и злонамеренных.
Это тягостный и угнетающий долг, господа члены Конгресса, который я исполнил, обращаясь к вам. Впереди, может быть, еще много месяцев огненных испытаний и жертв. Страшно вести этот великий миролюбивый народ к войне, к самой ужасной и губительной из всех войн, когда кажется, что сама цивилизация находится в равновесии.
Но право дороже мира, и мы будем бороться за то, что всегда было нам ближе всего, — за демократию, за право тех, кто подчиняется власти, иметь голос в своих правительствах, за права и свободы малых наций, для всеобщего господства права посредством такого соглашения свободных народов, которое принесет мир и безопасность всем нациям и сделает, наконец, сам мир свободным. Этой задаче мы можем посвятить наши Евы и наши состояния, все, чем мы являемся, и все, что у нас есть, с гордостью тех, кто знает, что настал день, когда Америка будет удостоена чести пролить свою кровь и свою силу за принципы. что дало ей рождение, счастье и покой, которыми она дорожила. Помоги ей Бог, иначе она не может.
что дало ей рождение, счастье и покой, которыми она дорожила. Помоги ей Бог, иначе она не может.
Что имел в виду президент Вильсон, когда призывал к «миру без победы» 100 лет назад? | История
Вудро Вильсон Харрис и Юинг22 января 1917 года Вудро Вильсон выступил перед совместным заседанием Конгресса и перед аудиторией, в которую входили его жена Эдит и одна из его дочерей, и сказал политикам, что Америка должна сохранять свой нейтралитет в Великой войне, опустошающей Европу в самый последний момент. время. Он изложил видение справедливого и мирного мира, будущего, включающего свободные моря, международное соглашение о предотвращении гонки вооружений, Соединенные Штаты, выступающие в роли миротворца, и, самое главное, мир без победы.
— Победа будет означать, что проигравшему навязывают мир, а побежденным — условия победителя, — сказал Уилсон. «Это было бы принято с унижением, под принуждением, за невыносимую жертву и оставило бы жало, обиду, горькую память, на которой покоился бы срок мира, но не навсегда, а только как на зыбучих песках».
Это была, пожалуй, самая запоминающаяся речь Вильсона на посту президента. Присутствующие в комнате, казалось, чувствовали ее тяжесть; но реакция варьировалась в зависимости от позиции каждого сенатора в отношении войны. Даже сенатор от Висконсина Роберт Ла Фоллетт, один из самых ярых изоляционистов в законодательном органе, заметил: «Мы только что пережили очень важный час в мировой истории». Затем был сенатор Фрэнсис Уоррен из Вайоминга, чья реакция выражала недоверчивую тревогу: «Президент думает, что он президент мира». И, наконец, сенатор Лоуренс Шерман, также ярый изоляционист, назвал речь откровенной глупостью: «Это заставит Дон Кихота пожалеть, что он не умер так рано».
Речь «мир без победы» стала кульминацией многолетней отчаянной дипломатии Вильсона. Мальчиком он был свидетелем Гражданской войны, что способствовало его желанию не посылать людей в окопы мясорубки в Европе. Несмотря на нападение Германии на британский лайнер Lusitania в 1915 году, когда погибло 128 американцев, Вильсон сразу после этого отказался объявить войну. Однако он потребовал, чтобы Германия сократила подводную войну и разрешила американским банкам предоставлять ссуды Великобритании, а американские боеприпасы отправлялись в Великобританию и ее союзников, и все это выдавало его личное отсутствие нейтралитета в отношении войны.
Однако он потребовал, чтобы Германия сократила подводную войну и разрешила американским банкам предоставлять ссуды Великобритании, а американские боеприпасы отправлялись в Великобританию и ее союзников, и все это выдавало его личное отсутствие нейтралитета в отношении войны.
Но антивоенные митинги таких разрозненных групп, как Союз женщин-христиан за трезвость (который выступал против использования детьми военных игрушек) и Объединение горняков (производившее большую часть угля, питающего фабрики и городские дома), усилили двойственное отношение Уилсон к отправке Американские войска за границей.
«Дело не в том, что они хотели, чтобы немцы победили, но они не думали, что американское вмешательство сможет исправить этот катаклизм», — говорит Майкл Казин, автор книги «Война против войны: американская борьба за мир» 19.14-1918.
18 декабря Вильсон отправил письма в иностранные посольства с просьбой об их соответствующих условиях мира, и он думал, что эти условия могут быть предметом переговоров.
«Я думаю, с одной стороны, Уилсон не хотел победы немцев, он был англофилом, — говорит Казин. «С другой стороны, США никогда раньше не воевали в Европе, и было ясно, что на самом деле может победить любая из сторон. Он все время хотел вмешаться и стать посредником, но не было ясно, что у него есть на это возможность».
Какими бы ни были его личные чувства, Уилсон твердо верил, что мир не может длиться долго, если он будет на стороне победителя, пишет ученый Роберт В. Такер. «Но он также верил, и, может быть, даже глубже, что мир без победы был необходим для того, чтобы донести до всех воюющих урок «бесполезности принесенных полнейших жертв»».
Другими словами, смерть всем солдатам и гражданским в Европе нужно было только это: смерть. Не героические жертвы, не мученичество за дело, а ужасные, ненужные смерти. Это было невероятно идеалистическое видение, в значительной степени оторванное от реальности того, как страдания на западном фронте меняют европейскую психику.
Всего за месяц до выступления Уилсона завершилась битва при Вердене. Десятимесячная битва привела к потерям 800 000 человек и только укрепила решимость каждой из сторон. Битва на Сомме также недавно закончилась, и британские потери в первый день составили более 57 000 человек. Один французский солдат, который вел дневник во время боев, описывал жизнь в окопах как адские пейзажи из грязи и крови. «Там, где присоединялась соединительная траншея, лежал несчастный, обезглавленный снарядом, как будто его гильотинировали. Рядом с ним другой был ужасно изуродован…» — писал капрал Луи Бартас. «Увидел, как в галлюцинациях, груду трупов… начали закапывать прямо в траншею». Ущерб от войны был настолько велик, что европейским державам казалось немыслимым принять мир без явного победителя.
В конце концов, идеализм Вильсона и крестовые походы антивоенных партий в США не смогли спасти страну от втягивания в конфликт. 30 января, всего через неделю после выступления Вильсона, Германия объявила о неограниченной подводной войне, а это означало, что американские торговые и пассажирские суда снова станут мишенью немецких подводных лодок.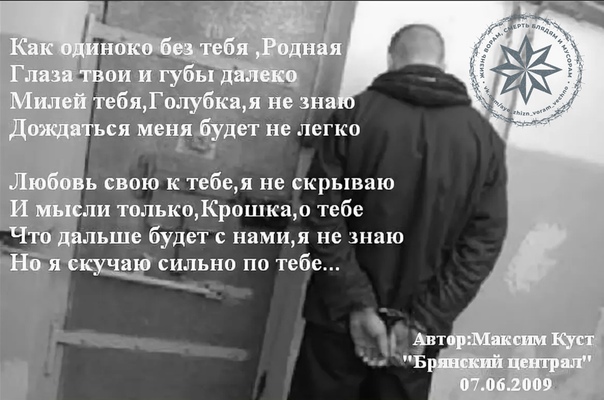 В ответ Вильсон разорвал дипломатические отношения с Германией, но все еще не решался просить Конгресс объявить войну. Но к концу марта, после того как Германия потопила несколько американских торговых судов, Вильсону ничего не оставалось, как просить Конгресс одобрить объявление войны Германской империи.
В ответ Вильсон разорвал дипломатические отношения с Германией, но все еще не решался просить Конгресс объявить войну. Но к концу марта, после того как Германия потопила несколько американских торговых судов, Вильсону ничего не оставалось, как просить Конгресс одобрить объявление войны Германской империи.
«Гений Вудро Вильсона признал, что прочный мир должен быть «миром без победы», — писал историк Джон Куган. «Трагедия Вудро Вильсона заключалась в том, что его собственный нейтралитет стал главным фактором решающей победы союзников, сделавшей невозможным исцеляющий мир».
Казин говорит, что идеализм Вильсона сохранялся на протяжении 1920-х и 30-х годов, даже несмотря на то, что сам этот человек умер в 1924 году, и попытки предотвратить будущие войны проявлялись в таких переговорах, как пакт Бриана-Келлога (1928 соглашение между странами Европы не прибегать к войне как средству решения международных вопросов). Но, несмотря на создание Организации Объединенных Наций, продолжение первоначальной идеи Вильсона о Лиге Наций, Казин считает, что часть этого идеализма иссякла в годы после Второй мировой войны, с болотом Вьетнама и войнами в Афганистане и Ираке.