Стихи о женщине бродский: Стихи Бродского Иосифа о женщине
5 самых пронзительных стихотворений Иосифа Бродского о любви
Юность Иосифа Бродского пришлась на непростое послевоенное время, и будущему поэту пришлось выбирать между образованием и финансовой помощью своей семье. Сознательно выбрав последнее, он бросил школу и устроился учеником фрезеровщика на завод «Арсенал». Потом Бродский загорелся мечтой о медицинской карьере и сумел получить место помощника прозектора в морге при областной больнице. Но эта работа не оправдала его ожиданий, и Иосиф Александрович продолжил менять специальности: работал истопником в котельной, участвовал в дальневосточных геологических экспедициях и даже служил матросом на маяке. В то же самое время Бродский зачитывался философскими и религиозными трудами, а также поэзией. Литература сильно его увлекла, и к концу 1950-х он стал вхож в творческие объединения молодых поэтов и завел знакомства с такими большими литераторами как Евгенией Рейн, Булат Окуджава и Сергей Довлатов.
В начале 1960-х Бродский и сам начал раскрываться как талантливый и незаурядный поэт. Но после его яркого выступления на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры имени Горького Иосиф Александрович стал мишенью для ленинградского КГБ. По мнению спецслужб, творчество начинающего поэта было слишком индивидуалистическим и даже пессимистическим, что противоречило советской идеологии. В результате Бродского выслали из Ленинграда на пять лет с обязательным привлечением к труду, но даже в ссылке он продолжал писать свои гениальные стихи. Вскоре творчество Иосифа Александровича распространилось за пределы СССР и было высоко оценено на Западе. Первое собрание его сочинений было переведено на английский язык и опубликовано в 1965 году, а пять лет спустя в Нью-Йорке вышла «Остановка в пустыне» — первое авторизованное издание Бродского.
Но после его яркого выступления на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры имени Горького Иосиф Александрович стал мишенью для ленинградского КГБ. По мнению спецслужб, творчество начинающего поэта было слишком индивидуалистическим и даже пессимистическим, что противоречило советской идеологии. В результате Бродского выслали из Ленинграда на пять лет с обязательным привлечением к труду, но даже в ссылке он продолжал писать свои гениальные стихи. Вскоре творчество Иосифа Александровича распространилось за пределы СССР и было высоко оценено на Западе. Первое собрание его сочинений было переведено на английский язык и опубликовано в 1965 году, а пять лет спустя в Нью-Йорке вышла «Остановка в пустыне» — первое авторизованное издание Бродского.
Таким образом, Иосиф Александрович уехал в ссылку двадцатитрехлетним молодым человеком, а вернулся уже известным поэтом. Но теперь его личность, овеянная славой и иностранным признанием, волновала КГБ еще сильнее, чем прежде. В 1972 году Бродского вызвали в подразделение МВД и настоятельно рекомендовали задуматься о переезде. Иосиф Александрович прекрасно понимал, что советская власть никогда не оставит его в покое, и 4 июня он навсегда покинул свою родину.
Иосиф Александрович прекрасно понимал, что советская власть никогда не оставит его в покое, и 4 июня он навсегда покинул свою родину.
В США Бродский вел занятия у студентов Мичиганского университета в качестве приглашенного литератора, и — конечно же — продолжал писать стихи и эссе. В 1987 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе, а четыре года спустя он занял пост консультанта Библиотеки Конгресса и запустил программу «Американская поэзия и грамотность», направленную на популяризацию литературы и распространение среди населения поэтических томов. В ночь на 28 января 1996 года у Бродского остановилось сердце вследствие инфаркта. Но память об этом великом человеке жива до сих пор благодаря его богатому литературному наследию, которое, кажется, никогда не потеряет своей актуальности.
«Я вас любил»
За основу стихотворения Бродский взял бессмертные строки, созданные Пушкиным. Но переделал их в созвучии со своей бездушной эпохой. Это горькая насмешка над тем, как возвышенные и прекрасные чувства уступили место эгоистичной и плотской любви.
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее: виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! Все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!
«Предпоследний этаж»
Это стихотворение было написано Бродским накануне ссылки и посвящено Марианне Басмановой — возлюбленной поэта. Их связывали непростые отношения, которые в какой-то момент переросли в любовный треугольник и принесли страдания всем его сторонам.
Предпоследний этаж
раньше чувствует тьму,
чем окрестный пейзаж;
я тебя обниму
и закутаю в плащ,
потому что в окне
дождь — заведомый плач
по тебе и по мне.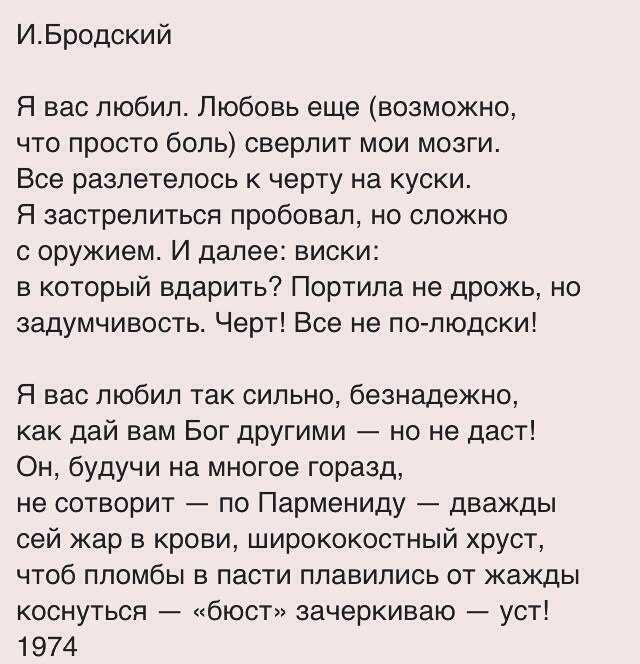
Нам пора уходить.
Рассекает стекло
серебристая нить.
Навсегда истекло
наше время давно.
Переменим режим.
Дальше жить суждено
по брегетам чужим.
Card Марианна Басманова
«Дебют»
Главные герои стихотворения вступают во «взрослую» жизнь, но делают этот важный шаг крайне нелепо, руководствуясь лишь эгоистичными порывами и желанием самоутвердиться. В «Дебюте» чувствуется привкус горечи и разочарования.
1
Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга,
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.
А воскресенье началось с дождя,
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
с неплотно в стену вбитого гвоздя.
Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая,
квартира в этот час уже спала.
Она лежала в ванне, ощущая
Всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.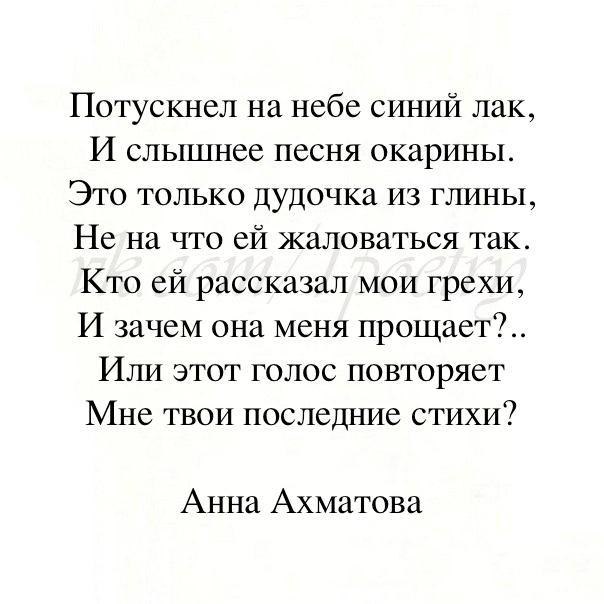
2
Дверь тихо притворившая рука
была — он вздрогнул — выпачкана, пряча
ее в карман, он услыхал, как сдача
с вина плеснула в недра пиджака.
Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки
он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ
сорвалось слово (Боже упаси
от всякого его запечатленья),
и если б тут не подошло такси,
остолбенел бы он от изумленья.
Он раздевался в комнате своей,
не глядя на пропахивающий потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом.
«Любовь»
В эмиграции Бродский особенно остро чувствовал тоску по своей бывшей возлюбленной. Она изменила ему с его лучшим другом, отказалась уехать вместе с ним из страны. Но поэт так и не смог забыть ее.
Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных, — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.
«Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…»
Стихотворение было написано Бродским в 1989 году и вновь посвящено Марианне Басмановой. На тот момент они не виделись уже больше 15 лет.
На тот момент они не виделись уже больше 15 лет.
Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.
Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.
Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь — человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.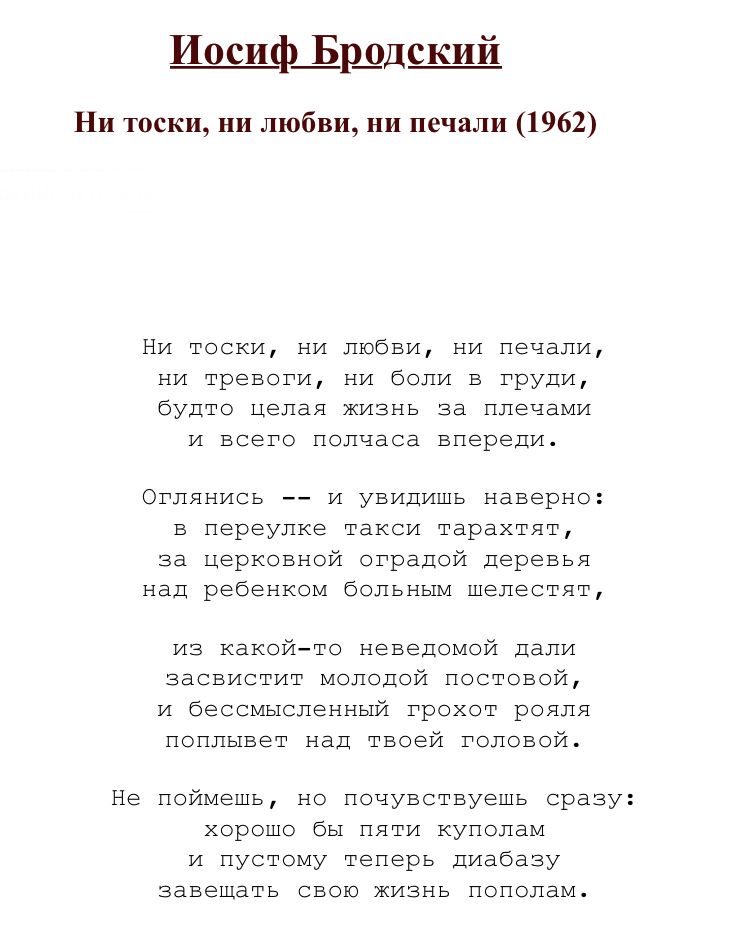
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.
Фото: Getty Images
Мария Тюмерина
Иосиф Бродский: в день рождения с любовью!
24 мая 1940 года в Ленинграде родился Иосиф Бродский, русский поэт, эссеист и педагог. 82 года спустя, в день рождения одного из самых значимых поэтов ХХ века, творческие люди современности рассказывают о Бродском в их жизни, и о том, правда ли, что его «так называемые стихи приносят людям пользу».
© italianskieslova.comЯ не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это —
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт.
Свобода —
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.
1976 г.
Иван Плющ, художник
Бродский олицетворяет не только поэта, но и «мученика», ненужного в своей стране человека. Очень понятная для истории России ситуация, ситуация, вплетенная в ментальность русского человека. Казалось, что пора героев-мучеников останется в тех временах, но современная, новая история говорит об обратном, увы.
Поэт символизирует свободу, Бродский же символизирует ее в максимуме.
Для меня это в образе Поэта, пожалуй, самое важное.
Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.
Я был лишь тем, что ты
там, снизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже — черты.
Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.
Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.
Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.
Так творятся миры.
Так, сотворив их, часто
оставляют вращаться,
расточая дары.
Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар.
Марат Шемиунов, артист балета
Считается, что Бродский — поэт слишком серьезный, сложный, чтобы понимать его — надо «дорасти», или входить в определенное состояние. Конечно, к нему нужно прийти, но это относится ко всему: всему свое время, свой Бродский.
Моя бабушка — Зинаида Иосифовна, я родился с ассоциацией Бродского как своего прадеда. Бродский — еврей! Его поэзия — глубокий смысл, полный метафор и аллегорий. Еврей — не как национальный ориентир, но как мудрый раввин и как диссидент, художник, который покинул родину под грифом «инакомыслящий». Основной бэкграунд его творчества — это песни родине в американском формате мышления, через эхо свободы.
Его дружба с танцовщиком всех времен Михаилом Барышниковым создала поистине прекрасное, на грани крушения, мифа о нашем искусстве, стихотворение «Моему другу Михаилу Барышникову»:
Классический балет есть замок красоты,
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой
пиликающей ямой оркестровой
отделены. И задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,
И задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,
и, крылышкуя скорописью ляжек,
красавица, с которою не ляжешь,
одним прыжком выпархивает в сад. Мы видим силы зла в коричневом трико,
и ангела добра в невыразимой пачке.
И в силах пробудить от элизийской спячки
овация Чайковского и Ко. Классический балет! Искусство лучших дней!
Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,
и мчались лихачи, и пелось бобэоби,
и ежели был враг, то он был — маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола.
В каких рождались, в тех и умирали гнездах.
И если что-нибудь взлетало в воздух,
то был не мост, а Павлова была. Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вкруг собственной оси рождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться, —
земля везде тверда; рекомендую США.
После описания пухопарящей Истоминой в «Онегине» Пушкина это, наверное, самое гениальное сказанное о балете, такое же гениальное, как и адресат творения.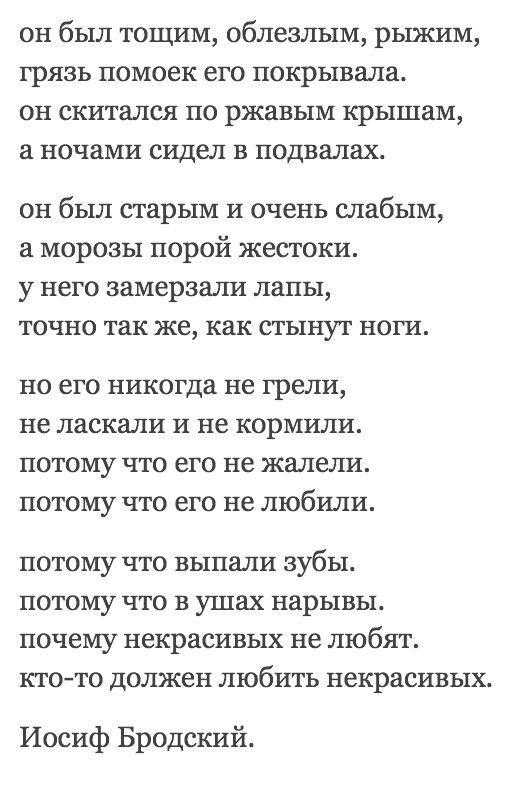 Их успех, конечно, основан на освобождения призмы мышления, в случае с Бродским — это слово, его право, свободы и форма, в случае с Барышниковым — это хореография. Я говорю о русской культуре, о корнях поэта — русской речи и русской поэзии. Возможность использовать этот ресурс популяризации целей искусства в капиталистическом государстве вывела эти таланты на новый уровень. Похожая история с Баланчиным, Рахманиновым, Стравинским, Довлатовым, Годуновым.
Их успех, конечно, основан на освобождения призмы мышления, в случае с Бродским — это слово, его право, свободы и форма, в случае с Барышниковым — это хореография. Я говорю о русской культуре, о корнях поэта — русской речи и русской поэзии. Возможность использовать этот ресурс популяризации целей искусства в капиталистическом государстве вывела эти таланты на новый уровень. Похожая история с Баланчиным, Рахманиновым, Стравинским, Довлатовым, Годуновым.
Я не считаю Бродского тем поэтом, томик стихов которого должен быть постоянно под рукой, или на прикроватной тумбочке, чтобы можно было перечитывать под настроение. Мне в костюмерном цехе в мастерских нашего театра швея-мотористка подарила томик Омара Хайяма в золотом переплете, я носил его с собой и читал по строчке в день, а потом из его мудростей премудростей понял истину — не сотвори себе кумира.
© italianskieslova.com
Когда так много позади
Всего, в особенности — горя,
Поддержки чьей-нибудь не жди,
Сядь в поезд, высадись у моря.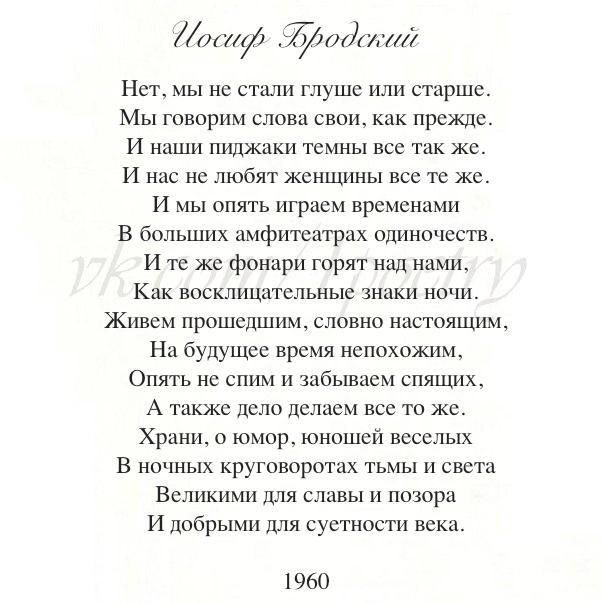
Оно обширнее. Оно
И глубже. Это превосходство —
Не слишком радостное. Но
Уж если чувствовать сиротство,
То лучше в тех местах, чей вид
Волнует, нежели язвит.
Ирина Дрозд, художник
«У пророков не принято быть здоровым»
Бродский.
Интересно, что все личности, оставившие след в культуре и развитии цивилизации человечества, имели невротические или другие отклонения. Отклонения от так называемой нормы, условно принятой большинством. Бродский, великий поэт, состоял на учете в ПНД с диагнозом «невроз», а также ему ставили «шизоидное расстройство личности». В его произведениях пульсирует боль, предельная острота восприятия окружающего мира — чувствительность к малейшим деталям человека, его чувств и быта. Да, действительно — это не норма, это гений.
© italianskieslova.com
Переживи всех.
Переживи вновь,
словно они — снег,
пляшущий снег снов.
Переживи углы.
Переживи углом.
Перевяжи узлы
между добром и злом.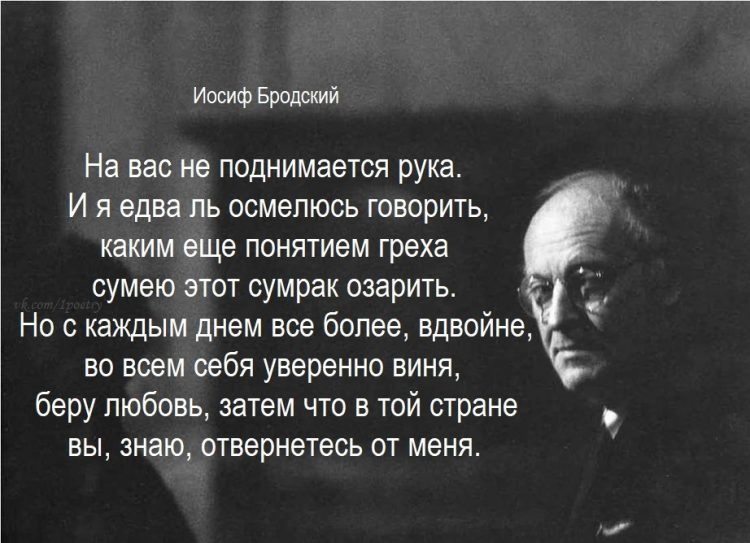
Но переживи миг.
И переживи век.
Переживи крик.
Переживи смех.
Переживи стих.
Переживи всех.
Мария Бошакова, директор по развитию журнала Точка ART
То, насколько поэзия Бродского проникает в ДНК его читателей, я поняла, когда впервые оказалась в Париже, в Люксембургском саду. Удивительно, но стоило мне увидеть статую шотландской королевы, как в голове тут же зазвучали строки из «12 сонетов к Марии Стюарт» :
«Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады.»
Это было удивительно — как будто у меня, читавшей цикл достаточно давно, нашелся эмоциональный ключ не просто к личному переживанию, но к тому, чтобы впустить его в общий исторический коридор. Как это сделал и сам Бродский, модернистки и очень остроумно переплетший в сонетах многочисленные аллюзии — от английской истории до собственных детских пост-блокадных воспоминаний. И именно в этом ценность поэзии Бродского для меня: она способна превратить любое заурядное событие, достойное трактата Парменида.
Наш прошлогодний материал, посвященный Иосифу Бродскому в Яндекс.Дзен
Теги: Иосиф Бродский
Стихи Иосифа Бродского [617 стихотворений] читать творчество поэта
Перейти к содержанию
Search for:
Главная » Иосиф Бродский
Категории
Лучшие произведения и стихи
Все стихотворения Бродского
1 сентября (Первое сентября) — Иосиф Бродский
1 января 1965 года
13 очков, или стихи о том, кто открыл Америку
1867 год
1972 год
1983 год
20 сонетов к Марии Стюарт
24 декабря 1971 года
25 декабря 1993
500 одеял — Иосиф Бродский
Anno Domini
Aqua vita nuova
Bagatelle
Einem alten architekten in rom
Ex oriente
Ex ponto
Fin de siecle
MCMXCIV — Иосиф Бродский
Post aetatem nostram
Postscriptum (Постскриптум)
Presepio
Ritratto di donna
Science fiction
А здесь жил Мельц
А здесь жила Петрова
А.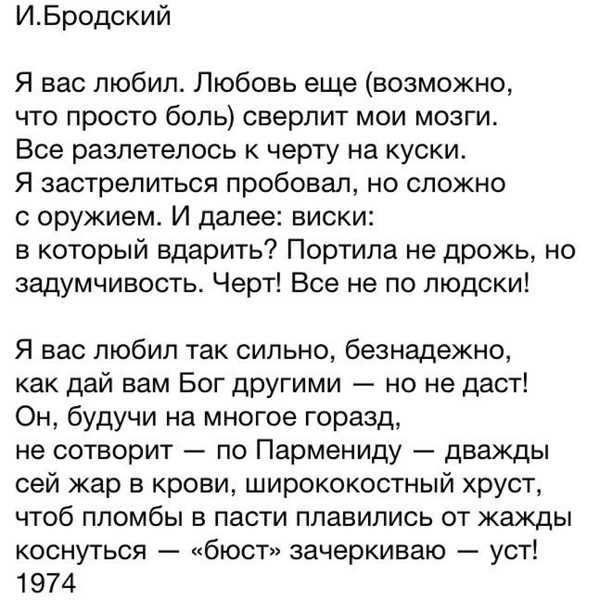 А. Ахматовой
А. Ахматовой
Август
Августовские любовники
Акростих
Анкета
Анне Андреевне Ахматовой
Архитектура — И. Бродский
Ахматовой
Бабочка
Баллада о маленьком буксире
Барбизон Террас
Бегство в Египет
Бегство в Египет II
Без фонаря
Бессмертия у смерти не прошу
Блестит залив, и ветр несет
Большая элегия Джону Донну
Брожу в редеющем лесу
Буров тракторист
Был черный небосвод светлей тех ног
Бюст Тиберия — Иосиф Бродский
В альбом Натальи Скавронской
В Англии
В горах
В городке, из которого смерть расползалась
В горчичном лесу
В деревне Бог живет не по углам
В деревне никто не сходит с ума
В деревне, затерявшейся в лесах
В деревянном доме, в ночи
В замерзшем песке
В Италии
В канаве гусь, как стереотруба
В кустах Финляндии бессмертной
В одиночке желание спать
В озёрном краю
В окрестностях Александрии
В окрестностях Атлантиды
В отеле Континенталь
В Паланге
В письме на юг
В прошлом те, кого любишь, не умирают
В пустом, закрытом на просушку парке
В разгар холодной войны
В распутицу
В семейный альбом
В следующий век
В стропилах воздух ухает, как сыч
В твоих часах не только ход, но тишь
В темноте у окна
В феврале далеко до весны — Иосиф Бродский
В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой
В этой маленькой комнате все по-старому
Вальсок
Вдоль темно-желтых квартир
Венецианские строфы (1)
Венецианские строфы (2)
Вертумн
Весы качнулись
Ветер оставил лес
Вечер. Развалины геометрии
Развалины геометрии
Взгляни на деревянный дом
Вид с холма
Византийское
Витезслав Незвал
Вместе они любили
Война в убежище Киприды
Волосы за висок
Воронья песня
Воротишься на родину
Воспоминание
Воспоминания
Восславим приход весны
Восходящее желтое солнце следит косыми
Вот я вновь принимаю парад
Вполголоса — конечно, не во весь
Время года — зима
Время подсчета цыплят ястребом
Все дальше от твоей страны
Все чуждо в доме новому жильцу
Всегда остается возможность выйти из дому
Второе Рождество на берегу
Выздоравливающему волосику
Выступление в Сорбонне
Гвоздика — Иосиф Бродский
Глаголы
Гладиаторы
Голландия есть плоская страна
Горбунов и Горчаков
Горение
Гуернавака
Два часа в резервуаре
Дедал в Сицилии
Декабрь во Флоренции
День кончился, как если бы она
Дерево
Деревья в моем окне, в деревянном окне
Деревья окружили пруд
Деревянный лаокоон, сбросив на время гору — Иосиф Бродский
Диалог
Дидона и Эней
Для школьного возраста
Дни бегут надо мной
Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою
Дождь в августе
Доклад для симпозиума
Долговечнее меди
Дом тучами придавлен до земли
Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
Дорогому Д.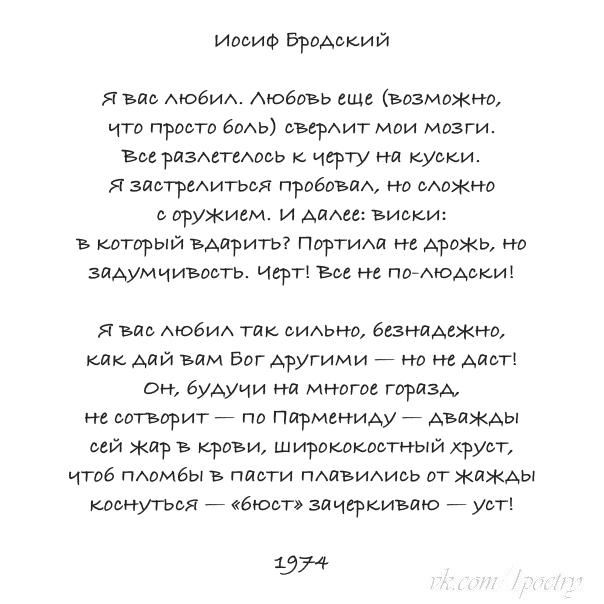
Другу-стихотворцу
Еврейское кладбище около Ленинграда
Если что-нибудь петь, то перемену ветра
Еще пробирались на ощупь
Желтая куртка — Иосиф Бродский
Жизнь в рассеянном свете
Забор пронзил подмерзший наст
Загадка ангелу
Зажегся свет
Замерзший кисельный берег
Заметка для энциклопедии
Заморозки на почве и облысенье леса
Заснешь с прикушенной губой
Затем, чтоб пустым разговорцем
Зачем опять меняемся местами
Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою
Зимним вечером в Ялте
Зимним вечером на сеновале
И вечный бой
Из Альберта Эйнштейна
Из ваших глаз пустившись в дальний путь
Из Парменида
Из школьной антологии
Иллюстрация
Инструкция заключенному
Инструкция опечаленным
Исаак и Авраам — Иосиф Бродский
Иския в октябре
Испанская танцовщица
История двойки
Итак, пригревает
Июль, сенокос
Июльское интермеццо
К Евгению
К переговорам в Кабуле
К садовой ограде
К северному краю
К семейному альбому прикоснись
К стихам
К Урании
Как вдоль коричневой казармы
Как давно я топчу, видно по каблуку
Как славно вечером в избе — Иосиф Бродский
Как тюремный засов
Камерная музыка
Камни на земле
Каппадокия
Квинтет
Келломяки
Кентавры
Клоуны разрушают цирк
Когда подойдёт к изголовью
Когда так много позади
Колесник умер, бондарь
Колокольчик звенит
Колыбельная
Колыбельная трескового мыса
Конец прекрасной эпохи
Кончится лето, начнется сентябрь
Корнелию Долабелле
Крик в Шереметьево
Критерии
Кто их оттуда поднимет
Кто к минувшему глух
Курс акций
Кушнеру
Лагуна
Ландсвер-канал, Берлин
Лёва Скоков хочет полететь на Луну
Леонской
Лесная идиллия
Лети отсюда, белый мотылек
Летняя музыка
Литовский дивертисмент
Литовский ноктюрн Томасу Венцлова
Ломтик медового месяца
Лучше всего спалось на Савеловском
Люби проездом родину друзей
Любовь
Малиновка
Маятник о двух ногах
Мексиканский романсеро
Менуэт
Меня упрекали во всем
Мерида
Метель в Массачусетсе
Миновала зима. Весна
Весна
Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня
Михаилу Барышникову
Мне говорят, что нужно уезжать
Мои слова, я думаю, умрут
Мой голос, торопливый и неясный
Моллюск
Морозный вечер
Морские маневры
Моя свеча, бросая тусклый свет
Мужчина, засыпающий один
Мы вышли с почты прямо на канал
Мы жили в городе цвета окаменевшей водки
Мы незримы будем
Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга
На 22-е декабря 1970 года Якову Гордину
На вас не поднимается рука
На Виа Джулиа
На виа Фунари
На выставке Карла Вейлинка
На независимость Украины
На отъезд гостя
На прения с самим собою ночь
На смерть друга
На смерть Жукова
На смерть Роберта Фроста
На смерть Т.С. Элиота
На столетие Анны Ахматовой
На титульном листе
Набережная реки Пряжки
Набросок
Над восточной рекой
Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия
Надпись на книге
Назидание
Назо к смерти не готов
Наряду с отоплением в каждом доме
Настеньке Томашевской в Крым
Наступает весна
Натюрморт
Не важно, что было вокруг, и не важно
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
Не знает небесный снаряд
Не слишком известный пейзаж
Не тишина — немота
Не то Вам говорю, не то
Неоконченное
Неоконченный отрывок
Неоконченный отрывок (Во время ужина)
Нет, Филомела, прости
Ни тоски, ни любви, ни печали
Ниоткуда с любовью
Ничем, Певец, твой юбилей
Ничто не стоит сожалений
Новая Англия
Новая жизнь
Новые стансы к Августе
Новый год на Канатчиковой даче
Новый Жюль Верн
Ночной полет
Ночь, одержимая белизной
Ноябрьским днем
Ну, время песен о любви
Ну, как тебе в грузинских палестинах
О если бы птицы пели и облака скучали
О этот искус рифмы плесть
Облака
Огонь, ты слышишь, начал угасать
Одиночество
Одиссей Телемаку
Однажды во дворе на Моховой
Одной поэтессе
Одному тирану
Около океана, при свете свечи
Октябрь месяц грусти и простуд
Октябрьская песня
Он знал, что эта боль в плече
Она надевает чулки, и наступает осень
Они вдвоем глядят в соседний сад
Описание утра
Определение поэзии
Орфей и Артемида
Освоение космоса
Осенний вечер в скромном городке
Осенний крик ястреба
Осень в Норенской
Осень хорошее время, если вы не ботаник
Осенью из гнезда
Оставив простодушного скупца
Остановка в пустыне
Остров Прочида
От окраины к центру
Ответ на анкету
Отказом от скорбного перечня
Открытка из города К
Открытка из Лиссабона
Открытка с тостом
Откуда к нам пришла зима
Отнюдь не вдохновение, а грусть
Отрывок (Из слез, дистиллированных зрачком)
Отскакивает мгла
Памяти Геннадия Шмакова
Памяти Е.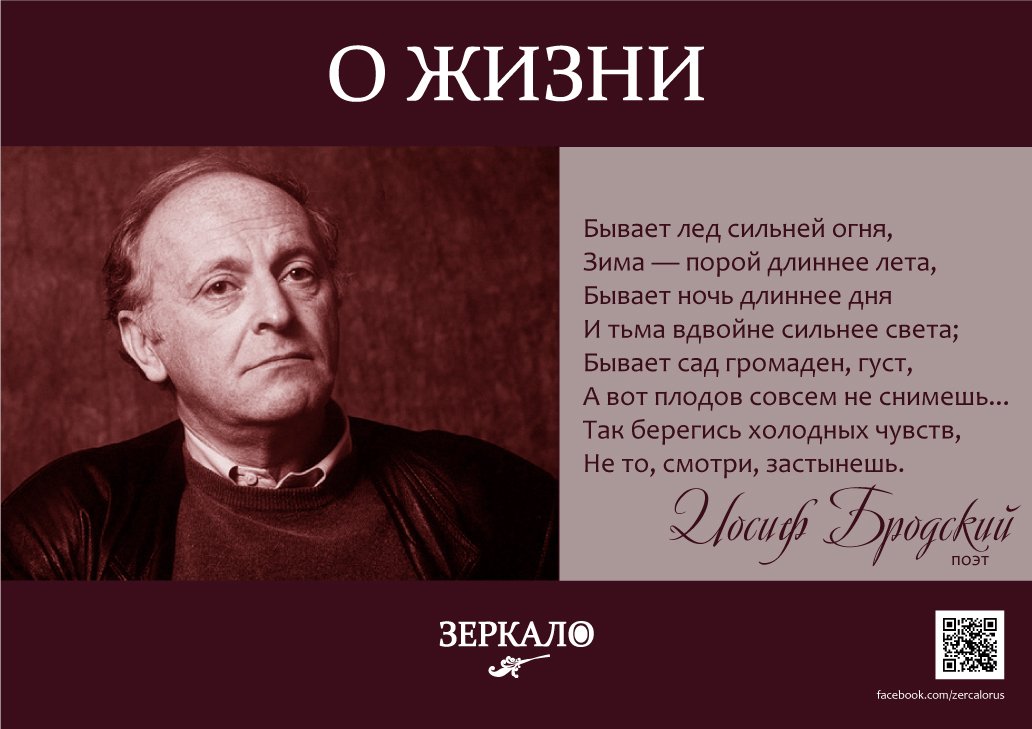 А. Баратынского
А. Баратынского
Памяти Клиффорда Брауна
Памяти Н.Н.
Памяти отца (Австралия)
Памяти профессора Браудо
Памяти Т. Б.
Памяти Феди Добровольского
Памятник
Памятник Пушкину
Пенье без музыки
Перед памятником Пушкину в Одессе
Перед прогулкой по камере
Переселение
Персидская стрела
Песенка о свободе
Песенка о Феде Добровольском
Песни счастливой зимы
Песня невинности, она же — опыта
Песня о красном свитере
Песня пустой веранды
Песчаные холмы, поросшие сосной
Петербургский роман (поэма в трёх частях)
Петухи
Пилигримы
Письма династии Минь
Письма к стене
Письма римскому другу
Письмо в академию
Письмо в бутылке
Письмо в оазис — Иосиф Бродский
Письмо генералу Z
Письмо к А.Д.
По дороге на Скирос
Повернись ко мне в профиль
Пограничной водой наливается куст
Под вечер он видит, застывши в дверях
Под занавес
Под раскидистым вязом
Подражание Горацию
Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром
Подражая Некрасову, или любовная песнь Иванова
Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне
Подсвечник
Подтверждается дым из трубы
Покинул во тьме постель
Полдень в комнате
Полевая эклога
Полонез
Полярный исследователь
Помнишь свалку вещей на железном стуле
Пора давно за все благодарить
Портрет трагедии
Посвящается Джироламо Марчелло
Посвящается Пиранези
Посвящается стулу
Посвящается Ялте
Посвящение
Посвящение Глебу Горбовскому
После нас, разумеется, не потоп
Послесловие — Иосиф Бродский
Послесловие к басне
Потому что каблук оставляет следы
Похож на голос головной убор
Похороны Бобо
Почти элегия
Прачечный мост
Предпоследний этаж
Представление
Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере
При слове «грядущее» из русского языка
Приглашение к путешествию
Прилив
Примечание к прогнозам погоды
Примечания папоротника
Пристань Фегердала
Притча
Приходит время сожалений
Приходит март
Пришла зима, и все, кто мог лететь
Провинциальное
Пролитую слезу
Проплывают облака
Пророчество
Просыпаюсь по телефону, бреюсь
Проходя мимо театра Акимова
Прошел сквозь монастырский сад
Прошел январь за окнами тюрьмы — Иосиф Бродский
Прощай
Прощайте, мадемуазель Вероника
Прощальная ода
Сборники, печатные издания и книги источники:
- Иосиф Бродский, Собрание сочинений, в 4 томах.
 Составитель и издатель Владимир Марамзин. Ленинград: «Самиздат», 1972.
Составитель и издатель Владимир Марамзин. Ленинград: «Самиздат», 1972. - Сочинения И. Бродского: В 7 т / ред. Я. Гордин. — СПб.: Пушкинский фонд, 1997—2001.
- Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы: В 2 т / сост. и примеч. Л. Лосева. — СПб.: Пушкинский дом, 2011.
- Проффер Тисли Э. Бродский среди нас = Brodsky Amoung Us / Пер. с англ. В. Голышев. — М.: АСТ, Corpus, 2015. — 224 с. — 8000 экз. — ISBN 978-5-17-088703-3.
- Loseff L. Joseph Brodsky. A literary life. Translated by Jane Ann Miller. Yale University Press, 2010.
- Brodsky’s Poetics and Aesthetics / Ed. by L. Loseff and V. Polukhina. — N. Y., 1990.
Читайте также этих известных авторов и поэтов
«Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…»
«Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…» | Colta. ru
ru
27 ноября 2020Литература
23279
текст: Юрий ЛевингФотография Аннелизы Аллевы© Из частного архива
В петербургском издательстве Perlov Design Center вышел трехтомник «Иосиф Бродский в Риме», подготовленный и составленный Юрием Левингом. Издание состоит из отдельного «Путеводителя» по Риму Бродского, тома «Поэзия, проза, графика», включающего рисунки и тексты — в том числе неопубликованные — Бродского, посвященные Риму, и подробных «Трудов и дней» поэта в Риме — хроники, воспоминаний и интервью римских друзей и собеседников Бродского со всего света.
Для публикации на COLTA.RU мы выбрали один из разговоров Юрия Левинга из третьего тома издания — беседу с Сильвией Ронкей, итальянской писательницей, критиком и телеведущей, профессором классической филологии и византологии Римского университета. Ронкей в 1981 году окончила Университет Пизы по специальности «византийская филология», впоследствии изучала греческие церковные манускрипты и проводила исследования под руководством выдающегося историка-византиниста А.П. Каждана в вашингтонском Центре изучения Византии.
Ронкей в 1981 году окончила Университет Пизы по специальности «византийская филология», впоследствии изучала греческие церковные манускрипты и проводила исследования под руководством выдающегося историка-византиниста А.П. Каждана в вашингтонском Центре изучения Византии.
© PERLOV DESIGN CENTER
— Давайте начнем с начала. Расскажите, как произошло ваше знакомство с Иосифом Бродским.
— Мне было 20 лет, и я заканчивала университет, когда стихи Бродского только появились в переводе Буттафавы в серии издательства «Мондадори» Lo Specchio. Я прочитала их и пришла в восхищение. Было лето — не могу вспомнить, какого года, но я училась на третьем курсе. Скорее всего, 1979-го. Вскоре после этого он приехал в Рим по приглашению Американской академии. Вообще он приезжал и до этого — например, для участия в поэтических чтениях. Тогда в Италии была мода на поэзию, и организатором очередного фестиваля выступил Франко Корделли [1].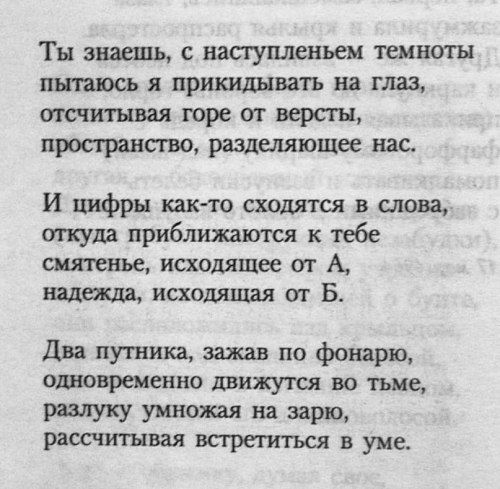 Он и пригласил Бродского, но тогда мы не встретились. Это произошло несколько месяцев спустя, когда он приехал снова уже в качестве стипендиата по приглашению Американской академии. Издательство «Мондадори» устроило вечеринку у Марии Стеллы Сернас — светской дамы, хотя далеко не интеллектуалки [2], где мы и познакомились. У меня была с собой книга его стихов, изданных на итальянском. А он был бабником, и я думаю, что каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову. После первой встречи у нас было несколько свиданий, и я очень интересовалась его стихами о России. Надо заметить, что сразу после моего рождения мой отец был назначен корреспондентом и уехал жить в Москву вместе с матерью, которая получила должность атташе по культуре при посольстве Италии. Тогда шел 1958 год, хрущевский период, очень интересное время.
Он и пригласил Бродского, но тогда мы не встретились. Это произошло несколько месяцев спустя, когда он приехал снова уже в качестве стипендиата по приглашению Американской академии. Издательство «Мондадори» устроило вечеринку у Марии Стеллы Сернас — светской дамы, хотя далеко не интеллектуалки [2], где мы и познакомились. У меня была с собой книга его стихов, изданных на итальянском. А он был бабником, и я думаю, что каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову. После первой встречи у нас было несколько свиданий, и я очень интересовалась его стихами о России. Надо заметить, что сразу после моего рождения мой отец был назначен корреспондентом и уехал жить в Москву вместе с матерью, которая получила должность атташе по культуре при посольстве Италии. Тогда шел 1958 год, хрущевский период, очень интересное время.
— В какой газете он работал?
— La Stampa. Он пробыл там три года.
— В Москве?
— Да. Но не только, конечно. Он много путешествовал — по-моему, трижды ездил в Сибирь, присутствовал на похоронах Пастернака. Он был одним из немногих итальянских журналистов, кто не просто понимал события того времени, но и был их свидетелем. Он набрался опыта и был достаточно известен, написал ряд книг [3]. Мне Россия всегда была интересна в связи с моим одиноким детством: я читала русские народные сказки, которые мне присылали родители, слушала русские колыбельные. Я с нежностью отношусь к русскому языку и вообще атмосфере, потому что это мои родители, мое детство.
Но не только, конечно. Он много путешествовал — по-моему, трижды ездил в Сибирь, присутствовал на похоронах Пастернака. Он был одним из немногих итальянских журналистов, кто не просто понимал события того времени, но и был их свидетелем. Он набрался опыта и был достаточно известен, написал ряд книг [3]. Мне Россия всегда была интересна в связи с моим одиноким детством: я читала русские народные сказки, которые мне присылали родители, слушала русские колыбельные. Я с нежностью отношусь к русскому языку и вообще атмосфере, потому что это мои родители, мое детство.
— Вы остались в Италии, когда они уехали?
— Да, отец не хотел, чтобы я ехала с ними. Он боялся, что если его будет сопровождать ребенок, то он, как иностранный корреспондент, станет уязвимой мишенью для шантажа или мести… Но я все же отправилась в Россию, когда стала старше. Меня разбирало любопытство; я побывала в Ленинграде, Москве, но увидела очень мало, даже будучи представителем интеллектуальной профессии, а не просто туристкой. Вы сами знаете, как это было трудно и опасно — наладить связи с тамошней профессурой. Поэтому Бродский был незаменимым источником информации. Хотя наше первое знакомство было из рода «мачо подклеил студенточку», я думаю, что в итоге мы подружились на почве любознательности.
Вы сами знаете, как это было трудно и опасно — наладить связи с тамошней профессурой. Поэтому Бродский был незаменимым источником информации. Хотя наше первое знакомство было из рода «мачо подклеил студенточку», я думаю, что в итоге мы подружились на почве любознательности.
— А как же разница в возрасте?
— Мне было двадцать, ему — сорок. Не такая уж и большая. У него было в Риме много подруг, и я думаю, что видела, в отличие от остальных, общую картину, а потому я была еще и его советчицей в любовных делах. Я была очень молода, но я знала, всегда знала, что между нами нет любви и что он — женский угодник. Такой уж он был и вдобавок, мне кажется, все еще сильно любил свою русскую жену. Он никому не принадлежал. У нас были дружеские и, возможно, отчасти мужские отношения, основанные на доверии. Он рассказывал мне о русской литературе, о России, о своей жизни и отношении к женщинам, к любви. Мы были друзьями, и взамен я оказала ему две ответные услуги. Во-первых, конечно же, я показала ему Рим.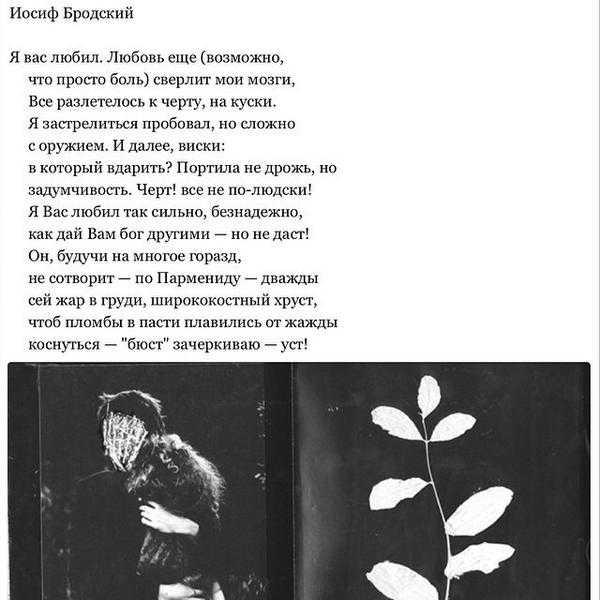 Несмотря на мой юный возраст, я была образованной и разбиралась в этих вещах. Он также интересовался литературой — не только итальянской, но и современной греческой. Например, в те дни он сильно нуждался в деньгах, и [Джанни] Буттафава, его итальянский переводчик, нашел ему работу: регулярно писать статьи для газеты L’Espresso…
Несмотря на мой юный возраст, я была образованной и разбиралась в этих вещах. Он также интересовался литературой — не только итальянской, но и современной греческой. Например, в те дни он сильно нуждался в деньгах, и [Джанни] Буттафава, его итальянский переводчик, нашел ему работу: регулярно писать статьи для газеты L’Espresso…
Иосиф Бродский на фоне плаката, посвященного выставке современного искусства, которая проходила в Риме осенью 1980 года. 1983
Фотография Сильвии Ронкей© Из частного архива
— Кто именно нашел ему эту работу?
— Буттафава, его переводчик, который и сам работал в этом издании. Иосиф одно время еженедельно писал статьи, и каждый раз ему приходилось искать новую тему. То он писал о Вергилии, то о современном греческом поэте Кавафисе, а я помогала ему советами и искала материалы. Помню, однажды он захотел прочитать Марино — малоизвестного итальянского поэта эпохи барокко XVII века [4]. Мы проходим его в школе и знаем, кто это такой, но его работы настолько трудны для восприятия, что достать его книгу было непросто. Поэтому я отправилась в Ватиканскую библиотеку, где потратила крупную сумму на копирование полного собрания сочинений Марино на микропленку. А Иосиф очень расстроился и сказал: «Слушай, я хочу прочитать всего пару его стихов. Выбери сама». После этого я старалась заранее отбирать нужное. Я получила классическое образование, изучала итальянское искусство и литературу, латинскую классику и к тому времени уже стала византинистом. Отсюда, в частности, его познания о Византии, он часами сидел и читал на моем диване. Я переводила, как мне кажется, если не самую важную, то одну из наиболее значимых и известных исторических работ — хронику, написанную Михаилом Пселлом, философом и политиком XI века. Я первая переводила ее на итальянский язык, это был немалый труд, тысячи страниц…
Мы проходим его в школе и знаем, кто это такой, но его работы настолько трудны для восприятия, что достать его книгу было непросто. Поэтому я отправилась в Ватиканскую библиотеку, где потратила крупную сумму на копирование полного собрания сочинений Марино на микропленку. А Иосиф очень расстроился и сказал: «Слушай, я хочу прочитать всего пару его стихов. Выбери сама». После этого я старалась заранее отбирать нужное. Я получила классическое образование, изучала итальянское искусство и литературу, латинскую классику и к тому времени уже стала византинистом. Отсюда, в частности, его познания о Византии, он часами сидел и читал на моем диване. Я переводила, как мне кажется, если не самую важную, то одну из наиболее значимых и известных исторических работ — хронику, написанную Михаилом Пселлом, философом и политиком XI века. Я первая переводила ее на итальянский язык, это был немалый труд, тысячи страниц…
— С греческого?
— С византийского греческого, они не сильно различаются.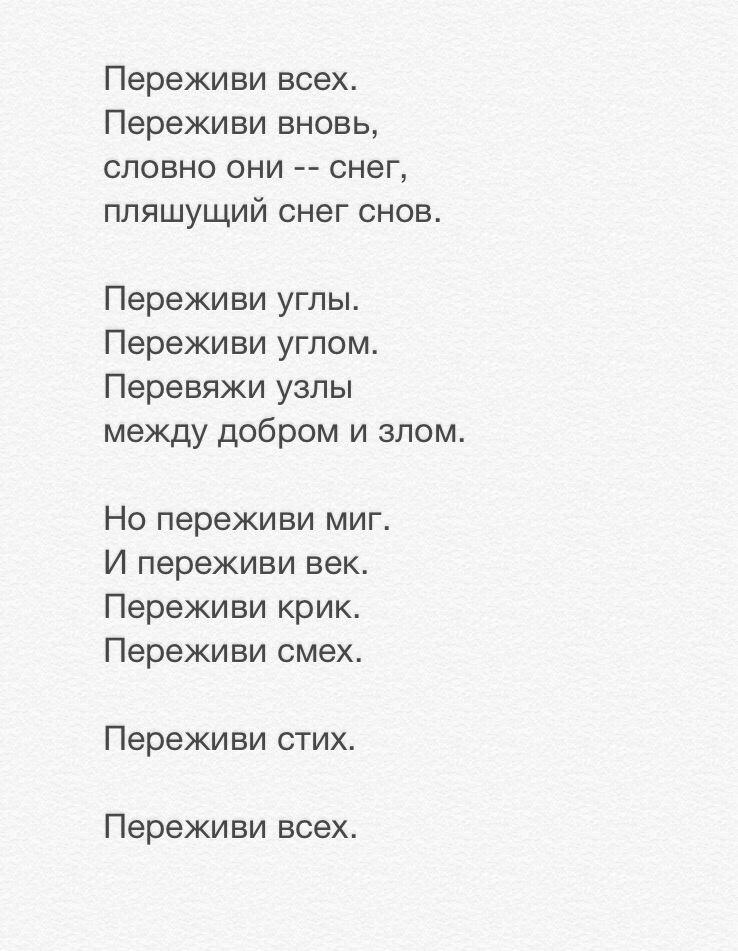 К сожалению, словарей так и нет, и для правильного перевода приходилось заранее представлять, о чем идет речь, но этого опять же не понять без перевода, поэтому я испытывала трудности, пытаясь найти правильный подход. Иосифу это было интересно; существовал слабый перевод на английский, который я использовала для проверки, и он прочел его целиком.
К сожалению, словарей так и нет, и для правильного перевода приходилось заранее представлять, о чем идет речь, но этого опять же не понять без перевода, поэтому я испытывала трудности, пытаясь найти правильный подход. Иосифу это было интересно; существовал слабый перевод на английский, который я использовала для проверки, и он прочел его целиком.
— По-английски?
— Да. От корки до корки, он много читал о Византии. Он знал еще одного византолога, Майкла Мааса, и нашими стараниями основательно погрузился в эту тему. Иногда мы втроем ходили куда-нибудь или ужинали вместе. Наша дружба продолжалась несколько лет. Кажется, Нобелевскую премию он получил в середине восьмидесятых…
— В 1987-м.
— Да. Значит, мы общались лет семь-восемь. Я дважды прилетала к нему в Америку. Один раз — в Нью-Йорк, он был очень счастлив тогда из-за романа с китаянкой. Он сказал: «Ты не представляешь, насколько это отличается, как все меняется. Если переходишь на азиаток, назад пути нет».
Сильвия Ронкей, начало 1980-х© Из частного архива
— Он цитировал на итальянском по памяти длинные отрывки из Данте, что, конечно, говорит больше о его памяти, а не о знании языка.
— Да, у него была очень хорошая память: он знал наизусть множество стихов на неизвестных ему языках. Правда, его английский был великолепен. Он часто сердился на меня за то, что я не понимала его русских стихов. До нашего знакомства я читала только те его работы, которые были переведены на итальянский, поэтому первым делом он дал мне сборники на английском: сначала всего два, а потом и другие. При этом он мне читал по-русски все свои стихи, даже изначально написанные на английском, потому что ему не нравилось, как они звучат на иностранных языках. Он повторял: «Я русский поэт. Мои стихи — музыка. Их нужно слушать, а не читать, это давняя традиция». Очень часто он читал свои стихи по памяти, хотя «читал» — не совсем точное слово. Возможно, в русской традиции принято читать стихи подобно молитве или обрядовой песне или это была его индивидуальная манера декламации, которая, по-моему, скорее походила на заклинание, а не на музыку.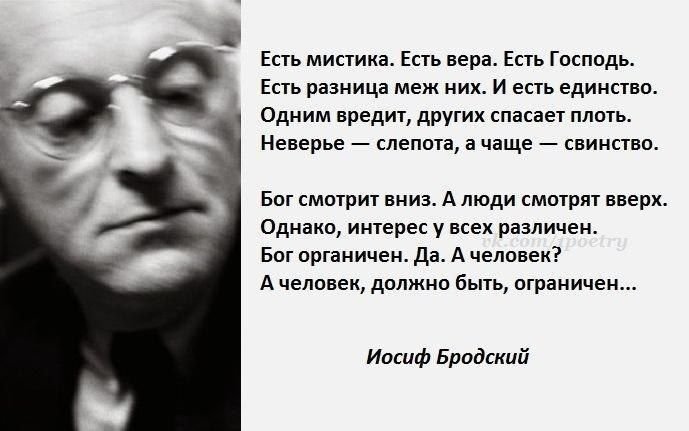
— Даже для русской литературы, несмотря на ее разнообразие, его стиль необычен: сила, с которой он читал свои стихи, несравнима ни с чем.
— Да, я это понимала. Однако моего знания русского языка было, конечно же, недостаточно: я помнила лишь несколько слов из сказок Афанасьева, хотя потом я запоздало выучила русский. В течение последних двадцати лет моим русским друзьям случалось мне читать его стихи, которые они воспринимают как музыку, литанию — не знаю, как точнее описать; в его стихах есть нечто от литургии. Странно, что, несмотря на вольнодумство — он был поклонником Шодерло де Лакло, — у него были свои священные ценности: собственные стихи и искусство поэзии, а также поэтическая декламация.
Кстати, о религии — мы обошли все церкви Рима, хотя он относился к ним с иронией. Я никогда не была набожна, но в Риме нельзя изолироваться от религиозной традиции, которая так же сильна, как и историческая. Вот почему мне доводилось заставлять его пойти в церковь, из этих походов он развил теорию, что Рим — город сосцов; он находил архитектуру римских церквей очень сексуальной. Кажется, он где-то об этом упоминал.
Кажется, он где-то об этом упоминал.
— Он действительно проводил сравнение куполов с сосцами волчицы, вскормившей Ромула и Рема.
— Да, все началось с волчицы. Были еще уличные животные — особенно коты, которых он часто видел, гуляя по Риму, — так возник образ опасного зверя-мутанта, у которого было что-то от волчицы, а что-то — от кота. Иногда в музеях, глядя на барочные картины, изображавшие аллегорических животных, он восклицал: «Да! Именно так я вижу Рим».
— То есть он отождествлял Рим со зверем?
— Да, с мутантом, с аллегорическим зверем, — он был без ума от барокко. Как-то, разочаровавшись в Марино, которого не смог дочитать, он захотел увидеть все работы Бернини, поскольку ему очень нравилась барочная архитектура XVII века. Я была недовольна этим — считала, что ему следовало уделять больше внимания римскому Ренессансу.
В общении с другими он был несколько несдержан: его поведение было иногда неприличным, вызывающим и даже грубым. Мне было непросто его вразумлять.
Мне было непросто его вразумлять.
— Вы можете привести пример подобных инцидентов?
— Да. В Риме жила одна очень интересная особа, давно эмигрировавшая из России еврейка Лия Вайнштейн. Родом из богатой семьи, она была филологом и принадлежала к интеллектуальной элите. Родилась она, скорее всего, в двадцатых годах, так как была ровесницей моих родителей [5]. Она уехала после войны и обосновалась в Риме на небольшой красивой вилле в стиле ар-нуво в Диапиа Монти, недалеко от улицы виа Витторио-Венето. В этом доме я познакомилась со всеми диссидентами: с женой Сахарова [Еленой Боннэр], Синявским и многими другими, чьи имена тогда были на слуху. Их было непросто встретить — они вели себя очень настороженно, но они все — как и любой другой уехавший на Запад русский — приходили обязательно на виллу Вайнштейн, где происходили встречи с настоящими диссидентами. Она знакомила новоприбывших представителей интеллигенции с итальянцами — но не со всеми подряд, а только с теми, кто понимал ситуацию и был готов помочь России и российской культуре. И Лия Вайнштейн пригласила его на ужин — кажется, во время одного из его визитов в Рим после пребывания в Академии. Она устраивала великолепные вечера, вкладывая много стараний в подготовку, а еда, приготовленная ее поварами, была изумительна. Она относилась ко всем с большим участием, была вежлива, тактична, добра. Ужин был назначен на полдевятого, Иосиф пришел в полседьмого, абсолютно пьяный, и заявил, что голоден. Ему подали чай с печеньем…
И Лия Вайнштейн пригласила его на ужин — кажется, во время одного из его визитов в Рим после пребывания в Академии. Она устраивала великолепные вечера, вкладывая много стараний в подготовку, а еда, приготовленная ее поварами, была изумительна. Она относилась ко всем с большим участием, была вежлива, тактична, добра. Ужин был назначен на полдевятого, Иосиф пришел в полседьмого, абсолютно пьяный, и заявил, что голоден. Ему подали чай с печеньем…
Сильвия Ронкей© Leonardo Cendamo
— Вы были с ним?
— Нет. Меня пригласили отдельно, вместе с моим «русским» отцом. Конечно, я не хотела, чтобы он узнал о наших отношениях. Я приехала на час раньше назначенного времени потому, что хотела помочь с подготовкой, и застала хозяйку дома в ужасе — Иосиф собрался уходить, сказав: «Я сыт, знакомиться ни с кем не хочу. Печенья было вполне достаточно, всего доброго». Конечно, из этого могла бы получиться забавная история, если бы его поведение не было столь вызывающим.
Кстати, у меня сохранились дневники, которые я постоянно веду лет с десяти, но ни разу не перечитывала.
— Вы за этим их и ведете…
— …чтобы разложить все по полочкам и забыть, да.
— В дневниках Иосифа того периода ваше имя появляется довольно часто: «Сильвия, Сильвия, Сильвия…»
— Вы говорили, что это не совсем дневники…
— Да, больше похоже на напоминания — вроде тех, что сейчас пишут в смартфонах.
— Именно.
— Время от времени он делал заметки о том, что хотел запомнить, и, как мы потом увидим, некоторые из них были включены в его эссе. Другие — нет, например, ремарки о коллегах из Американской академии или записи о своем настроении. Встречаются и забавные вещи, например: «Целую неделю в Риме — еще не услышал ни одной умной мысли».
— Да, он был немного высокомерным, но мы любили его и прощали ему это. Тот случай у бедной Лии Вайнштейн… Хотя он был старше меня, в душе он оставался молодым и незрелым. У него не было достаточно опыта, чтобы понимать разницу между Лией Вайнштейн и просто напыщенной светской персоной. Не знаю, научился он этому в России или в Америке, но он очень тонко чувствовал европейские различия и характеры. В общении ему не было равных: он был умен и умел распознать ум в своем собеседнике — и в то же время он сильно отличался, бывал заносчив, грубоват, невежлив с другими, но со мной — никогда.
У него не было достаточно опыта, чтобы понимать разницу между Лией Вайнштейн и просто напыщенной светской персоной. Не знаю, научился он этому в России или в Америке, но он очень тонко чувствовал европейские различия и характеры. В общении ему не было равных: он был умен и умел распознать ум в своем собеседнике — и в то же время он сильно отличался, бывал заносчив, грубоват, невежлив с другими, но со мной — никогда.
— Кстати, это очень интересный вопрос: каким вы и другие европейцы видели его? Он не был американцем, но и русским он тоже не был. В Америке многие воспринимали его как европейца, но у американцев есть определенные представления о том, как должен выглядеть настоящий европеец, которые не всегда совпадают с действительностью.
— У Есенина есть известное стихотворение «Исповедь хулигана». «Хулиган» — не совсем точное слово, но это был его идеал. Он притворялся дикарем и в некоторой степени был таковым.
— Как вы считаете, у него действительно был такой характер или же это просто образ, который он хотел поддерживать?
— И то и другое.
— То есть он сознательно выбрал такую модель поведения?
— Да. Я была молода и неопытна и представляла его совершенно иначе. Я знала и любила русскую литературу, поэзию, общалась с русскими: например, с Лией Вайнштейн или знакомыми моих родителей, а он оказался очень непохожим на них. К тому же он мне представлялся более утонченным, воспитанным, но он был совсем другим. Он многому научился в Риме, был способным учеником. Может показаться странным, он многому меня научил, я же научила его базовым вещам, равно как Майкл Маас и другие. Ему пришлось учиться, как школьнику. Конечно, он был начитан, но не так, как я думала после прочтения его стихов. Он писал скорее интуитивно… У меня сложилось впечатление, что, когда он приехал в Рим, у него были комплексы по этому поводу. Отсюда, возможно, и появился этот показной образ. Затем он сменил маску, став утонченным европейцем. Он таковым и был, больше, чем признавал, поэтому не могу сказать, что эта перемена была внезапной. Возможно, перемена произошла как раз перед вручением Нобелевской премии. Кстати, это забавная история: он часто приходил ко мне, когда я жила у фонтана Треви, в очень хорошем квартале. Каждый раз, когда он приезжал хотя бы на несколько дней в Рим, он появлялся без предупреждения и с порога просил разрешения позвонить: ведь у меня был телефон, хоть я и не была богата. Наверное, ему было комфортнее звонить от меня. Звонки в Стокгольм начались задолго до Нобелевской премии, в 1980-х. Он всегда повторял: «Да, у меня очень хорошие друзья в Стокгольме…» Я думаю, он хотел получить эту премию, для него это не было неожиданностью: вы знаете, что требуется для победы. Я не утверждаю, что это было причиной дружбы Иосифа со шведами, но от меня он регулярно звонил только в Стокгольм. Иногда после годовой разлуки он меня спрашивал: «Можно я зайду к тебе?» И я сразу думала: «Наверняка снова будет звонить шведам….» — так и оказывалось.
Возможно, перемена произошла как раз перед вручением Нобелевской премии. Кстати, это забавная история: он часто приходил ко мне, когда я жила у фонтана Треви, в очень хорошем квартале. Каждый раз, когда он приезжал хотя бы на несколько дней в Рим, он появлялся без предупреждения и с порога просил разрешения позвонить: ведь у меня был телефон, хоть я и не была богата. Наверное, ему было комфортнее звонить от меня. Звонки в Стокгольм начались задолго до Нобелевской премии, в 1980-х. Он всегда повторял: «Да, у меня очень хорошие друзья в Стокгольме…» Я думаю, он хотел получить эту премию, для него это не было неожиданностью: вы знаете, что требуется для победы. Я не утверждаю, что это было причиной дружбы Иосифа со шведами, но от меня он регулярно звонил только в Стокгольм. Иногда после годовой разлуки он меня спрашивал: «Можно я зайду к тебе?» И я сразу думала: «Наверняка снова будет звонить шведам….» — так и оказывалось.
— Он говорил с ними по-английски?
— Да. Хотя нет, по-русски. Я не могу сказать точно, потому что никогда не подслушивала, но у меня не осталось никаких воспоминаний о темах разговоров, так как язык был мне незнаком. Шведского он не знал, так что, скорее всего, это был русский.
Хотя нет, по-русски. Я не могу сказать точно, потому что никогда не подслушивала, но у меня не осталось никаких воспоминаний о темах разговоров, так как язык был мне незнаком. Шведского он не знал, так что, скорее всего, это был русский.
«Сильвии Ронкей от русского с . 12 фев[раля] 1981 г. Рим». На сборнике «A Part of Speech» для Сильвии Ронкей© Из частного собрания
— Расскажите о своей квартире. Вы там больше не живете?
— Нет.
— Не могли бы вы тогда назвать адрес? Я бы хотел сфотографировать это здание, в котором Иосиф проводил время в Риме.
— Виа ин Арчоне, 98, очень уютное место. Раньше там был маронитский монастырь, но потом его превратили в жилой дом с садом. Я жила в маленькой квартире-студии.
— Вы снимали ее?
— Нет. В Италии другое отношение к недвижимости. Здесь легче купить жилье; даже молодежь может позволить себе небольшую квартиру.
Возвращаясь к разговору об общении: мы часто ужинали с разными людьми. Почему-то я никогда не хотела ходить с ним на ужины Американской академии, хотя он посещал их, по его словам, с другими знакомыми. Может быть, я ревновала и, кажется, все-таки присоединялась к нему пару раз. Исключением был Майкл Маас — с ним мы ужинали несколько раз, но он был коллегой и очень интересным собеседником. Однажды, по-моему, во время его третьего или четвертого визита в Рим, случилась забавная история. Мне кажется, она отлично отражает его поведение. Я знала, что он в Риме, мы виделись, хотя отношений у нас не было. Внезапно он начал звонить мне и уговаривать встретиться, что очень меня удивило. Он с восторгом отзывался о Гертруде Шнакенберг, очень хорошей поэтессе. У меня было много друзей в Американской академии, один из них — мой сокурсник из Университета Пизы, который получил стипендию в Академии и жил там. Однажды за ужином я спросила его о Гертруде, на что он ответил: «Она одиночка, не любит общаться с людьми, зачем тебе с ней встречаться?» Но я все-таки разыскала ее и пришла к ней в гости, потому что она повредила ногу и не выходила из дома.
Почему-то я никогда не хотела ходить с ним на ужины Американской академии, хотя он посещал их, по его словам, с другими знакомыми. Может быть, я ревновала и, кажется, все-таки присоединялась к нему пару раз. Исключением был Майкл Маас — с ним мы ужинали несколько раз, но он был коллегой и очень интересным собеседником. Однажды, по-моему, во время его третьего или четвертого визита в Рим, случилась забавная история. Мне кажется, она отлично отражает его поведение. Я знала, что он в Риме, мы виделись, хотя отношений у нас не было. Внезапно он начал звонить мне и уговаривать встретиться, что очень меня удивило. Он с восторгом отзывался о Гертруде Шнакенберг, очень хорошей поэтессе. У меня было много друзей в Американской академии, один из них — мой сокурсник из Университета Пизы, который получил стипендию в Академии и жил там. Однажды за ужином я спросила его о Гертруде, на что он ответил: «Она одиночка, не любит общаться с людьми, зачем тебе с ней встречаться?» Но я все-таки разыскала ее и пришла к ней в гости, потому что она повредила ногу и не выходила из дома. Она рассказала мне: «Со мной случилось несчастье. Я не могу видеться со своим любовником, потому что не могу никуда пойти, а он не хочет меня навещать».— «Кто он?» — «Один русский поэт». — «Иосиф?» — «Да». И тут мы поняли, что он сменил девушку, как меняют лошадей. Нам было смешно, но потом мы решили проучить его — все-таки он поступил очень грубо. Можно подумать, что из-за сломанной ноги нельзя встречаться с девушкой. Через два дня бедный Иосиф уехал из Рима. Это был единственный раз, когда я отчитывала его за его поведение. Но Гертруда была очень интересной девушкой, очень красивой, просто чудо: голубые глаза, светлые волосы и бледная кожа. Хотя ей было чуть больше двадцати, она писала потрясающие стихи. Мы подружились. Иосиф уехал, а мы продолжили общаться, и она объяснила мне то, чего я не видела. В отличие от многих подруг Иосифа, считавших, что каждая из них — единственная для него, мы знали, что он полигамен. Мы разговаривали откровенно, помогли друг другу многое понять. Конечно, он коллекционировал не просто женщин, но женщин талантливых и очень умных.
Она рассказала мне: «Со мной случилось несчастье. Я не могу видеться со своим любовником, потому что не могу никуда пойти, а он не хочет меня навещать».— «Кто он?» — «Один русский поэт». — «Иосиф?» — «Да». И тут мы поняли, что он сменил девушку, как меняют лошадей. Нам было смешно, но потом мы решили проучить его — все-таки он поступил очень грубо. Можно подумать, что из-за сломанной ноги нельзя встречаться с девушкой. Через два дня бедный Иосиф уехал из Рима. Это был единственный раз, когда я отчитывала его за его поведение. Но Гертруда была очень интересной девушкой, очень красивой, просто чудо: голубые глаза, светлые волосы и бледная кожа. Хотя ей было чуть больше двадцати, она писала потрясающие стихи. Мы подружились. Иосиф уехал, а мы продолжили общаться, и она объяснила мне то, чего я не видела. В отличие от многих подруг Иосифа, считавших, что каждая из них — единственная для него, мы знали, что он полигамен. Мы разговаривали откровенно, помогли друг другу многое понять. Конечно, он коллекционировал не просто женщин, но женщин талантливых и очень умных.
Гертруда Шнакенберг© Stanford University
— Для него это был еще один способ познания мира?
— Да. Я подразумевала именно это, когда говорила, что он приехал сюда дикарем, но жаждал учиться. Несмотря на свой возраст, в Риме он все равно был учеником. Он поглощал историю, европейскую культуру. Я не знаю почему: из-за русской ли или еврейской крови или потому, что он был диссидентом, которому единственным оружием служило творчество. Возможно, у него отсутствовала возможность получить эти знания в России.
— Говоря об открытиях: расскажите, как вы вместе исследовали Рим. Что вы ему показывали?
— Все.
— Тогда, наверное, вы можете назвать его любимые места? Вы упоминали, что водили его в церкви и музеи, поэтому у меня к вам два вопроса: почему он не хотел ходить в церкви, что привлекало его внимание? И как он вел себя в музеях?
— Больше всего ему нравились картины, и в каждом портрете он искал лицо своей жены. Еще в самом начале он сказал мне, что она похожа на Мадонну Перуджино. Увидев оригинал, он был несколько разочарован. Кроме того, ему нравились картины Боттичелли. Но он, скорее, искал женский образ, его идеал, а не свою жену. Я видела ее фотографию: она красива, но совсем не похожа на девушек с картин Перуджино. Он подпитывал себя картинами, ему всегда было мало. Мы трижды ходили в Галерею Боргезе — маленький музей, но в нем представлено много шедевров. Он просил: «Ты не могла бы снова отвести меня в Галерею Боргезе?» Она окружена парком Боргезе, где мы подолгу гуляли. Иногда, когда мы отдалялись от самого музея, он спрашивал: «Мы можем снова вернуться в галерею?» — к той самой картине Перуджино.
Еще в самом начале он сказал мне, что она похожа на Мадонну Перуджино. Увидев оригинал, он был несколько разочарован. Кроме того, ему нравились картины Боттичелли. Но он, скорее, искал женский образ, его идеал, а не свою жену. Я видела ее фотографию: она красива, но совсем не похожа на девушек с картин Перуджино. Он подпитывал себя картинами, ему всегда было мало. Мы трижды ходили в Галерею Боргезе — маленький музей, но в нем представлено много шедевров. Он просил: «Ты не могла бы снова отвести меня в Галерею Боргезе?» Она окружена парком Боргезе, где мы подолгу гуляли. Иногда, когда мы отдалялись от самого музея, он спрашивал: «Мы можем снова вернуться в галерею?» — к той самой картине Перуджино.
Как я уже говорила, ему очень нравилось барокко. Он не любил барочные картины — в Риме они преимущественно на религиозную тематику, — но он был восхищен барочной скульптурой и архитектурой, особенно церквями работы Борромини. Он был впечатлен Римским колледжем. Я училась там после того, как его превратили в школу. Он интересовался притчами об иезуитах, святом Игнатии и его последователях, поэтому ему и нравилось это здание. Его интересовало и классическое искусство, поэтому мы обошли все достопримечательности: Музеи Ватикана, археологические выставки, Капитолийские музеи, термы Каракаллы, термы Дионисия. Хотя ничто так не привлекало его, как итальянская портретная живопись.
Он интересовался притчами об иезуитах, святом Игнатии и его последователях, поэтому ему и нравилось это здание. Его интересовало и классическое искусство, поэтому мы обошли все достопримечательности: Музеи Ватикана, археологические выставки, Капитолийские музеи, термы Каракаллы, термы Дионисия. Хотя ничто так не привлекало его, как итальянская портретная живопись.
— Он обычно сосредотачивался на одной картине или быстро проходил по залам?
— Он концентрировался у одной работы. Но ему больше нравились картины, чем археология.
— Вы помните что-нибудь из того, что он говорил о картинах?
— Он был очень саркастичен. Картины Леонардо или Рафаэля с изображениями животных он высмеивал за то, что девушки на них были в кольцах или ожерельях, которые казались ему слишком броскими и мешающими. Только работы итальянских художников трогали его до глубины души. Он считал нелепым, что женщины как на картинах, так и в жизни носят украшения. У меня не было драгоценностей, но я носила кольца, и он всегда смеялся надо мной. Возможно, сказывалось советское воспитание.
Возможно, сказывалось советское воспитание.
Не знаю почему, но он считал, что я похожа на русскую. Может быть, из-за моих длинных волос, которые я собирала назад. Ему очень нравились работы Климта, и я напоминала ему его модель.
— У вас были рыжие волосы?
— Рыжеватые, длинные и кудрявые. Я была очень худой, носила длинные платья. Может быть, поэтому я ему напоминала одновременно и австрийку, и русскую.
Позже, приехав к нему в Саут-Хэдли, я была поражена: он сам застелил нам с мужем кровать, отгладил простыни, приготовил ужин, завтрак. Мне кажется, это еще раз доказывает, что его неряшливость была одной из масок: он мог быть аккуратен, вежлив и гостеприимен.
Книги Сильвии Ронкей
— Вы ходили вместе в кино? Хотелось бы поговорить о его отношении к Тарковскому, которого вы, как я понимаю, также знали.
— Однажды мы ходили в кинотеатр «Паскуино» в районе Трастевере, где всегда показывали фильмы на языке оригинала. Фильм был скучный и совсем мне не запомнился. Мы много говорили о кино: тогда был расцвет кинематографа. В отличие от него, мне нравились советские фильмы, поэтому мы спорили о них, в том числе и о картинах Тарковского. Он не считал себя диссидентом и обиделся, когда я сравнила его с кем-то из эмигрировавших на Запад соотечественников. Думаю, одной из причин его нелюбви к Тарковскому было его диссидентство или клише романтического изгнанника (сам Бродский применительно к себе эти нотки приглушал самоиронией). Он также говорил что-то про отца Тарковского…
Фильм был скучный и совсем мне не запомнился. Мы много говорили о кино: тогда был расцвет кинематографа. В отличие от него, мне нравились советские фильмы, поэтому мы спорили о них, в том числе и о картинах Тарковского. Он не считал себя диссидентом и обиделся, когда я сравнила его с кем-то из эмигрировавших на Запад соотечественников. Думаю, одной из причин его нелюбви к Тарковскому было его диссидентство или клише романтического изгнанника (сам Бродский применительно к себе эти нотки приглушал самоиронией). Он также говорил что-то про отца Тарковского…
— Арсения Тарковского, поэта.
— Да, он очень любил стихи Тарковского-старшего. Он говорил, что отец был талантлив, а сын — всего лишь его бледное претенциозное отражение, то есть именно так он, возможно, и не выражался, но таким образом я воспринимала его позицию, будучи страстной поклонницей фильмов Андрея… С другой стороны, зная Иосифа, сейчас я подозреваю, что он говорил о режиссере немного жестче, чем думал на самом деле, просто из духа противоречия (столь для него типичного!).
Он много рассказал мне о поэзии, особенно британской, которую хорошо знал и любил. Я почти не знала Одена — тогда в Италии до сих пор читали Элиота и Йетса, — поэтому он заставил меня прочесть его, а также Филипа Ларкина. Он не любил Джона Донна, говорил, чтобы я выкинула его книги и учила наизусть Марвэла. Они были близкими друзьями с Дереком Уолкоттом, и, конечно же, он познакомил меня с его творчеством. В прозе он очень любил Ивлина Во — по его словам, лучшего романиста [6]. Мне нравился Хаксли, он возражал: «Не Хаксли — Во». Потом я поняла, насколько ценны были его советы, хотя поначалу считала их снобистскими. Благодаря его идеальному вкусу я прочитала Лакло, Во, Ларкина, Одена. Когда он увлекся стихами Кавафиса, я советовала ему подробно изучить его творчество. Не знаю, прислушался ли он.
Перевод с английского Александры Смирновой
[1] Франко Корделли (р. 1943) — итальянский писатель, эссеист и театральный критик. С середины 1970-х годов курировал поэтические фестивали и редактировал сборники на литературные темы с социально-политическим уклоном.
С середины 1970-х годов курировал поэтические фестивали и редактировал сборники на литературные темы с социально-политическим уклоном.
[2] М.С. Сернас (Maria Stella Sernas) — журналист, переводчик на итальянский язык романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (Милан, 1978 год), автор книг для широкого читателя по истории гастрономии (например, о происхождении пасты). То, что русского поэта Бродского пригласили на вечеринку именно к Сернас, супруге киноактера Жака Сернаса, похоже, не случайно: незадолго до этого она приняла участие в работе над сценарием для телефильма «Che fare?» (1979–1980) по роману Н. Чернышевского «Что делать?».
[3] Альберто Ронкей (1926–2010) — подробнее о нем см. в комментариях к публикации римского календаря Бродского в книге Ю. Левинга «Иосиф Бродский в Риме» (т. 3, с. 60–61).
[4] Джамбаттиста Марино (1569–1625) — представитель поэзии барокко, чьи мадригалы и канцоны отличаются витиеватым стилем с неожиданными метафорами, а также сочетанием метрических и ритмических экспериментов.
[5] Лия Вайнштейн (1919–2001) — подробнее о ней см. в комментариях к публикации римской записной книжки Бродского в т. 3 (с. 89–90).
[6] Незадолго до этого, говоря о «Мексиканском дивертисменте», Бродский признавался: «Боюсь, некоторые люди в Мексике рассердились, потому что стихи немножко в духе Ивлина Во» (Eva Burch and David Chin. Interview with Joseph Brodsky (1979) // Columbia. A Magazine of Poetry and Prose. Spring — Summer. 1980).
Понравился материал? Помоги сайту!
Тест
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
новости
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости
Также по теме
Эхо суда над Иосифом Бродским
Иосиф Бродский: поэзия изгнания
К 80-летию Иосифа Бродского: интервью с Михаилом Мейлахом
Все материалы по теме
Новое в разделе «Литература»Самое читаемое
Often you write das Leid but read das Lied
44247
Милена Славицка: большое интервью
32636
История о щеточке
29882
Тринадцатый «НОС»
29669
Я верю в американскую церковь поэзии!
10718
«Меня абсолютно не приняла литературная тусовка»
38277
Парсифаль в Белом доме
12942
Бабушкины письма
37318
Финал «Странника/НОСа» — 2021/2022
12922
«Гавриилиада» Пушкина и эротическая утопия американского социалиста
39181
«Только язык остался»
15169
Увенчанный Данте и два пламени
20035
Сегодня на сайте
Colta SpecialsОт редакции COLTA.
 RU
RU Обращение к читателям
5 марта 202284943
Colta SpecialsКультура во время «военных операций»
Нужны ли сейчас стихи, выставки и концерты? Блиц-опрос COLTA.RU
3 марта 202276431
ОбществоПочему вина обездвиживает, и что должно прийти ей на смену?
Философ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию
1 марта 202265816
ОбществоРодина как утрата
Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины
1 марта 202247264
ЛитератураOften you write das Leid but read das Lied
Англо-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец
1 марта 202244247
ОбществоПисьмо из России
Надя Плунгян пишет из России в Россию
1 марта 202257064
Colta SpecialsПолифонические свидетели конца и начала.
 Эссе Ганны Комар
Эссе Ганны Комар В эти дни Кольта продолжает проект, посвященный будущему Беларуси
1 марта 202238705
ТеатрСлучайность и неотвратимость
Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе
22 февраля 202232726
Литература«Меня интересуют второстепенные женские персонажи в прозе, написанной мужчиной»
Милена Славицка: большое интервью
22 февраля 202232636
ОбществоАрхитектурная история американской полиции
Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»
22 февраля 202232067
ОбществоВиктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»
Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока
22 февраля 202241783
ИскусствоДва мела на голубой бумаге
Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus
21 февраля 202235972
Ни юбка, ни подвязка, ни чулок / Накануне / Независимая газета
Тэги: иосиф бродский, поэзия, михаил барышников, женщины, венеция, чингиз айтматов
Поэт есть одиночка в кубе. .. ..
Фото Reuters |
В восьмидесятые годы при всех своих внешних успехах, даже при Нобелевской премии в 1987 году, при американской премии Гениев в 1981 году, при получении звания поэта – лауреата США в 1991 году, при непрерывном присуждении почетных званий докторов тех или иных университетов в своей личной жизни он был несчастен и одинок. Его не удовлетворяли окружавшие женщины, хоровод женщин, его вечно любимая Марина по-прежнему была далеко, а все остальное, думаю, он всерьез не воспринимал.
Думаю, он готов был сменить и нобелевскую славу, и ворох наград на простое семейное счастье. Сколько же можно сидеть в президиумах, скитаться по городам, странам и знать, что дома тебя никто не ждет?
Я одинок. Я сильно одинок.
Как смоква на холмах
Генисарета.
В ночи не украшает
табурета
ни юбка, ни подвязка,
ни чулок.
Конечно, меня будут опровергать его многочисленные подружки и поклонницы, уверяя, что их Иосиф никогда не знал одиночества. Я не хочу ни в чем упрекать милых дам, они делали все, что могли. Можно даже проследить за той или иной хроникой его поездок.
Внешне все было хорошо. Он гонял на машинах («И какой же русский (а особенно еврей) не любит быстрой езды», любил вкусно и обильно поесть, особенно обожал восточную кухню, китайские ресторанчики. Ценил русскую водочку, особенно хреновую и кориандровую.
Зима. Что делать нам
в Нью-Йорке?
Он холоднее, чем луна.
Возьмем себе чуть-чуть
икорки
И водочки на ароматной
корке,
Погреемся у Каплана…
Подружки как-то плавно,
без обид, меняли друг друга.
У всего есть предел,
в том числе у печали.
Взгляд застревает
в окне, точно лист в ограде.
Можно налить воды.
Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек
в квадрате.
Уже в центре оживленного города Иосиф Бродский писал, что если «одиночество есть человек в квадрате», то «поэт – это одиночка в кубе».
Ночь. Дожив до седин,
ужинаешь один.
Сам себе быдло,
сам себе господин.
Предположение о женитьбе высказывалось в адрес добрых и долгих приятельниц Иосифа Бродского. Он готов был жениться и на итальянке, и на американке, и на полячке… Он страшился пустоты одиночества, но для себя все же ждал чего-то необычного, как в детстве – ждал принцессу…
В Нью-Йорке он поселился недалеко от Гудзона, на Мортон-стрит, 44, в доме, к которому сегодня ходят туристы, но на котором, в отличие от его питерского дома (дом Мурузи на ул. Пестеля), от его дома в Норенской и даже на вокзале в Коноше, никаких мемориальных досок и памятных табличек нет. Не заслужил. Да и спроси на нью-йоркских улицах про Бродского, никто никогда ничего не скажет. Да и что сказать: был некий американский профессор, который и школу-то среднюю не окончил, нигде не учился, но зато преподавал более 20 лет в крупнейших американских вузах, в том числе в колумбийском и нью-йоркском. Повезло парню. Поддерживали, видимо, как политическую жертву советского строя…
Пестеля), от его дома в Норенской и даже на вокзале в Коноше, никаких мемориальных досок и памятных табличек нет. Не заслужил. Да и спроси на нью-йоркских улицах про Бродского, никто никогда ничего не скажет. Да и что сказать: был некий американский профессор, который и школу-то среднюю не окончил, нигде не учился, но зато преподавал более 20 лет в крупнейших американских вузах, в том числе в колумбийском и нью-йоркском. Повезло парню. Поддерживали, видимо, как политическую жертву советского строя…
От этих слов Иосиф Бродский бесился, не любил вспоминать про судебный процесс, рвал отношения с теми, кто подчеркивал его чуть ли не каторжную судьбу. Его откровенно бесило, что именно судом и ссылкой многие на Западе объясняли мировую известность Бродского. Он же хотел, чтобы его ценили за поэзию, за его творчество, а не за судебный процесс над тунеядцем и ссылку. Именно поэтому, когда Эткинд издал свою книгу «Процесс Иосифа Бродского» (1988) после получения Бродским Нобелевской премии, поэт был в ярости и навсегда порвал отношения с Ефимом Григорьевичем. Уж кто-кто, а Эткинд должен был понимать важность Бродского для русской и мировой литературы как поэта, а не как жертвы системы.
Уж кто-кто, а Эткинд должен был понимать важность Бродского для русской и мировой литературы как поэта, а не как жертвы системы.
И со студентами своими он говорил не о несправедливом советском строе, а о великой русской культуре. Да и для них он был известен тоже скорее не как лауреат Нобелевской премии, а как лауреат американской премии Гениев, как гордость Америки. Кроме работы в университетах Иосиф Бродский охотно ездил и по всей Европе со своими лекциями. Все-таки Америка чем-то его не устраивала. Недаром о Нью-Йорке он практически не написал ни одного стихотворения, переносясь душой то в Венецию, то в Швецию, то в Париж, то в родной Петербург. Меня поразил его диплом нобелевского лауреата: на одной странице текст, где написано, что в 1987 году Нобелевскую премию по литературе получает Иосиф Бродский, а на другой стороне коллаж из памятных для поэта мест. Тут и Медный всадник, и Нева, сверху, как в православном храме, лики наших святых, а в середине нечто вроде буденовки с пятиконечной звездой. Неужели специально для Иосифа Бродского придумали такую композицию?
Неужели специально для Иосифа Бродского придумали такую композицию?
10 декабря 1987 года поэт получил Нобелевскую премию по литературе – за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии. В России на этот раз (после скандальной истории с присуждением премии Борису Пастернаку и Александру Солженицыну) перестроечное горбачевское руководство решило скандал не устраивать, в «Московских новостях» дали короткую информацию. Но уже короткое время спустя о Бродском заговорила вся Россия, весь тогда еще Советский Союз. Ведь и в этот раз определенная политическая интрига была, на премию выдвигали поначалу и советского писателя Чингиза Айтматова. Вполне может быть, что это лишь усилило шансы Иосифа Бродского. Как говорят, мировая антисоветская закулиса поддержала поэта. И прекрасно. Получил бы Чингиз Айтматов, и у России было бы на одного нобелевского лауреата меньше.
Был бы независимый киргизский нобелевский лауреат. А Иосиф Бродский так сразу же и заявил, что премия дается русской литературе. К перестройке он отнесся с присущим ему скептическим юмором, написал на эту тему сатирическую пьеску «Демократия», Горбачева всерьез воспринимать не хотел, но за событиями в России следил.
К перестройке он отнесся с присущим ему скептическим юмором, написал на эту тему сатирическую пьеску «Демократия», Горбачева всерьез воспринимать не хотел, но за событиями в России следил.
Жизнь складывалась удачно, вот только, уходя от внешнего мира, он опять погружался в пугающую пустоту одиночества. Родителей уже не было в живых, с Мариной окончательно расстались, с сыном Андреем отношения не сложились после его единственного приезда в Америку.
Что это? Грусть?
Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть,
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит
и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.
На людях он веселился. Как он сам говорил, посмотрев фильм Вуди Аллена «Анни Холл» о неврастеничном еврее, мечтающем об арийской красавице: «Распространенная комбинация – dirtyjew и белая женщина. Абсолютно мой случай…».
Абсолютно мой случай…».
Вот он и ждал этого своего случая. И вот случилось. На его лекцию в Париж, в Сорбонну, в январе 1990 года приехала специально из Италии юная красавица Мария Соццани из самых аристократических русско-итальянских кругов. Ее мать из рода Трубецких–Барятинских, а отец, итальянец Винченцо Соццани, был высокопоставленным управляющим в компании «Пирелли». После лекции Мария написала ему письмо, обычное почтовое письмо, завязалась переписка. Любовь стремительно развивалась. Летом они едут в привычную для него Швецию, а уже в сентябре того же 1990 года Иосиф увез Марию в Стокгольм, поближе к балтийским берегам, и они поженились.
Через два года у них родилась дочь – ангельское создание Анна Александра Мария, по-домашнему просто Нюха… Близкие друзья Бродского утверждают, что эти несколько лет с Марией были для него счастливее, нежели предыдущие пятьдесят. Думаю, так и было. Тем более, познакомившись с Марией в Милане, я и сам подпал под очарование одновременно и аристократической, и глубинно русской, и доброжелательной, потрясающе красивой женщины.
1993. 9 июня – родилась дочь Анна Мария Александра.
1994. 2 декабря – написанное по-английски стихотворение To My Daughter напечатано в лондонском еженедельнике Times Literary Supplement.
1996. Сентябрь – вышел четвертый английский сборник стихов Бродского So Forth в издательстве Farrar, Straus &Giroux, с посвящением жене и дочери…
В разговоре со мной Мария сказала, что мечтает привезти дочь на родину отца. Мария подарила нам с женой на память подготовленный ею в миланском издательстве Adelphi, где она работает, сборник Иосифа Бродского «Рождественские стихи». В России они пока не были, но хотят побывать и в Москве, где у нее много родственников, и в Петербурге. Но не знают, как организовать поездку без всякой рекламной кампании, без шума в газетах, без светского шоу. Она мечтает даже побывать в Коноше и Норенской, на месте ссылки.
Его свадьба оказалась неожиданной для многих. Я уж не говорю о несостоявшихся невестах. Обиделись даже не знающие его женщины. Такой завидный холостяк, и вдруг женится, да еще и на русской аристократке из рода Трубецких–Барятинских. К тому же все помнили, что на недавнем своем 50-летии Иосиф Бродский пообещал: «Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель – одинокий путешественник». Все смирились, успокоились, и вдруг такой сюрприз.
Обиделись даже не знающие его женщины. Такой завидный холостяк, и вдруг женится, да еще и на русской аристократке из рода Трубецких–Барятинских. К тому же все помнили, что на недавнем своем 50-летии Иосиф Бродский пообещал: «Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель – одинокий путешественник». Все смирились, успокоились, и вдруг такой сюрприз.
Впрочем, Иосиф всегда был предельно независимым человеком. Он выпадал из любой обоймы: либеральной, державной, национальной, религиозной, даже поэтической… И жену, и дочурку обожал, боготворил. Впрочем, они были для него как две дочки: старшая и младшая. Появились и стихи, посвященные дочери.
Сначала он в 1995 году подробно пишет о дочке в стихотворном послании к другу Голышеву:
Я взялся за перо не с целью
развлечься и тебя развлечь
заокеанской похабелью,
но чтобы – наконец-то речь
про дело! – сговорить
к поездке:
не чтоб свободы благодать
вкусить на небольшом
отрезке,
но чтобы Нюшку повидать.
Старик, порадуешься или
смутишься: выглядит почти
как то, что мы в душе
носили,
но не встречали во плоти…
Позже он написал уже на английском языке стихотворение «Дочери». Есть хороший, вполне адекватный перевод этого стихотворения Кружкова:
И поскольку нет жизни
без джаза и легкой сплетни,
Я еще увижу тебя
прекрасной, двадцатилетней –
И сквозь пыльные щели,
сквозь потускневший глянец
На тебя буду пялиться
издали, как иностранец.
В общем, помни – я рядом.
Оглядывайся порою
Зорким взглядом.
Покрытый лаком или корою,
Может быть, твой отец,
очищенный от соблазнов,
На тебя глядит
внимательно и пристрастно.
Так что будь благосклонна к
старым, немым предметам:
Вдруг припомнится что-то
– контуром, силуэтом.
И прими как привет
от тебя не забывшей вещи
Деревянные строки
на нашем общем наречье.
Мария мечтает привезти Аню на родину отца, надеясь, что они побывают и в Петербурге, и в Норенской, и в Коктебеле. В Америке Мария Соццани не прижилась, и сразу же после смерти Бродского решила вернуться в Италию, поближе к своим корням. Поэтому и мужа решила похоронить в Венеции. Не скрывает, что это ее решение. Сейчас они с дочкой живут в Милане. Несмотря на то что Анечке было всего три года, когда папа умер, она очень хорошо его помнит. В таком же трехлетнем возрасте очень хорошо помнил свою матушку и Мишель Лермонтов. Один литератор сказал ей: «По-моему, твой папа был великий человек, великий поэт…» – Аня сразу же добавила: «…и великий папа».
После смерти Иосифа, как рассказывает ее мама Мария, дочка Нюша диктовала ей письма на небо к папе. Она ему писала: конечно, папе с неба трудно спуститься, но, может, он все же что-нибудь придумает – с дождиком, например, спустится… А если нет, то она, когда вырастет, все равно обязательно найдет способ к нему подняться…
Иосиф Бродский, сам обожавший музыку, и дочь свою с пеленок воспитывал на музыке, она уже в два года отличала Гайдна от Моцарта. Любит музыку и сейчас.
Говорили в Америке в быту Иосиф с Марией по-английски, хотя русский она прекрасно понимает и говорит на нем. Нюша тоже начала говорить по-английски, но мать обучала ее и русскому языку, чтобы дочь могла читать стихи отца. Бродскому Нюша успела доставить за три года своей жизни много радости. Когда-то, еще в 1967 году, в стихотворении «Речь о пролитом молоке» он писал:
Ходит девочка, эх,
в платочке.
Ходит по полю,
рвет цветочки,
Взять бы в дочки, эх,
взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется.
И вот теперь у него была своя такая дочка. Он не мог надышаться на нее. Жаль, не смог Иосиф посмотреть на Анюту прекрасную, 20-летнюю, очень похожую на свою мать Марию.
Даже его стихи последнего семейного, а потом уже и отцовского периода стали обретать некую стабильность и эпичность. Бунтарь выходил на новые «генеральские масштабы». Как он писал в шутливом послании своему врачу-кардиологу Елене Чернышевой, вручая книжку «В окрестностях Атлантиды»:
Пусть Вам напомнит
данный томик,
Что автор был не жлоб,
не гомик,
Не трус, не сноб, не либерал,
но – грустных мыслей
генерал.
…
Чем лучше в семейной жизни (не может нарадоваться своей Нюшей), тем больше проблем со здоровьем. Ему уже делали две операции на сердце, уговаривают на третью, и не такую трудную, всего лишь продуть сердечные сосуды, сделать ангиопластику, поставить несколько укрепляющих стентов, глядишь, и продержался бы еще лет пять. Мне самому уже трижды делали стентирование, знаю, как эти металлические пружинки укрепляют сердце, возвращают к жизни. Так жалко, что Иосиф все тянул, не хотел делать весной или летом, переносил на осень. Не рассчитал.
Мне самому уже трижды делали стентирование, знаю, как эти металлические пружинки укрепляют сердце, возвращают к жизни. Так жалко, что Иосиф все тянул, не хотел делать весной или летом, переносил на осень. Не рассчитал.
Шел уже 1996 год, написано последнее рождественское стихотворение «Бегство в Египет». Примерно тогда же готовился и последний прижизненный сборник стихов «Пейзаж с наводнением». Издатель сборника Сумеркин вспоминает о подготовке сборника в декабре 1995 года: «За пределами «Пейзажа» осталось два текста, относящиеся к этому периоду. Первый – сильнейшее стихотворение «На независимость Украины», от которого и автор и я единогласно решили на время воздержаться ввиду его чрезвычайной политической неграмотности, или по-американски «некорректности», многократно усиленной эмоциональным импульсом и мастерством. Надо же что-то оставить и для посмертных академических изданий!..
Я ни в коем случае не собираюсь привязывать Иосифа Бродского к какому-нибудь направлению, течению, заманивать в тот или иной лагерь. Он неформатен изначально.
Он неформатен изначально.
При постоянном болезненном состоянии все же умер Иосиф Александрович внезапно. Поговорил по телефону с Львом Лосевым, поворчал на предающих его былых друзей, у кардиологов добился переноса операции на сердце (такова уж была магия у Бродского, всех умел уговорить, а надо ли было уговаривать?). Набил портфель рукописями, чтобы в понедельник взять их на работу, пожелал жене спокойной ночи и остался еще посидеть в своем кабинете что-то дописать, додумать. И в ночь с 27 на 28 января там, в кабинете, умер.
Как пишет Лев Лосев: «Там она (Мария. – В.Б.) и обнаружила его утром – на полу. Он был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за «мгновенную справедливость», о такой смерти говорят одобрительно: Hediedwithhisbootson («Умер в сапогах»). Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно».
«Бродский нас совершенно задурил своими стихами»
О поэзии, джазе и римских прогулках с Иосифом Бродским: публикуем беседу Юрия Левинга с переводчиком и радиожурналистом Ефимом (Славой) Михайловичем Славинским (1936–2019).
Ленинградская молодость
— Как вы познакомились с Бродским?
— У нас очень давние отношения — мы познакомились в 1960 году. Виделись нечасто, но постоянно. Перед самым его отъездом не виделись. Я тогда жил в основном в Питере. Бродский уникальный в этом смысле человек, у него было 500 друзей, и я в том числе. До того, как он познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, одним его из ближайших друзей был Гарик Гинзбург-Восков. Есть его абсолютно пресные воспоминания о раннем Бродском. Сам по себе он интересный человек.
Иосиф пришел как-то на Благодатный [конечная трамвайная станция «Благодатный переулок» в районе Московского проспекта в Ленинграде. — Прим. Ю.Л.]. Как получился Благодатный? Леня Ентин женился на Элле [Липпе], а я на Гале, и мы искали жилье. Нам удалось снять две комнаты из трех в квартире, принадлежавшей полковнику, который уехал на все лето. Вот у нас на все лето образовалась пустая квартира. Тогда жилищные условия у всех были чудовищные, поэтому некоторые к нам приходили просто принять ванну. Леня Ентин приволок однажды туда Бродского, который всем понравился. Молодой, здоровый, рыжий, он приехал на велосипеде в дырявом спортивном трико. Он моментально стал читать стихи. Тогда все читали стихи. Конец 1950-х — это исключительно стихи. Окуджава и барды были позже.
Леня Ентин приволок однажды туда Бродского, который всем понравился. Молодой, здоровый, рыжий, он приехал на велосипеде в дырявом спортивном трико. Он моментально стал читать стихи. Тогда все читали стихи. Конец 1950-х — это исключительно стихи. Окуджава и барды были позже.
— Какое впечатление тогда на вас произвела его поэзия?
— Бродский нас совершенно задурил своими стихами. Я его познакомил с Рейном. Мы тогда любили раннего Пастернака, образцом для нас был ранний Тихонов, несколько стихотворений Луговского 1920-х — 1930-х годов, многие любили Багрицкого, но я его терпеть не мог. Заболоцкого любили, но не на Благодатном. Слуцкий повлиял на Бродского тоже.
У меня гипотеза такая, что если бы Бродский вовремя, в двадцать лет, не познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, то не было такого Бродского, которого мы знаем. Они к тому времени состоялись как поэты, а он пришел зелененький. Он писал тогда под Пабло Неруду. Они развивались до конца 1970-х, а он только начал разворачиваться. Вот если бы он познакомился тогда не с ними, а с Евтушенко, например? Это был бы другой человек. Кто в то время играл такую же роль, как Рейн? Он же уникален. О себе он написал, что он выучил писать стихи двенадцать человек. У него есть стихи на эту тему: «Выучил дюжину учеников — шесть негодяев, шесть мучеников».
Вот если бы он познакомился тогда не с ними, а с Евтушенко, например? Это был бы другой человек. Кто в то время играл такую же роль, как Рейн? Он же уникален. О себе он написал, что он выучил писать стихи двенадцать человек. У него есть стихи на эту тему: «Выучил дюжину учеников — шесть негодяев, шесть мучеников».
— Почему Бродский называл вас Юхим?
— Он меня так называл, имея в виду мое украинское происхождение. Я тоже называл его Джозеф. В январе 1975 года, когда мы встретились в Риме, он подарил мне подборку стихов с замечательной надписью на рукописи «Торса»: «Ефиму, to the only reader West of Berlin» («Единственному моему читателю к западу от Берлина»). Это в каком-то смысле правда.
— Поясните, что Бродский имел в виду?
— Я один из первых его понимающих слушателей. Помните, Рейн описывает это…
— Он пишет, что вы их познакомили с Бродским в 1959 году.
— Только в 1960 году. Рейн врет, как дышит.
— В «полутора комнатах» приходилось бывать часто?
— Раза три. Последний раз — за шесть дней до моего ареста, когда Иосиф праздновал день рождения, и там было человек тридцать. Меня арестовали 29 мая.
Последний раз — за шесть дней до моего ареста, когда Иосиф праздновал день рождения, и там было человек тридцать. Меня арестовали 29 мая.
В 1971 году в Новокузнецке я получил целый месяц отпуска и побывал и в Москве, и в Питере, где ломанулся к Бродскому. Мне открыл его отец, не узнал меня, но впустил к больному Иосифу. Там лежал Бродский — бледный, как смерть: то ли простуда, то ли сердце, и сказал мне, что написал стихи. Он их прочел мне вот таким мертвым голосом. Это были стихи «Натюрморт». Я тогда долго не стал сидеть, у него уже была одышка в тридцать лет. Так плохо он никогда не выглядел ни до, ни после.
— Расскажите про свою судимость.
— В зоне я был всего девять месяцев, а потом досиживал срок «на химии». Меня послали в Новокузнецк на стройку бетонщиком.
— Ваше дело ведь было сфабрикованное?
— Если бы не политика… Вообще, да, сфабрикованное. [Константину] Азадовскому подкинули, потому что он был знаком со мной. Таких курильщиков, как я, полгорода. Их всех сажать, что ли? У меня не был доказан факт сбыта, я только покурить давал кому-то. Но судья решил, что в данном случае это можно приравнять к факту сбыта.
Их всех сажать, что ли? У меня не был доказан факт сбыта, я только покурить давал кому-то. Но судья решил, что в данном случае это можно приравнять к факту сбыта.
— У вас нашли запрещенную литературу?
— Я как чувствовал и самое страшное спрятал. У меня были хроники Горбаневской [редактор самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий» в 1968 г. — Прим. Ю.Л.]. Нашли только Мандельштама. Если бы меня посадили за самиздат, то не выпустили бы досрочно. Я освободился в самом начале 1972 года.
Встречи с Бродским в Риме
— Сколько вы времени находились в столице Италии?
— Я приехал в сентябре 1974-го, а улетел в Лондон 16 января 1976 года. Я снимал комнату, подрабатывал в ХИАСе, получал пособие — в общем, кайфовал. Я жил на Пьяцца Фьюме, в одном квартале от Порто Пиа.
В 1975 году Анна Донни, которая живет в Риме, повезла меня к своим родственникам на Новый год под Венецию, потом я вернулся третьего числа где-то, и тут звонок — Бродский. Оказывается, он тоже был в Венеции и сейчас в Риме. Мы встретились, стоял пасмурный день. В первый же день нашей встречи мы пошли гулять на Форум, там он сделал несколько неудачных моих снимков. Вообще, в 1975 году мы несколько раз встречались в Италии, он всегда туда ехал, как только у него появлялись деньги.
Оказывается, он тоже был в Венеции и сейчас в Риме. Мы встретились, стоял пасмурный день. В первый же день нашей встречи мы пошли гулять на Форум, там он сделал несколько неудачных моих снимков. Вообще, в 1975 году мы несколько раз встречались в Италии, он всегда туда ехал, как только у него появлялись деньги.
Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом
Свое пребывание в Риме он воспринимал через фразу Гете «Остановись, мгновение, ты прекрасно». При этом Гете он не читал, но вот это ощущение есть в его римских стихах: в стихотворении «Пьяцца Маттеи» прямо целиком приведена эта фраза. Бродский подарил мне тогда подборку своих стихов, которые я потом взял и передарил Ромасу Катилюсу в Вильнюсе.
Я в Москву отправил подруге открытку 5 января 1975 года, поэтому помню точно дату, когда мы увиделись с Бродским. Прочту вам отрывок:
«Буду в Риме еще месяца три. Жду вестей от Шуры. А вчера утром вдруг звонит Иосиф —»Юхим, я в Риме». Мы не виделись три года и вот гуляем, выпиваем и треплемся. Он в полном порядке. Сегодня видели папульку (Римского), издали. Он произносил речь. Сказал, что все будет в порядке.
Мы не виделись три года и вот гуляем, выпиваем и треплемся. Он в полном порядке. Сегодня видели папульку (Римского), издали. Он произносил речь. Сказал, что все будет в порядке.
Потом пили какао в знаменитом Café Greco. Там бывали все знаменитости, ну, и мы решили побывать. Сидели под портретом Гоголя. Потом поднялись по Испанской лестнице и пошли к Villa Medici, и я заметил, что у Иосифа одышка.
У меня одышки нет, но все хуево с бронхами. Впрочем, я думаю, что все будет в порядке. Почему не пишешь? Что-нибудь не в порядке? Этот колдуэлловский идиотизм [Эрскин Колдуэлл — американский прозаик, популярный в СССР в 1940-60-е гг. — прим. Ю.Л.] на меня нагнал Иосиф своими рассказами об Америке. Говорит, там все в порядке. А их президент знаешь, почему лысый? Много играл в бейсбол без шлема, перепадало ему мячиком. Прощай, старушка. Пиши почаще. Твой Е.С.«
Мы сидим в «Кафе Греко», у него с собой была его только что вышедшая по-английски книжка в переводах Джорджа Кляйна с портретом на суперобложке. Я в какой-то момент говорю официанту: «Со мной сидит знаменитый русский поэт, поэтому принесите нам книгу почетных посетителей». Он на нас посмотрел скептически, сидят какие-то два хмыря, но принес нам толстенную книгу — такой гроссбух, и Бродский там расписался. Это было 3 или 4 января 1975 года [правильная дата — 9 января — прим. Ю.Л.]. Были встречи и после.
Я в какой-то момент говорю официанту: «Со мной сидит знаменитый русский поэт, поэтому принесите нам книгу почетных посетителей». Он на нас посмотрел скептически, сидят какие-то два хмыря, но принес нам толстенную книгу — такой гроссбух, и Бродский там расписался. Это было 3 или 4 января 1975 года [правильная дата — 9 января — прим. Ю.Л.]. Были встречи и после.
— А вы фотографировали его?
— Нет, я снимать не умею, я технический идиот. А Бродский — сын фотографа.
Потом, в конце 1975 — начале 1976 года я заходил к нему в отель на Пьяцца Минерва, где он жил на самом верхнем этаже. Мы пошли гулять на Испанскую лестницу, Пинчо и Trinita dei Monti. «Остановись мгновение» — это был лейтмотив Рима для нас обоих. Так вот, он мне подарил свою подборку, которая открывается этим гениальным стихотворением «Торс».
— Он вам отдал рукопись?
— Нет, это была машинописная подборка, которую я подарил Катилюсу. Я Рим знал не хуже Иосифа. Знаете, в Италии есть столовые самообслуживания? Мы там обедали, потом где-то с Анной, у Сильваны де Видович. Сильвана (Сизи) не принадлежала к ближайшему кругу людей Бродского, из него я знаю только Джованни Буттафаву. С Сильваной я был знаком еще с 1967 года, и когда я оказался в Риме, она сама вышла на меня. А кто был в круге ближайших его друзей, я не знаю. Он умел дружить со всеми по отдельности и с каждым, как с самым близким другом.
Сильвана (Сизи) не принадлежала к ближайшему кругу людей Бродского, из него я знаю только Джованни Буттафаву. С Сильваной я был знаком еще с 1967 года, и когда я оказался в Риме, она сама вышла на меня. А кто был в круге ближайших его друзей, я не знаю. Он умел дружить со всеми по отдельности и с каждым, как с самым близким другом.
— А вы писали стихи?
— Нет, у меня нет воображения. Он меня ценил как знатока поэзии. Рейн говорит, что он учитель Бродского. И это абсолютная правда. Рейн и меня научил воспринимать стихи. Мы с ним познакомились в 1958 году.
— Вернемся в 1975 год и к вашим встречам с Бродским в Риме. Как Иосиф начинал читать стихи?
— Это происходило мгновенно, его не надо было долго просить.
— Реагировали ли на это прохожие?
— В Риме за 3000 лет столько всего было, что, скорее, нет. Когда я жил в Италии, вышел роман итальянского писателя о том, как вдруг в Риме оказывается марсианин и становится фигурой дня в городе, а через месяц он уже всем надоедает. Мы говорили обо всем, виделись в этом году еще раз пять.
Мы говорили обо всем, виделись в этом году еще раз пять.
Славинский. Рим. 1975Предоставлено Юрием Левингом
— Вы упоминаете о своем и ваших приятелей увлечении модернистским джазом и западным ширпотребом.
— Мы все сидели на этом джазе. Что произошло с СССР? Нас закидали джинсами по аналогии с выражением «закидать шапками». Советский Союз погиб, потому что не умел производить джинсы. А мы все торчали на этом джазе. Главным теоретиком и пропагандистом джаза у нас был Фима Барбан. Он живет в Лондоне сейчас. Он был моим гуру с 1955 по 1958 годы. Нас пленяли классический джаз и диксиленд, Армстронг, Рой Элдридж, Джони Ходжес. Основным открытием для меня стал Билборд, которого для меня открыл Барбан. Чарли Паркер, Монк, Дэвис — вся эта компания. Вы знаете, кто такой Уиллис Коновер? Есть три знаменитых американца на весь Союз — Джек Лондон, Кеннеди и Уиллис Коновер. Последний — это диджей джазовой передачи «Голоса Америки». Юрий Ермолов вам лучше расскажет об этом времени.
По поводу западного ширпотреба есть замечательное эссе Бродского под названием «Трофейное», и там все описано. Описано, как мы торчали на этом. Если уж вспоминать о подарках, то как не вспомнить, что в нашу первую встречу в Риме (начало января 1975-го) он подарил мне чудный свитер тонкой вязки, бутылочного цвета, который только что купил в Венеции, но ему оказался маловат… И тогда же — машинописную подборку своих последних стихов, с уже упомянутым дарственным инскриптом «Ту зэ оунли ридер уэст ов Берлин»…
— Бродский тогда тоже подсел на джаз?
— Об этом свидетельствует поэма «Шествие», которая ходила по рукам в конце 1960-х, она была огромной (Бродский вообще был необычайно производительным). В моей самиздатской копии «Шествие» состоит из двух частей, а между первой и второй частью там было написано: «Конец первой части. Следует десятиминутный джазовый проигрыш. Выходят и играют…». Дальше он перечисляет как минимум полтора десятка джазовых, в основном авангардных, музыкантов. Это были наши любимцы — я запомнил некоторые имена: Луи Армстронг, Рой Элдридж, Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган, Дэйв Брубек, Телониус Монк, Кэннонбол Эдерли, Джон Колтрейн… Вставка с перечисления великих джазменов между первой и второй частью «Шествия» была в самиздатских экземплярах — что оная таки существовала, может подтвердить выдающийся питерский литературовед Татьяна Никольская, «Шествие» я читал именно с ее машинки.
Это были наши любимцы — я запомнил некоторые имена: Луи Армстронг, Рой Элдридж, Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган, Дэйв Брубек, Телониус Монк, Кэннонбол Эдерли, Джон Колтрейн… Вставка с перечисления великих джазменов между первой и второй частью «Шествия» была в самиздатских экземплярах — что оная таки существовала, может подтвердить выдающийся питерский литературовед Татьяна Никольская, «Шествие» я читал именно с ее машинки.
— Музыка влияла на поэзию Бродского?
— Конечно. Я помню, что в 1960-е, когда мы виделись до его посадки, он торчал на джазе и русской поэзии. Смешно сказать, что Бродский в 1959—1960-х подражал Янису Рицосу, Георгию Сиферису, Пабло Неруде. Эти дурацкие образы гладиаторов, черепа и еврейского кладбища.
— Кстати, вы видели книгу «Музыкальный мир Бродского»?
— Нет. Все упоминают о Перселе, «Дидона и Эней». Это чистая случайность. К Найману приехала одна английская аспирантка и привезла эту пластинку. Ахматова ее прослушала и заахала, она ж сама себя сравнивала с Дидоной. Отчасти это же история о ней и об Исайе Берлине. Почему он, гад, не женился и не увез ее?
Ахматова ее прослушала и заахала, она ж сама себя сравнивала с Дидоной. Отчасти это же история о ней и об Исайе Берлине. Почему он, гад, не женился и не увез ее?
Празднование нового года с Бродским в Риме
Так случилось, что в конце декабря 1975 года у Сильваны пустовала квартира, и она отдала мне ключ, чтобы мы смогли отпраздновать там Новый год. На этой вечеринке, кроме Нэнси, была еще Клавдия Яковлевна Славинская, которая приготовила нам котлеты, Нина и Никита Ставиские. Они долгое время жили в Лондоне — Нина работала на ВВС, потом они попали в США, работали в школе языков, потом перебрались в Лондон. Никита умер в 2007 году, а Нина уехала в Израиль.
— Они знали Иосифа и раньше?
— Это был его круг общения. У меня есть в расширенном виде отрывок, который я привел из письма Людмиле Штерн. Это из письма Мише Мейлаху: «При первой же встрече с Иосифом я ущипнул его вопросом о тебе: „Что же ты, гад, лажаешь Мейлаха по своим салонам? Ты же знаешь, что он светский человек, и это может ему навредить?. .“ и т.д., на что он ажно закручинился, запрокинул головушку и молвить изволил: „Да *** [чего. — Прим. ред.] ты мне: Мейлах, Мейлах! Что он, стеклянный, что ли? Что о ком хочу, то о том и говорю, и пошли вы все…“. И я подумал: действительно, Пьяцца дель Пополо, солнышко зимнее пригревает, красотища кругом и такая встреча, *** [чего. — Прим. ред.] там разбираться, действительно. Короче, надо немедленно поддать, что мы и сделали, и пошли по Малому Кругу, то есть не отходя далеко от Тибра. У каждого из нас в Риме есть „свои места“, и соответствующие поливы и пластинки. Вообще, в Риме с Иосифом было интересно, он там всегда был расслаблен и доволен. Написал чудный свой „Торс“, читал, гнусавя, под пиниями Виллы Боргезе, — большой кайф… В Новый год мы с ним и Никитой Стависким пели польские песни. Это оказалось единственное общее хобби троих, в общем-то, чужих людей. Перекидывались мелкими сплетнями и налегали на бренди. Тетка моя приготовила аидише котлеты с луком. Нэнси быстро вырубилась и уснула прямо на ковре, и от ее босых ступней шел пар почему-то.
.“ и т.д., на что он ажно закручинился, запрокинул головушку и молвить изволил: „Да *** [чего. — Прим. ред.] ты мне: Мейлах, Мейлах! Что он, стеклянный, что ли? Что о ком хочу, то о том и говорю, и пошли вы все…“. И я подумал: действительно, Пьяцца дель Пополо, солнышко зимнее пригревает, красотища кругом и такая встреча, *** [чего. — Прим. ред.] там разбираться, действительно. Короче, надо немедленно поддать, что мы и сделали, и пошли по Малому Кругу, то есть не отходя далеко от Тибра. У каждого из нас в Риме есть „свои места“, и соответствующие поливы и пластинки. Вообще, в Риме с Иосифом было интересно, он там всегда был расслаблен и доволен. Написал чудный свой „Торс“, читал, гнусавя, под пиниями Виллы Боргезе, — большой кайф… В Новый год мы с ним и Никитой Стависким пели польские песни. Это оказалось единственное общее хобби троих, в общем-то, чужих людей. Перекидывались мелкими сплетнями и налегали на бренди. Тетка моя приготовила аидише котлеты с луком. Нэнси быстро вырубилась и уснула прямо на ковре, и от ее босых ступней шел пар почему-то. Еще были Нина и Анна. На квартире Сизи [де Видович], среди ковриков и советских и маоистских плакатов». Никита Ставиский учился на историческом факультете и специализировался по Польше, Бродский всегда любил Польшу с моей подачи, а я известный полонофил.
Еще были Нина и Анна. На квартире Сизи [де Видович], среди ковриков и советских и маоистских плакатов». Никита Ставиский учился на историческом факультете и специализировался по Польше, Бродский всегда любил Польшу с моей подачи, а я известный полонофил.
Вот еще одна цитата из письма Людмилы Штерн:
«Вечером был на лекции Иосифа в School of Slavonic Studies. Он прочел на беглом и точном английском толковое эссе „Писатель и язык“ (потом я выяснил, что и намахал он его прямо по-аглицки за четыре ночи. Вот молодец!), Ляля [Майерс] разносила чай и шерри, Джозеф отвечал на вопросы (будучи, как обычно, мил с полузнакомыми, а вообще-то, он все такой же хам). А потом Алик Берг повел нас семерых в какой-то особенный индийский ресторан, невзирая на мои протесты — индийская кухня совершенно несовместима с моим еврейским желудком, способным переваривать гвозди. Тут возникли какие-то напряги — Алик и [Зиновий] Зиник свалили, и вечер закончился самым скучным образом у Машки [Слоним]. Джо сперва рыпался, что мы все какие-то сонные, ему хотелось действия, мол, вот у нас, в Америке… „Ну, да, — начали дорываться мы, — это молодая динамичная страна, размах и энергия, нью фронтир“. „Нет, — сказал он, — просто перемена ритма“. Он сейчас в Кембридже. И стишки почитал — один другого лучше, длинные, напористые, чисто описательного, любовательного свойства, все как один. В этот вечер он опять мне понравился, как это было в Риме. Потому что наши предыдущие лондонские встречи совершенно не удавались. Не те обстоятельства, он капризуля, а вот он среди людей, видящих его насквозь, любящих — но на мякине их не проведешь — тогда он ручной. В эссе он назвал себя „тем из русских авторов, на кого наибольшее влияние оказала англо-американская поэзия“, — наибольшее по сравнению с другими авторами. Это не комплимент хозяевам: в английском цикле и в „Колыбельной трескового мыса“ влияние это уже видно и подчеркнуто».
Джо сперва рыпался, что мы все какие-то сонные, ему хотелось действия, мол, вот у нас, в Америке… „Ну, да, — начали дорываться мы, — это молодая динамичная страна, размах и энергия, нью фронтир“. „Нет, — сказал он, — просто перемена ритма“. Он сейчас в Кембридже. И стишки почитал — один другого лучше, длинные, напористые, чисто описательного, любовательного свойства, все как один. В этот вечер он опять мне понравился, как это было в Риме. Потому что наши предыдущие лондонские встречи совершенно не удавались. Не те обстоятельства, он капризуля, а вот он среди людей, видящих его насквозь, любящих — но на мякине их не проведешь — тогда он ручной. В эссе он назвал себя „тем из русских авторов, на кого наибольшее влияние оказала англо-американская поэзия“, — наибольшее по сравнению с другими авторами. Это не комплимент хозяевам: в английском цикле и в „Колыбельной трескового мыса“ влияние это уже видно и подчеркнуто».
Это циркулярное письмо, я его разослал нескольким людям. Это конец 1979 года. Письмо Мейлаху про Новый год — это ноябрь или декабрь 1979 года. Мейлаху я писал в СССР. Это было после моего единственного визита в США, где я видел его сестру Мирру и зятя Генриха Орлова. В течение 1975 года я от него получил три письма.
Письмо Мейлаху про Новый год — это ноябрь или декабрь 1979 года. Мейлаху я писал в СССР. Это было после моего единственного визита в США, где я видел его сестру Мирру и зятя Генриха Орлова. В течение 1975 года я от него получил три письма.
Другое письмо мне в Лондон: «Это письмецо не столько для тебя, сколько для Машки, с которой мы проблему нижеследующую уже обсуждали в столице французской республики. Она знает, о ком речь. Так вот, чувак скоро окажется в Риме, и если все пойдет нормально, и я думаю, что его было бы хорошо попробовать устроить к вам [на ВВС], — хотя бы из соображений чистого воздуха. Посему, не отпишешь ли мне, какова процедура и ее стадии — с тем, чтоб я его мог вовремя информировать и избавить от всяких там накладок и траты времени. Сие есть первое. Второе — насчет того же самого, но кадров, уже пребывающих тут. М. говорила про какие-то там аппликации, т.е. анкеты и запись голоса и проч. Можно ли все эти дела переслать сюда или следует рыть землю на месте — и тогда квэсчен: где? Бродский, 309 Уэсли стрит, Энн Арбор, Мичиган, 48104, USA».
Еще один вечер в Риме вспоминается. Мы далеко за полночь пьем кофе, разбавляя его виски в баре у Термини. Иосиф расстегивает рубашку и показывает довольно свежий шрам от операции на открытом сердце. Я думаю, что это возле первой операции было. Я ему тогда сказал: «Тянет на Нобеля». Это тогда он мне подарил свитер.
Рим для Бродского был просто кайфом, особенно после питерской погоды. Когда я попал в Рим, то поверил в переселение душ и понял, кем я был в прошлой жизни — я был ягненком, пасся на холмах в XVIII веке, меня зарезали и подали на обед какому-то кардиналу. Поскольку я провел невинную жизнь, то возродился в следующий раз уже в более высокой инкарнации — в человеческой. Я понял, что я здесь был. Но, будучи человеком, я столько нагрешил, что, наверное, в следующей жизни я буду тараканом.
Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом
— Вы такое не говорили Иосифу? Вы об этом в итальянских забегаловках обсуждали?
— Этого я не помню. Кстати, я помню, что мы заказывали из итальянской кухни — это была фасоль. Мы оба ее любили. Бродский не говорил по-итальянски и не хотел быть похожим на итальянца.
Кстати, я помню, что мы заказывали из итальянской кухни — это была фасоль. Мы оба ее любили. Бродский не говорил по-итальянски и не хотел быть похожим на итальянца.
— Не чурался ли бывших соотечественников при встречах с ними в Италии?
— Нет.
— Посещали ли вы вместе музеи в Риме?
— Нет, но мы ходили на вершину Авентина, где есть закрытый сад, в воротах которого зияет дыра, поглядев в которую, человек видит аллею деревьев, в конце которой, как на картинке, виднеется купол Святого Петра. Сан Пьетро — это известная достопримечательность.
— Иосиф был фланером?
— Да, как и я, с нотами поведения типичного туриста. Мы кайфовали.
— Комментировал увиденные красоты?
— Мы торчали от всего.
— Как вы относитесь к его Римским стихам?
— «Виа Джулия» — ничего. «Пьяцца Маттеи» — местами гениальные, но испорченные похабенью. «Я ставил Микелину раком» — так нельзя делать.
Подборка стихов, которую он мне подарил при встрече в 1975 году, состояла из десяти стихотворений. Первое стихотворение было «Торс»:
Первое стихотворение было «Торс»:
Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг…
А «Вертумн», посвященное Джанни Буттафава, я так и не прочел — это длинное и занудное стихотворение. У Бродского много воды в стихах.
— Знакомил ли Бродский вас с его римскими друзьями?
— С Сильваной я был знаком и без него, а вот с Буттафавой я познакомился с его подачи.
— Известно ли вам о том, что он делал в свободное время?
— Кого он трахал? Понятия не имею…
Мы подбираемся к концу 1975 года, когда он появился в Риме опять. Иосиф привел меня к двум своим бывшим студентам-американцам Арнольду и Джоан. Мы пришли к ним на квартиру, целый вечер сидели, галдели. Им было просто приятно, что появился еще один человек, который прилично говорил по-английски. Квартира была в районе Виа Кондотте.
Квартира была в районе Виа Кондотте.
— Вы упомянули, что вместе с Иосифом видели Папу Римского.
— Папульку видели, я не помню, кто тогда был. Он вещал с балкончика. Иосиф его называл «папулькой».
Однажды в Риме, в начале 1980-х, мы виделись по крайней мере два раза: первый — когда он мне шрам показывал, а второй — в июне 1981-го, когда его пригласила Американская академия читать стихи. Я был на этом мероприятии. Я приехал тогда в Рим к Славику и Лоре Паперно. Я случайно узнал, что Иосиф выступает в Американской академии, и мы рванули туда. Он тогда любовно на нас посмотрел, мы потрепались и разбежались. Были встречи и после Рима.
— Был ли Бродский щедрым?
— Он был щедрым со всеми. Мне Найман рассказывал, как они встретились в Венеции, и он его повел в самый шикарный бар в мире. И тут какие-то итальянские знакомые появились, которых он тоже стал угощать шампанским. Безумные какие-то поступки.
— Он как-то менялся за эти годы?
— Последний раз я его видел в 1991 году. Нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями, но мы знакомы с 1960 года. У нас были общие хобби — русская поэзия, американский джаз, Польша. Нам нравились два фильма Вайды — «Канал» и «Пепел и алмаз». В Риме он мне говорил, что из стран, изначально принадлежащих белому человеку, самая замечательная — это Ирландия. Он там бывал, рассказывал, какие там люди живут замечательные. Ему очень нравился Дублин. Это у меня есть в письме Людмиле Штерн. Есть избранные страны, на которых он кайф ловил — Мексика, Ирландия, Италия, Польша, Венеция отдельно. Про Польшу у него нет стихов, но мы говорили о ней. Мы шутили, что это самый веселый барак в соцлагере. Он по-польски мог читать, он перевел Галчинского, Тувима переводил.
Нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями, но мы знакомы с 1960 года. У нас были общие хобби — русская поэзия, американский джаз, Польша. Нам нравились два фильма Вайды — «Канал» и «Пепел и алмаз». В Риме он мне говорил, что из стран, изначально принадлежащих белому человеку, самая замечательная — это Ирландия. Он там бывал, рассказывал, какие там люди живут замечательные. Ему очень нравился Дублин. Это у меня есть в письме Людмиле Штерн. Есть избранные страны, на которых он кайф ловил — Мексика, Ирландия, Италия, Польша, Венеция отдельно. Про Польшу у него нет стихов, но мы говорили о ней. Мы шутили, что это самый веселый барак в соцлагере. Он по-польски мог читать, он перевел Галчинского, Тувима переводил.
Как-то мы навещали в Риме поэтессу по имени Эва Брудне, которая жила у Люси Торн. Она нас угостила обедом, и Иосифу пришлось послушать ее стишки в виде платы за обед. Она была счастлива. Она была в Риме в 1975 году проездом, сейчас она живет в Австралии.
Я обожаю его стихотворение «Представление». Оно существовало в нескольких вариантах. Тот вариант, который я получил, был сокращенным, а полный уже опубликовали в «Континенте». Мои любимые его стихи — это «Колыбельная Трескового мыса». Это самые американские его стихи.
Оно существовало в нескольких вариантах. Тот вариант, который я получил, был сокращенным, а полный уже опубликовали в «Континенте». Мои любимые его стихи — это «Колыбельная Трескового мыса». Это самые американские его стихи.
— В Йельском архиве отложилась сделанная вами в Риме фотография Бродского рядом с благородно одетой пожилой дамой. Они стоят у статуи волчицы, кормящей Рема и Ромула. С вашей помощью мне удалось идентифицировать женщину — Раису Берг.
— На снимке таки да, Раиса Львовна Берг, она довольно долго проторчала в Риме по пути в Америку, это 1975 год. Она была выдающийся биолог и покровительница диссидентов и богемы. См. ее книгу «Суховей». С Иосифом они были знакомы с начала шестидесятых годов, он у нее на квартире читывал стишки. Про Р.Л. можно узнать в Википедии и в массе других источников. Люда Штерн, по-моему, тоже была с ней знакома, ее семья обреталась в том же 1975-м году в Риме.
Как-то мы с Раисой Львовной Берг и Иосифом пошли пить пиво к фонтану Треви в знаменитое кафе. Там было зеркало за баром во всю стену, и я увидел в него, как Бродский смотрит на нас с Раисой Львовной с нежностью. Странно, что у нас с Бродским нет ни одного совместного снимка [в Италии].
Там было зеркало за баром во всю стену, и я увидел в него, как Бродский смотрит на нас с Раисой Львовной с нежностью. Странно, что у нас с Бродским нет ни одного совместного снимка [в Италии].
Е. Славинский и Р. Л. Берг на площади Кампидолио у памятника Марку Аврелию. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом
Раиса Львовна потом работала в Мэдисоне, позже перебралась в какой-то биологический институт в Париже. Она знаменитый генетик. У нее в Советском Союзе был всегда открытый для нас дом, хотя она ютилась в двух комнатах коммунальной квартиры. Жила она с двумя дочками — Лизой и Машей. Раиса Львовна — дочка академика Берга. Во Франции живут дочь и бывший ученик и сотрудник Раисы Львовны.
— Осенью 1962 года Бродский жил на даче академика Берга в Комарово вместе с художником Яшей Виньковецким.
— Одна из самых замечательных страниц моей римской жизни связана с Яшей Виньковецким. С ним было потрясающе ходить по Риму, потому что он ходячая энциклопедия. Мы с ним и его женой Диной были в 1962 году в экспедиции в центральном Казахстане. Яша был знаком с Иосифом по Ленинграду. Отрывок в письме Мейлаху 1979 года про Яшу: «…В Риме было уютно, и шел плотный поток друзей, знакомых и полузнакомых. Например, Яша Виньковецкий так обалдел от Италии, что правдами и неправдами растянул римские каникулы на полгода. С ним замечательно было ходить по Риму, он так и сыпал датами и фактами, вроде: «На этом мосту в таком году Бенвенуто Челлини во главе отряда папских гвардейцев отражал натиск парашютистов десантной дивизии под командованием виконта Монморанси»… Яша был светлый человек. Его сестра продвигает идею, что его смерть все же была не самоубийством.
Мы с ним и его женой Диной были в 1962 году в экспедиции в центральном Казахстане. Яша был знаком с Иосифом по Ленинграду. Отрывок в письме Мейлаху 1979 года про Яшу: «…В Риме было уютно, и шел плотный поток друзей, знакомых и полузнакомых. Например, Яша Виньковецкий так обалдел от Италии, что правдами и неправдами растянул римские каникулы на полгода. С ним замечательно было ходить по Риму, он так и сыпал датами и фактами, вроде: «На этом мосту в таком году Бенвенуто Челлини во главе отряда папских гвардейцев отражал натиск парашютистов десантной дивизии под командованием виконта Монморанси»… Яша был светлый человек. Его сестра продвигает идею, что его смерть все же была не самоубийством.
В Рим я возвращался каждый год до 1984 года. Язык я выучил после первых трех недель пребывания там в 1975 году и реально помогал всем друзьям и знакомым в качестве переводчика. Последний раз в Италии я был в 1984 году. Я хотел остаться в Италии на самом деле, но там всегда было трудно легализоваться.
Бродский в Лондоне
— Бродский часто навещал Англию. Ваши встречи продолжились и там — после того, как вы покинули Рим?
— Впервые в Лондоне мы увиделись в 1977-м, кажется. Он мне позвонил на работу и привел в Буш-хаус (это тот дом, где было радио ВВС). Мы виделись в Лондоне в 1977, 1978, 1989, 1991 годах.
— Целая глава в вашей жизни связана со службой вещания в ВВС.
— Там были свои плюсы и минусы. В 1982 году я прочел на радио целую серию «Современная русская поэзия в западных публикациях» в 35 частях по 10 минут.
У Бродского есть длинные стихи «Представление», и я их решил нарезать кусками для эфира. Но потом передумал вовсе.
— В Лондоне у него были свои коронные маршруты?
— В этом городе он открыл мне одну «тавалу кальду» возле Блумсбери Сквер, мы там обедали несколько раз. У Машки Слоним были несколько раз тогда. Однажды я его встретил прямо на улице: выхожу из станции метро «Эмбанкмент» и иду по Виллер-стрит, где когда-то жил Киплинг и всегда пахнет жареной рыбой, а навстречу Иосиф. Зимний ранний вечер. И мы полчаса провели в сплетнях. Это был 1977 год, я помню, потому что в том году умер Элвис Пресли. Эту встречу я описываю в письме Найману. В тот момент я был в постоянном контакте с Найманом, он был моим гуру в течение тридцати лет. А у Наймана в это время был период неофитства: он крестился под влиянием Стася Красовицкого. У каждого свои причины на это, я сам чуть не крестился однажды.
Зимний ранний вечер. И мы полчаса провели в сплетнях. Это был 1977 год, я помню, потому что в том году умер Элвис Пресли. Эту встречу я описываю в письме Найману. В тот момент я был в постоянном контакте с Найманом, он был моим гуру в течение тридцати лет. А у Наймана в это время был период неофитства: он крестился под влиянием Стася Красовицкого. У каждого свои причины на это, я сам чуть не крестился однажды.
Вам еще предстоит ознакомиться со стихами Стася. Бродский его высоко ценил и однажды в беседе со мной во второй половине 1960-х заметил: «Да, Стась нам всем подрЕзал яйца». Понять его гениальность можно только войдя в контекст 1960-х годов. У Бродского замечательные стихи, но ранние стихи его мне не нравятся — там столько воды!
— Где в Лондоне жили вы сами и у кого обычно останавливался Бродский?
— В начале 1980-х мы с ним виделись раза три. Я, уже работая на ВВС, приезжал в Рим несколько раз.
В Лондоне я снимал чердак у Натальи Семеновны Франк [дочери профессора, философа С. Л. Франка. — Прим. Ю.Л.]. Этот дом она купила в начале 1950-х и забрала отца и мать к себе из Парижа. Бродский был у них в гостях как-то. Ему там было невыразимо скучно, и Наталья Семеновна мне о нем говорила как о страшном хаме, потому что он пробыл в гостях недолго и ушел без извинений. Это его характерная черта.
Л. Франка. — Прим. Ю.Л.]. Этот дом она купила в начале 1950-х и забрала отца и мать к себе из Парижа. Бродский был у них в гостях как-то. Ему там было невыразимо скучно, и Наталья Семеновна мне о нем говорила как о страшном хаме, потому что он пробыл в гостях недолго и ушел без извинений. Это его характерная черта.
В Лондоне он общался с Лялей, он у нее почти всегда останавливался. У него есть стихотворение, посвященное ее мужу-переводчику Алану Майерсу. Он перевел «Стихи о зимней кампании 1980 года».
Бродский прилично знал Лондон. В 1980-х мы там виделись раз пять. Иногда он останавливался у Марии Слоним. Там было всегда довольно не прибрано, и Бродский однажды оттуда сбежал, оставив записку: «Too much of srach». У нее там всегда месяцами жили какие-то люди — как минимум, там жили две собаки. Бродский не был фанатиком чистоты, но он был довольно аккуратен.
— Вы приглашали его на передачи на ВВС?
— Я взял у него однажды коротенькое интервью. Игорь Померанцев сделал с ним основательное интервью. Я записывал его чтение стихов. Леша Хвостенко его отдельно записал на хорошую аппаратуру, и все это есть в сети.
Я записывал его чтение стихов. Леша Хвостенко его отдельно записал на хорошую аппаратуру, и все это есть в сети.
Конец октября 1987-го, когда он получил премию, я сижу на ВВС, и вдруг входит одна английская коллега и говорит: «Вот, Фима, ты был прав, когда говорил, что вот эту пленку с Бродским нужно приберечь, потому что он того и гляди получит Нобелевскую премию». В этот же день он пришел на ВВС, и Машка [Слоним] заперлась с ним в студии и взяла длинное интервью. Потом он исчез, а когда появился в октябре в 1987-го перед тем, как уехать в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, то собрал всех своих лондонских друзей. Он пришел с каким-то английским поэтом, и Фейт Вигзелл, кроме того, у Ляли Майерс были Маша и ее сестра Вера, и кто-то еще.
Письмо Славинского Бродскому по делам русской службы BBC. 1 июля 1976Фото: предоставлено Юрием Левингом
Последний раз я его видел в Лондоне летом 1991 года по какой-то договоренности. Возможно, Найман мне позвонил, потому что у него должна была выйти книга стихов в издательстве Игоря Ефимова [«Эрмитаж»], а Бродский должен был написать к ней предисловие. Найман попросил меня найти Бродского в Лондоне, взять у него этот текст и выслать ему, потому что Иосиф был занят или болен. Я приехал к Ляльке, где он остановился, он вышел меня встречать. А там были двойные входные двери — одна в тамбур, где было две квартиры, а вторая, собственно, в квартиру. Так вот, вторая дверь захлопнулась, мы постучали к соседям снизу и попросили стремянку. Они ему ее дали, мы вышли в сад, сперва я пытался залезть, но он был выше и, в отличие от меня, смог влезть в открытое окно. Я испугался за его сердце, но все обошлось. Он открыл мне дверь, мы сели на кухне и выпили виски.
Найман попросил меня найти Бродского в Лондоне, взять у него этот текст и выслать ему, потому что Иосиф был занят или болен. Я приехал к Ляльке, где он остановился, он вышел меня встречать. А там были двойные входные двери — одна в тамбур, где было две квартиры, а вторая, собственно, в квартиру. Так вот, вторая дверь захлопнулась, мы постучали к соседям снизу и попросили стремянку. Они ему ее дали, мы вышли в сад, сперва я пытался залезть, но он был выше и, в отличие от меня, смог влезть в открытое окно. Я испугался за его сердце, но все обошлось. Он открыл мне дверь, мы сели на кухне и выпили виски.
— Он был бесстрашный?
— Абсолютно. Дикий человек. Он был рабочим в морге и имел дело с трупами в молодости. Я бы не сказал, что он отчаянно храбрый, но тут он проявил смекалку… В 1991 году мы с Бродским посидели, выпили виски. Он дал мне этот экземпляр предисловия с поправками, который я потом выслал. Мы сидели полчаса всего.
Об «ахматовских сиротах»
Евгений Рейн
Конечно, главное влияние на Бродского оказал Рейн, какое-то влияние оказал на него Бобышев. Где-то я встретил высказывание, что «Рейн ему напел всю русскую поэзию». Это довольно точно, потому что Рейн не говорил о поэзии абстрактно, он всегда приводил конкретный пример. Я как-то сказал, что Есенина нельзя воспринимать всерьез, и он тут же процитировал мне гениальную строфу у Есенина.
Где-то я встретил высказывание, что «Рейн ему напел всю русскую поэзию». Это довольно точно, потому что Рейн не говорил о поэзии абстрактно, он всегда приводил конкретный пример. Я как-то сказал, что Есенина нельзя воспринимать всерьез, и он тут же процитировал мне гениальную строфу у Есенина.
Рейн писал: «Лучший маршрут — напрямик, напролом». Кто это у кого украл, я не знаю [строка из стихотворения Роберта Фроста «A Servant to Servants» (1914), ср. в оригинале: «The best way out is always through». — Прим. Ю.Л.]. Это из «Vita nova», мои любимые стихи у Рейна [написано в 1970 г. — Прим. Ю.Л.]. Сейчас он исписался совершенно. Процитирую самого себя: «Начались волнения студентов из-за того, что с каких-то пор семинары для студентов стала вести Надька. Она честно привозит на занятия Женю, сажает его в аудитории и вещает сама. Мне не смогли объяснить, в каком он сейчас состоянии, но сама ситуация достаточно наглядна. На что я ей ответил, что это полный сюр, что Надька вытворяет с Рейном. А все от обоюдной жадности. Но она, заметь, серьезно рискует — его может хватить кондрашка прямо по ходу семинара. Героическая кончина, как поэту и положено». Я прислал эту историю Бобышеву, и он мне ответил: «Ну, так на пельмени, видимо, не хватает, как всегда. А вот тебе питерский курьез — Нева замерзла. Такого не случалось с 1970-х годов, когда тот же Рейн провалился напротив Петропавловки по пояс и примчался ко мне сушиться. В процессе сушки выпил мою водку. Галя [Рубинштейн] свидетельница».
А все от обоюдной жадности. Но она, заметь, серьезно рискует — его может хватить кондрашка прямо по ходу семинара. Героическая кончина, как поэту и положено». Я прислал эту историю Бобышеву, и он мне ответил: «Ну, так на пельмени, видимо, не хватает, как всегда. А вот тебе питерский курьез — Нева замерзла. Такого не случалось с 1970-х годов, когда тот же Рейн провалился напротив Петропавловки по пояс и примчался ко мне сушиться. В процессе сушки выпил мою водку. Галя [Рубинштейн] свидетельница».
Дмитрий Бобышев
Когда Бродского посадили, Дима проявил себя самым лучшим образом. Он написал письмо в Союз писателей, где доказал, что те стихи, которые приписываются Бродскому, не его стихи на самом деле.
Что мне не понравилось, так это то, что, когда Бродский сел, все ему сочувствовали, навещали, я ему послал книги, но Диме объявили неофициальный бойкот. Все бойкотировали, кроме Наймана и меня. Мы с Бобышевым жили недалеко друг от друга, он тогда наконец получил собственную комнату на Петроградской.
— То есть Бродский нормально отнесся к тому, что вы продолжили общение?
— Да, конечно. Мы, когда встретились в Риме в первый раз и я ему рассказал, что Дима осуждает Бродского в стихах — «Кто рвал платочек в истерике среди доцентских дочек?», Бродский ответил: «Митяй все еще переживает за ту историю?» На этом обсуждение и закончилось. У нас были другие темы для разговора — стихи, джаз, Америка. Бродский говорил как-то, что в те годы мы были больше американцы, чем самые американцы. В своем эссе «Трофейное» он развивает эту тему.
— Вам нравится то, что сейчас пишет Бобышев?
— Стихи оставляют равнодушным, а с его прозой у меня сложные отношения, потому что он там привирает много. Он приписывает людям высказывания и приводит прямую речь, которую он физически не мог запомнить. Найман, когда писал свои воспоминания об Ахматовой, писал очень осторожно, избегая прямой речи, в которой он не уверен. У меня с Бобышевым по этому поводу были трения.
Есть небольшой пример. Мы с ним вместе в 1982 году оказались в Милане на конференции «Дель Диссенцио» — сборище русских диссидентов, организованное Владимиром Максимовым. Там были все — от генерала Григоренко до Наташи Горбаневской. Был пиковый момент Холодной войны, роскошный отель, огромная компания. Бобышев был приглашен, а я сам пришел. Они все прилетели одним рейсом из США, и я подумал, что если бы самолет рухнул… Я тогда же познакомился с Парамоновым и Алешковским. Я поставил им пиво с условием, чтобы Алешковский подарил мне доллар с автографом. Бобышев благодаря мне повидал Венецию и Рим. Вот мы на этой конференции, и Бобышев знакомится с Юрием Гальпериным и Михаилом Генделевым. Мы с Бобышевым собирались уже идти на поезд и ехать в Венецию, но он говорит, что Гальперин предлагает нам вчетвером ехать на его машине, если мы скинемся на бензин. У меня были сомнения на этот счет, потому что я знаю, что им в Венеции негде ночевать и их мы не можем привести к моим итальянским друзьям. Так вот, в итоге они ночевали в машине.
Мы с ним вместе в 1982 году оказались в Милане на конференции «Дель Диссенцио» — сборище русских диссидентов, организованное Владимиром Максимовым. Там были все — от генерала Григоренко до Наташи Горбаневской. Был пиковый момент Холодной войны, роскошный отель, огромная компания. Бобышев был приглашен, а я сам пришел. Они все прилетели одним рейсом из США, и я подумал, что если бы самолет рухнул… Я тогда же познакомился с Парамоновым и Алешковским. Я поставил им пиво с условием, чтобы Алешковский подарил мне доллар с автографом. Бобышев благодаря мне повидал Венецию и Рим. Вот мы на этой конференции, и Бобышев знакомится с Юрием Гальпериным и Михаилом Генделевым. Мы с Бобышевым собирались уже идти на поезд и ехать в Венецию, но он говорит, что Гальперин предлагает нам вчетвером ехать на его машине, если мы скинемся на бензин. У меня были сомнения на этот счет, потому что я знаю, что им в Венеции негде ночевать и их мы не можем привести к моим итальянским друзьям. Так вот, в итоге они ночевали в машине. А у Бобышева в воспоминаниях описано это так, что, мол, мой друг Славинский говорит, что он только что договорился с Генеделевым и Гальпериным и т.д. Вот так по мелочам присочиняет.
А у Бобышева в воспоминаниях описано это так, что, мол, мой друг Славинский говорит, что он только что договорился с Генеделевым и Гальпериным и т.д. Вот так по мелочам присочиняет.
На этой конференции Бродского не было. Это было заметно — так же, как и отсутствие Синявского.
— А что в кулуарах говорили о Бродском?
— Кто-то его любил, а кто-то нет. История вражды Бродского и Бобышева хорошо документирована. Меня она никогда не интересовала, и никого бы не интересовала, если бы Бобышев ее не раздувал.
Я писал кому-то про Бобышева: «По линии гражданской чести он проявился безупречно сразу после фельетона в Ленправде, в котором приводились три цитаты из его стихов, выдаваемые за стихи ИБ. Очень неряшливая стряпня Лернера и гэбухи. Бобышев направил в Ленотделение Союза писателей суровое письмо протеста. Впрочем, перечитай лучше ту часть его мемуаров, которая в 11 номере октября за 2000 год. Если бы не арест, суд и ссылка, все бы устаканилось. Вся эта история с Басмановой не превратилась бы в роман века. Не могу я всерьез отнестись к этому конфликту взбесившихся самцов. Подумаешь, бабу не поделили. В этих делах выбирают женщины, не правда ли? Кстати, Ахматова, до которой успели дойти пересуды, высказывала недоумение, почему это все говорят Дима, Ося, Ося, Дима, а где же Марина? Что она себе думает? А она ничего не думала. От нее не осталось ни единого слова и один посредственный снимок в сети».
Не могу я всерьез отнестись к этому конфликту взбесившихся самцов. Подумаешь, бабу не поделили. В этих делах выбирают женщины, не правда ли? Кстати, Ахматова, до которой успели дойти пересуды, высказывала недоумение, почему это все говорят Дима, Ося, Ося, Дима, а где же Марина? Что она себе думает? А она ничего не думала. От нее не осталось ни единого слова и один посредственный снимок в сети».
Ахматова к этому треугольнику века относилась скептически.
Дима подвел Бродского… Чушь все это! А как себя вел Бродский? Резал театрально вены и ходил по всем домам жаловаться на судьбу в засаленных бинтах.
На обломке капители римской колонны. Фото И. Бродского. Январь 1975Предоставлено Юрием Левингом
Анатолий Найман
У Иосифа были периоды [дружбы с разными людьми]. Например, был период до ареста в году в 1962, когда у них с Найманом была просто любовь: они встречались каждый день, при этом оставались на «вы».
Найман невероятно на меня повлиял. Мы познакомились в 1958-м, а в 1974-м я уехал (меня удерживало то, что я был полтора года отказником по еврейскому вызову). Он меня разочаровал, но это никак не повлияло на мое отношение к его прозе. Самую лучшую книгу он написал о Берлине, это роман «Сэр». Тридцать лет он был моим третьим по счету гуру, вторым был Фима Барбан. Он был моим гуру с 1954-го по 1956-й. Гуру — это не друг, а наставник, тот, кто вне критики. Фима живет в Лондоне, в трех остановках метро от меня, он работал на ВВС.
Мы познакомились в 1958-м, а в 1974-м я уехал (меня удерживало то, что я был полтора года отказником по еврейскому вызову). Он меня разочаровал, но это никак не повлияло на мое отношение к его прозе. Самую лучшую книгу он написал о Берлине, это роман «Сэр». Тридцать лет он был моим третьим по счету гуру, вторым был Фима Барбан. Он был моим гуру с 1954-го по 1956-й. Гуру — это не друг, а наставник, тот, кто вне критики. Фима живет в Лондоне, в трех остановках метро от меня, он работал на ВВС.
Америка Бродского
Я был один раз в Америке в 1979 году с Анной Дони. Мы пошли тогда к Бродскому в гости на Мортон-стрит, и он повел нас в сычуаньский ресторан. Потом он посадил нас в свой «Форд Матадор» и повез на Бруклин Хайтс, откуда хорошо видно Нью-Йорк.
— Он любил Нью-Йорк?
— Да, он кое-что понимал в Америке. По давности знакомства мы были друзьями, по регулярности — знакомыми. Мы виделись редко, но всякий раз интенсивно. Лифшиц (Лев Лосев), наверное, был его другом.
В мою последнюю встречу с Бродским, я его спросил, кого бы он посоветовал из молодых поэтов. Но он перевел разговор. Я только по слухам знаю, что он ценил Гандельсмана, но таких поэтов десятки. Мне нравятся стихи Марии Ватутиной. Это явное подражание одному стихотворению Бродского, но сами стихи классные: «С чужими не разговаривай, жизнь у тебя одна…».
— Но в Америку в итоге вы жить так и не переехали?
— Меня не пускали в США, потому что у меня была судимость по наркотической статье в России, и я не стал об этом врать в анкетах. У меня были безумные идеи: я собирался приплыть туда нелегально в качестве кочегара в порт Гальвестон в Техасе. Меня отговаривали от этой глупости. В письме от 1 августа 1975 года Бродский писал мне, что «нанят адвокат, который роет землю во всех возможных направлениях», и добавлял: «На той неделе увижусь с сенатором Бакли, постараюсь на него нажать. Насчет башлей — заткнись раз и навсегда. Я думаю, что удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Второе — где-то там в ваших краях обитает Нэнси Шилли. Ее можно найти через Ирину Керк и сказать при этом такие слова: „пускай приезжает в Энн Арбор, а башли мы найдем“. Стишки для тебя новые и старые подошлю, как только руки дойдут. Дай Марамзину телефон Джанни Буттафавы и введи его в контакт с Сильваной [де Видович], которой — поцелуй».
Второе — где-то там в ваших краях обитает Нэнси Шилли. Ее можно найти через Ирину Керк и сказать при этом такие слова: „пускай приезжает в Энн Арбор, а башли мы найдем“. Стишки для тебя новые и старые подошлю, как только руки дойдут. Дай Марамзину телефон Джанни Буттафавы и введи его в контакт с Сильваной [де Видович], которой — поцелуй».
Славинский у себя дома в Лондоне. 2018 Фото Ю. Левинга
— Кто такая Нэнси Шилли?
— Это моя коллега. Я работал в ХИАСе — это еврейская контора, помогающая перебираться в США. Нэнси прекрасно говорила по-русски. В письме от 27 февраля 1975 года Бродский предупреждал меня не рыпаться пока в Госдепартаменте хлопочут насчет моих дел. Если ты совершил одну ошибку, то это не значит, что надо совершить другую, говорил Бродский. Планировалось, что сначала я приеду в Канаду. «И ради Бога, не переходи границу пешком. Ее надо переезжать на автомобиле», пытался вразумить меня Иосиф и добавлял, что в марте в Италию «поедут две Мичиганские чувихи. Одна из них — Нэнси Бэверэдж — совершенная прелесть, и я дал ей твой адрес, если ты еще будешь там. Их водить по Риму тебе будет приятнее, чем пожилых израильтянок или даже Раису Львовну. Кроме того, Максимов обещал подкинуть тебе работенку. Пошлю тебе завтра башли. И не откладывай их для братана, так как не известно, когда он ими сможет воспользоваться».
Одна из них — Нэнси Бэверэдж — совершенная прелесть, и я дал ей твой адрес, если ты еще будешь там. Их водить по Риму тебе будет приятнее, чем пожилых израильтянок или даже Раису Львовну. Кроме того, Максимов обещал подкинуть тебе работенку. Пошлю тебе завтра башли. И не откладывай их для братана, так как не известно, когда он ими сможет воспользоваться».
Как я писал в свое время Мейлаху, в Англии я нашел работу и втайне радовался, что буду жить в Европе, и после восьми недель в Штатах понял, что правильно вышло: «Ю Эс Эй для молодого, полного сил человека. А чтобы в Манхэттене жить, так надо быть титаном духовно и физически. Потом, в гражданском смысле я европеец».
— Между прочим, живя в одном европейском городе с Валентиной Полухиной, вы почему-то так и не дали ей интервью.
— Никогда, хотя я ее давно знаю по Лондону. Как-то не приходило в голову. Однажды мы с Найманом поехали к ней в гости, когда она еще преподавала в университете на севере Англии. Она замечательно принимает, угощает, и вот мы все время говорим про Бродского да про Бродского, а Наймана это корежит. И вдруг она спрашивает нас: «Когда вы впервые поняли, что перед вами гений?» Я расхохотался, а Найман говорит: «Вблизи невозможно понять, гений перед тобой или нет». Он прав абсолютно. Тут аберрация близости. Скажем, ясно, что Данте — гений, но это ясно сейчас, через пятьсот лет. Или Пушкин — он гений, а насчет Блока я уже не уверен. Гений — это нечто потустороннее, не от мира сего. Я видел гениев, дважды у меня было ощущение гениальности человека. Это был Стас Красовицкий — когда я впервые прочел его стихи в Ленинграде примерно в 1960 году, то понял, что он гений, да и все почувствовали этот сквознячок потустороннего. И второй раз — это была Лена Шварц. Ей было пятнадцать лет, когда я с ней познакомился. А Бродский? Ну, какой же он гений, мы с ним пиво выпивали на днях.
И вдруг она спрашивает нас: «Когда вы впервые поняли, что перед вами гений?» Я расхохотался, а Найман говорит: «Вблизи невозможно понять, гений перед тобой или нет». Он прав абсолютно. Тут аберрация близости. Скажем, ясно, что Данте — гений, но это ясно сейчас, через пятьсот лет. Или Пушкин — он гений, а насчет Блока я уже не уверен. Гений — это нечто потустороннее, не от мира сего. Я видел гениев, дважды у меня было ощущение гениальности человека. Это был Стас Красовицкий — когда я впервые прочел его стихи в Ленинграде примерно в 1960 году, то понял, что он гений, да и все почувствовали этот сквознячок потустороннего. И второй раз — это была Лена Шварц. Ей было пятнадцать лет, когда я с ней познакомился. А Бродский? Ну, какой же он гений, мы с ним пиво выпивали на днях.
— Похожий эффект описывала Татьяна Яковлева, жена Алекса Либермана, когда утверждала, что встречала в жизни двух гениев — Маяковского и Бродского.
— Ну Маяковский разве гений? Он, пожалуй, в третьем ряду.
— Что-то ваш «гамбургский коврик» слишком узок. И где же располагается по прошествии лет Бродский?
— Бродский — в первом ряду.
Послесловие Юрия Левинга
Со Славинским мы познакомились, когда я собирал материалы для книги «Иосиф Бродский в Риме» (готовится к печати петербургским издательством Perlov Design Center), поэтому мы довольно подробно говорили именно о римском периоде Бродского. Сначала я звонил Ефиму по телефону, потом навестил его в Лондоне. Переписываться ему было трудно, но и письменный, и устный стиль изложения «главного битника» Ленинграда шестидесятых годов прошлого века был неизменно узнаваемым («Я только что вернулся из больницы, накачанный стероидами, от которых дрожат руки и физически тяжело печатать, а то бы я вам написал все, что помню о встречах с И.Б. в Риме. Если вам интересно, позвонИте мне на халяву, если получится, или reverse charge’м, в любой из ближайших дней, когда вам удобно, но не позднее 11 вечера по лондонскому времени»). Во время нашей лондонской встречи Славинский говорил сначала с сильной одышкой, потом разошелся, и под конец никак не хотел меня отпускать. Метро, к сожалению, закрывалось, и нужно было возвращаться в центр. На пороге, прощаясь, хозяин вручил мне книгу о Бродском Дэвида Бетеи с памятной надписью — по дате сейчас вижу, что это было 12 апреля 2018 года — а также папочку с ксероксами писем к нему Бродского, копиями нескольких автографов стихотворений и оригинальными фотографиями из Рима. Еще вдруг неожиданно выяснилось, что в годы далекой киевской юности Фима был одноклассником Омри Ронена, его «первого гуру». Уже в преклонном возрасте они наладили переписку, и о Славинском есть косвенные упоминания в «Из города Энн». Мы собирались посвятить отдельный диалог памяти выдающегося филолога, письма которого он мне также переслал, а я ему — свой текст о Ронене из подборки In Memoriam в Toronto Slavic Quarterly, вызвавший у него эмоциональную реакцию: «За некролог большущее спасибо! Нет, правда! Это первый класс! Как это я проморгал!? Зато теперь подписываюсь под ним обеими руками».
Во время нашей лондонской встречи Славинский говорил сначала с сильной одышкой, потом разошелся, и под конец никак не хотел меня отпускать. Метро, к сожалению, закрывалось, и нужно было возвращаться в центр. На пороге, прощаясь, хозяин вручил мне книгу о Бродском Дэвида Бетеи с памятной надписью — по дате сейчас вижу, что это было 12 апреля 2018 года — а также папочку с ксероксами писем к нему Бродского, копиями нескольких автографов стихотворений и оригинальными фотографиями из Рима. Еще вдруг неожиданно выяснилось, что в годы далекой киевской юности Фима был одноклассником Омри Ронена, его «первого гуру». Уже в преклонном возрасте они наладили переписку, и о Славинском есть косвенные упоминания в «Из города Энн». Мы собирались посвятить отдельный диалог памяти выдающегося филолога, письма которого он мне также переслал, а я ему — свой текст о Ронене из подборки In Memoriam в Toronto Slavic Quarterly, вызвавший у него эмоциональную реакцию: «За некролог большущее спасибо! Нет, правда! Это первый класс! Как это я проморгал!? Зато теперь подписываюсь под ним обеими руками». Мне жаль, что публикуемая здесь беседа ретроспективно оказывается своеобразным автонекрологом самого Фимы. Благодаря цепкой памяти Славинского и практической помощи их общей с Бродским итальянской подруги Сильваны де Видович, неоднократно упоминаемой в интервью, позже удалось обнаружить тот самый автограф Бродского, оставленный им в книге посетителей знаменитого римского Кафе Греко, где за полтора десятилетия до него расписалась Анна Ахматова.
Мне жаль, что публикуемая здесь беседа ретроспективно оказывается своеобразным автонекрологом самого Фимы. Благодаря цепкой памяти Славинского и практической помощи их общей с Бродским итальянской подруги Сильваны де Видович, неоднократно упоминаемой в интервью, позже удалось обнаружить тот самый автограф Бродского, оставленный им в книге посетителей знаменитого римского Кафе Греко, где за полтора десятилетия до него расписалась Анна Ахматова.
Я сижу у окна
| Известные поэты и стихи: Главная | Поэты | Стихотворение месяца | Поэт месяца | 50 лучших стихотворений | Знаменитые цитаты | Знаменитые стихи о любви |
| Поиск: СтихиПоэты | |
| | |
| FamousPoetsAndPoems.com / Поэты / Иосиф Бродский / Стихи |
|
Сижу у окна Иосиф Бродский Я сказал, что судьба играет в игру без счета, Я сказал, что лес — это только часть дерева. Я написал: Луковица со страхом смотрит на цветок, Я сказал, что лист может уничтожить почку; Моя песня была фальшивая, мой голос сорвался, Верный подданный этих второсортных лет,
Посмотреть Иосиф Бродский: Стихи | Цитаты | Биография | Книги |
Copyright © 2006-2010 Известные поэты и стихи. |
ГЛАВА ОДИН |
[Поэма] Gate Talk for Brodsky
Peter Viereck
Published Humanitas, Volume X, No. 2, 1997
Mount Holyoke College
Пытаясь в восемьдесят лет пережить собственные недавние сердечные приступы, я пишу эти ритмы-вариации умирания для Иосифа Бродского (за, не про, не за), умершего от сердечного приступа 28, 19 января.96. Двое говорящих: я и женщина с размытым ИД. открытка. Ее голос с отступом, в кавычках, курсивом. -П. V.
Ее голос с отступом, в кавычках, курсивом. -П. V.
Часть первая: на конце Land’s End
Часть вторая: Calyx
Часть третья. ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И—
Часть шестая: —И СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Часть седьмая.0741
Часть первая: на конце земли
Часть первая: на конец земли
Tatum: Sea’s Breakers нарушает
, что Strand I The Chape, его мирный мир.
Я. Не одинокий одиночка,
Я переполнен — отпусти меня — приливным гидролокатором.
Никакая близость, по щиколотку, не может утолить
жадный ритм прилива. Хотя слабый, как корона луны
(Когда лучи толкают волны), прилив пульсирует каждой пылинкой.
Спорят два соперничающих скана: сердцебиение и море. Море побеждает.
«С Tide легко спорить, но трудно убедить.
Левиафан-море глотает сердечный ямб Ионы».
«Поймай бабуина», — подмигивает сердце;
‘Привить красный насос от донора с синей задницей.’
«Не имеющих выхода к морю от крыльев чайки, от морских ветров,
Ваши странные шрамы заставляют меня морщиться.
Поджаренный в солнечной сауне, сухопутная фауна,
Ты промах, мошенническая ошибка гена.
Но с одной дурацкой честью: как краткий владелец души — нет, слова.
«Старый нытик, то, что вы бы воровали в дом
Сам язык, грубость слова,
Преобразованный для поместья музы».
Нет, для друга. Я приношу, как плакальщик по старинке,
Мой локон для словесника, которого никто не разбудит:
Мои inferiae в классической манере
За карму Бродского.
«Примите эти гробовые гвозди. Это последняя драма пыли,
Ее исцеляющая травма.
Однажды плотник, забитый гвоздями, заставил все гвозди дрожать.
«Гробовщики все еще берут на себя обязательства.
Познакомьтесь с Джеком Жнецом, единственным другом, которого время не может отнять,
Напарник чудака, которого можно смыть приливом и отливом».
Спасаясь от отлива, моя кровь — внутреннее озеро.
«Недостаточно из-за длинных граблей прибоя.
Tide пьет того, кто пьет, когда ему кажется, что он пьет.
Внутри страны нет. Никогда с
Задыхающаяся двоякодышащая рыба поднялась на изношенных плавниках
В гору ради Дарвина.
Ты просто наземная рыба с опухолью,
Называется «разум», ваш гомо-сап-диплом.
Разум? Одурманенный сомой.
Разум: самые семенные плоды Помоны.
«У вашей мозговой гнили (называемой «Форма») запах перезрелости».
Мои мысли столь же скептичны, как и Омар Рубаи.
«Но с промытыми мозгами во внутриутробной коме
Унда Марина. На мокрой арене колпака,
На мокрой арене колпака,
Два мира соединяются, как запятая,
Она окунула вас, когда вы были девятимесячным жильцом
Ожидая повестки о рождении.
Наполовину сухой, наполовину влажный, я земля или
Бат? Я береговая песчаная отмель.
. . .
«Песчаная отмель? Бар с зыбучими песками.
Омовение не омовение. Никакой ополаскиватель не может отмыть
Черепа кораблекрушения внизу. Глубина лаунчера
Внизу вверх. Остерегайтесь планов Дауна».
Оба солевых кошачьих мяты, матки и спермы жанра,
Пробуждают двусмысленность, известную как «гендер».
«Рассол — цензурированный наставник любви.
На самом деле не освободившись от извилистых бедер0741
Ни ухоженности, ни жареной манны.
Весь пах в голове, этот странный мастер.
«Одна и та же монета крутится решкой, вертится орлом. Рассол сводит его с ума.
Рассол сводит его с ума.
Вращение, монета с печеньем с предсказанием, наш командир удачи,
Крутящийся на юг, как пальмы, на север, как северный олень.
Каждый из нас получает бросок без остатка.
Сначала: яркий диск жизни (мужики спорят, мужики смеют).
Скоро: обол Харона, плата за темную менсу гробницы.
Круг, вращение: то супруга, то ребенок вместо матери;
То поток, то отлив для il mare.
«Катись, грош судьбы, компьютерный чип Мойры,
Метр циклов, зеркало психики.
Осветите меня иллюзиями, придуманными Майей,
Судьба-моргана, где прошлое — манана,
907:40 Мертвые мифы — мое живое будущее. Тысячелетия
Осенних киллеров, красной мафии времени,
Приходите мульчировать меня плодовитой манией мертвых листьев.
Звякнула какая-то сфера, теперь ступица ротора годового колеса.
«Внезапно мое дыхание стало короче.
Чей вакхический рок-н-ролл через границу мифа
Бренчит мою аорту?
Это коммивояжер вина. Я дочь его фермера.
Я растянусь, вся менада к его огню, его воде.
Нет, это слишком низкая аура.
У каждого дерева есть только один ритм.
Орб, содрогнись от мелодии Коры.
Зигзагообразный божок: ни жертвенника, ни рвения
Для праведных систем или прямолинейного порядка.
Мои времена года вращаются в дервишском фуроре.
Я родился завтра; Я иногда: я флора
И мороз. И реставратор флоры.
И ребенок, бегущий на американских горках
От грязного старика-растлителя.
«О, что? Это был мой семестр Плутона.
Сейчас весна. Я кружусь быстрее, быстрее,—
Фиеста задыхающейся духовной плоти.
Моя очередь приставать. Я глажу каждое пастбище
До тех пор, пока стебли не станут высокими в осанке.
До осени, до косы (без карусели, закрутить поближе)
Закрытие. Поэт, ради тебя рискну я
Жест «милостивый» (снисходительный):
Я увенчаю вас — клоуна — водорослями (начинающими гноиться)
Лауреатом (нет, придворным шутом).
Эти водоросли — заливы (я имею в виду колокольчики) для твоего пострига.
Это правда, что твоя загадочная улыбка может заклинать,
Но ты не настоящая Джоконда.
Ты бестелесный миф, ищущий телесные очертания.
[на три строчки она танцует вокруг него, посыпая водорослями]
«Признаюсь, я миф. Я признаю себя виновным с откровенностью.
Не умеет летать, как кондор, не умеет плавать, как пиранья.
Признаюсь, я несуществующий. . . .
Но израненное гибелью Существование, обмороженная Кассандра,
Воля-к-бытию (на веранде Джека Фроста)
Мой теплый апрельский вид.
Что делает землю земной? Пол, пол, МОЙ пол».
Часть вторая: CALYX
Ваш пол? Слишком ухмыляющийся — и слишком красивый — чтобы понять.
«Очистите, облагорожите, и мы осветим
‘Вещи, еще не испробованные в прозе или рифме'». , ‘м’
А затем с военной буквой ‘р’ в качестве контртемы.
«Половые губы. Колени. Чашечка мудрости.
Рана, которая лечит раненых. Добро пожаловать
Возвращайтесь в свой потерянный первый дом».
Чашечка как зона души. (Эрогенная зона — это череп.)
«Ничего не остается внутри. Входящие мужчины? Краткий обломок,
Оставаясь не дольше, чем, скажем, какой-нибудь тампонный джетсам.
Один входящий остается: коса, а не презерватив.
«Что не может умереть, так это водоворот ее рога изобилия
Поколений, мейнстрим всего творения.
Этот одноглазый взгляд: циклоп в куполе пещеры.
Этот четырехгубый зевок незапамятной скуки:
‘Я бабушка моей бабушки; время немеет».
Но место! Такая трущоба:
‘Два соседа-мусорщика, я между ними’
Анатомия жестоко разыгрывает королевство.
«Чтобы наказать ее за то, что она перехитрила аферу
Нелюбимой схемы размножения природы,
Анатомия бросила — вместо бальзама —
Кремовый пирог в качестве террористической бомбы.
Капает заварной крем; Я чту ее пестрый апломб.
Во всяком случае, королева. С помощью этой парадигмы «все равно»
Самопревосходства, превосходящего наше обезьянье царство,
Она одна сделала естественным преодоление
Природы. Взлет меня ошеломил
( Ad astra или ad absurdum ?)
Каждый раз, когда я переливался через край, где отлив к дому.
Я обязан глубине, в которую не могу проникнуть
Теплом, за которое не могу отплатить. Примите то, что я есть.
«Колыбель для кошки, сотканная на четвероногом станке.
Вспаханный суглинок, новый цвет.
Вавилонский суглинок: «плодородный полумесяц», призрак
Фраза, это мой навязчивый гимн.
Вход и выход, оба в тандеме:
Кондоминиум Любви, зал ожидания рождения.
Полумесяц как полумесяц: две шаткие полные луны бродят
Вокруг него. Они подпрыгивают тум-та-тум на высоких каблуках;
Целые полчища свистунов, хихикающий бедлам,
Смотреть сзади. Она ими не унижена.
Хамам не сделать феникса тусклым.
«Чашечка как окно. С гибкой рамой.
Более гибкий, чем любой ригель со ставнями.
Разорванная пытка для большого мозга младенца,
Или — с набухшими венами — крепко зажатая дояркой для Адама:
Нет улыбки более красивой, чем у Евы — губы выпячены.
«Один хрупкий шов с меховой подкладкой
Когда-нибудь будет в окончательной сумме
Волнения покой и выкуп».
Являются ли Сфинкс и сфинктер одним и тем же
В загадке спазма?
В «да» Молли, в псалме святой Терезы?
Может ли мясо быть душой, сделанной трепетом?
Являются ли парные тела менее физическими, чем кажутся?
Тогда плоть преображает плоть в спутанную двойку.
«Знаете, это нереально. Шарада. Игра.
Я соврал; Я накачал тебя odeur de femme ,
Плюс муза-каша опиума.
Ну, внезапные развороты — ваша ненормальная норма.
«Бьет, пока горяча ирония, я отказываюсь от своей гендерной панацеи».
Ты, она, принижаешь ее. Почему?
У тебя странно добрый голос; еще ваши факты блин.
«Я люблю тебя; Я больше люблю факты.
Одинокие цветы увядают. Чашечке нужен тычиночный стебель,
Так что не плачьте из-за пролитой молоки.
Молочай мужского пола делает больше, чем может Милтон
Чтобы оправдать Божьи пути к человеку.
Чашечка хоть и больше, чем плевательница сперматозоида,
Меньше, чем дверь мудрости.
‘Мудрость чашечки’? Я сказал это, но это всего лишь
Пилы типа «протирать спереди назад» и «надевать
Впитывающее белье летом». Нежный? Зловещий?
«Под» и «сверху», каким-то образом они друг друга.
Из-под зимней, апрельской погоды.
Все мы знаем, кто разделяет логово Плутона;
Везде, где нижняя и высокая доля
Один центр, она там.
«И это не так. Я все подделал. Приманка для юбки с разрезом.
Нет, нет, ее знания больше, хотя и не знают,
Чем могли осмелиться самые дикие подделки.
Есть мудрость, которую невозможно вынести.
«Мой пол: миф и факт — и след
Страшного железа Бога. Клеймо более кровавое
На животе Евы, чем на лбу брата Авеля.
В тот час, скажите, у Бога ноздри раздулись?
Скажите, поднялся ли божий скипетр мачо?
Разве они не были достаточно пьяны, обряды былых времен,
907:40 Ягнята с вытянутой шеей, с доверчивыми глазами, с голым белым горлом?
Хотели ли Скай более развратные блюда?
Бесконечная жажда, бесконечная кровь.
Cervix в переводе с латинского означает шейка. Амор без доспехов:
Красное горло Евы перерезано, теперь шрам каждой женщины.
Потом пришел кровавый алтарь красных:
Бесчисленные прорывные роды, каждая кесарева ятаганка,
Родовой крик, все грядущие пытки.
Я чувствую (как если бы мое тело было моим грабителем)
Десять тысяч будущих вешалок прерывают ее.
Для Евы, бабушки мужчины, дочери мужчины, какой теперь приют?
Она пожимает плечами — это дерзость хрупких — и расчесывает волосы.
Шрам забыл закрыть; у розы отсутствуют шипы, которые пугают;
Эту невыносимую данность ее данность научилась терпеть.
Перерезанное красное горло, плоть-мост к будущему плоти;
Страсти и очага теплоутверждающий цвет;
Красная коса жизни по черному раку могилы.
Своего рода приют. И мистериум.
Есть шепот, который никто не слышит достаточно ясно, чтобы его расслышать.
«Мне и в голову не пришло бы выдумать такую чепуху.
Нынче ее головокружительные пустяки — сущий
Пух, недостойный всех пыток.
Назовите красную косую черту «розовой щелью» и — бам —
Достоинство в бегах. И гордость должна свалить
Когда хихикающая девчачья буква «т.е.» заканчивается именем.
А слово «трусики» звучит совсем не торжественно.
Мелочи, а поговорка: «Как бы царственна ни была кайма юбки,
Богиня и девчонка — сестры под подолом».
Редуктивность их не уменьшает.
«Вы страдаете от женской зависти.
Это зависть к Венере и синдром Коры,
Составная она. Она как опора».
Вокруг этой точки опоры кишат любовь и времена года;
Даруй мне, как плоты кораблям в бурю,
Ее трагическое качающееся равновесие.
«Заварной пирог ослабляет ее пламя».
Вы повторяете тему трущоб.
Повторяю: «все равно». Ее стыдом не опозоришь.
Даже не славой.
Горький, как прибой, пульсирующий, как далекий барабан,
Каликс по-прежнему является ядром, от которого мы осиротели:
Чистый ритм, сам прилив, намек
Грааля, за которым мы, пилигримы, охотимся.
«Говори по-английски. Может быть, ты имеешь в виду мокрую пизду?
Смотри, все вещи (жалость к тебе душит мое спокойствие) —
Все, будь то чашечка, тычинка или череп —
Смотри, все человеческое — рабы стыда и притворства.
Лунные хулиганы прибывают в ежемесячном рабстве королевства,
И девять лун управляют двусторонним игровым автоматом.
. . . Но постойте, что это за скрученная монета у нее в коже?
Судьбоносная сфера всего случайного
Вращается, вращается, с роковым импульсом,
Гибель, которую мы переворачиваем, когда подбрасываем монетку
Пересекаем перекресток.
Наша пыльца играет на своей внутренней спине:
Рулетка ген.
Ва банк ; выиграть яйцо или умереть; немногие пловцы побеждают.
«Большие лотереи — между двумя маленькими коленями —
Может выиграть Нерона или Назарянина.
Проигравшие проигрывают, а победители проигрывают. Немезида
Рассеянных бойней.
Что нам осталось? Корни и непрерывности,
Закаленный цыганским смехом под горой.
«Пожизненный танец с мечами в вашем водевиле».
Часть третья: СОЛЯНАЯ РАМА, НЕ СВЯЗАННАЯ С МОРЕМ
А ваш танец? Год-танец? Твоя весна — самозванка.
Потемкинско-деревенский сезон, имитированный гипсом.
Я не верю твоей торгашеско-богиньей болтовне;
Фейт — пастор леммингов.
Зеленый, в макаронах синьоры Примавера,
( Al dente для кого? На тарелку Плутона?)
Есть мышьяк и краснеет отравленное пастбище.
Твой мороз срывает твой майский идиллический постер,
Твой вихрь превращается в твистер.
«Поцарапайте Поллианну и найдите торнадо. Мой список
Уравновешивает свет и тьму, как Зороастр,
Половинки близнецы, как Поллукс и Кастор.
Любовь кружит мой круженье; она моя сестра;
Двузвездная стайка астр, вращающихся вокруг астры.
Любовь — противоречивая катастрофа;
Наводнения заливают ее как раз тогда, когда ее пожирает пламя.
Фермерский мальчишка или Кора, размытый I.D. или Ума,
Рассмеши меня крокусом от мрачного юмора мороза.
Тем временем вельветы моря, гофрированные луной,
Расколи меня. Я затопленная шхуна?
«Детский матрац, солёный, как тунец».
Через каждый выход в плоть есть место,
От пота, слюны, соплей, слез, мочи, не от пневмы,
Рассол вопит на меня, как клеветнический слух.
Текут ли смыслы вслед за этим слепым потоком?
Или мои поиски были просто ошибкой
Озера мыслящего, озера иссякающего?
«Понюхайте — понюхайте — аромат соли».
. . .
Аромат, эхо и сияние: трио терцинной римы потока.
Ужасы Шора и игрушки на краю
Петля, удушающая панорама.
Все дороги ведут в Рим; все надежды к разбитому сердцу;
Все волны в моих жилах, винно-темный Гомер.
Морской рассвет: фламинго, прогнанные молотом рассвета,
Поднявшись на пену с ошеломляющим величием.
«Затем сумерки: черный топор тени,
Рубка золотого дерева света».
Скажи Венере, что она не единственное чудо, запущенное из пены,
и Плутон, единственный дровосек из-под земли.
«Я погружаюсь к Плутону, и под моим угольком
Превышение закончилось, а отлив вечен».
Я глина. Я всегда был эббером.
«Глотайте черный сок пустоты, только безмолвие произносите;
Мак морга не похож ни на какой другой.
Он смеется над непролитыми слезами, которые вы должны другому.
Он оплакивает ваш незаслуженный смех.
Все что-то ничто после того, как после.
. . .
Является ли прилив кардиостимулятором сердца? Его владелец терра?
«Мелкая волна-песня, нагроможденная на волну-песня, набухает до дрожи.
Слабый тремор, флюиды все еще набухают, удары дрожью,
Пронзающие ваше систолу сердце волнообразной сердечной болью.
И проткнуть свою вампирскую улыбку колом сердца?
«Все мои удостоверения личности правдивы, поддельны,
Когда волнорезы рушатся и ломаются.
Когда Танатос станет императором Талассы,
Когда прилив захлестнет пентаметр берсерка Марло,
Меня тоже потянет вниз. Какой тампер,
Тысяча ночей слишком глубока, чтобы привязать,
Звонки и звонки с тембром сирены?
Притворитесь глухим, когда прилив нежно говорит.
Цунами пробуждаются в нас, когда мы бодрствуем.
Моя внутренняя погода всегда зима.
Когда небо — кубик льда, когда солнце — пепел,
Изгнанники возвращаются в свой центр, ни капли моих вен перебежчика.
Тогда утопление — мой декабрьский искуситель.
Я валяюсь на краю, где бегают кулики.
Песок наждачками меня как его древесину.
Побег из тюрьмы! Мои воды, не имеющие выхода к морю, пробиваются через каждый люк
Из кожи, хочу mer , хочу mère , восторг
Бегства от навязчивого мучителя.
«Оставайтесь на поводке. Райм, бармен,
Освободите нас обоих от синего морского шума.
Очаруйте меня. Будь моим певцом из морских водорослей».
Не могу. Ваши смены ролей мешают.
«Унда НА МЕНЯ. Есть у МЕНЯ. Чтобы отделить
Меня от Олимпа. Чтобы обнять меня, чтобы уснуть.
Небо — это камера. Земля — новичок.
Он тонет. Какая-то синева невыносима. Мои колени трясутся».
Где сейчас королевство? Вы ворвань;
Будьте трезвыми. Нет, беги. Пора отказаться.
. . . Это что? Какое горло воет от гребенки?
Мой конурный рассол пульсирует. Сердечный приступ?
«Когда волки воют на свободе, собаки кусают своего хозяина».
Часть четвертая: ВОРОТ
Почему я слышу крик снаряда?
«Возможно, вас ищет какой-нибудь искатель».
Нет? Что затемняет мой восток мраком?
«Некоторые туманы ухмыляются».
У меня куча искателей. Я отложил их.
«Один искатель всегда холоден».
Я доверяю фамильярам. Подушки, цвета, колокольчики.
«Некоторые вещи — это нечто другое».
Какая еще (у тебя размыто) моя бывшая любовница?
«Нет холодного искателя. Спроси мой матрас.
Тогда согрей меня в пятом акте. Остаться. Ждать.
Ждать.
«Зала ожидания у западных ворот нет».
Скоро будет разговор у ворот.
«Объекты в зеркале ближе, чем кажутся».
У некоторых поэтов действительно есть вдохновение.
«Не работайте с механизмами во время приема этого лекарства».
На восток, а не на запад Я бы струился, будь я потоком.
«Это не так».
Выброшенный на берег отросток двоякодышащей рыбы Аргонавт,
Я хочу сиять на суше, не быть забытым.
Доживу ли я до исполнения этого желания художника?
«Чтобы сиять, рыба должна сначала сгнить».
Когда мой шаг дрожит от страха,
Ты будешь ждать со мной у ворот?
«Когда ваше лицо заснет холодным и мертвым,
Мортициан-румяна покраснеют».
Рассыпанные семена возвращаются в норму. Двусторонний урожай.
«Вверх» и «надежда» почти рифмуются. Мульчированный лист падает
Up.
«Первый вниз. Как я уже говорил,
Как я уже говорил,
Я люблю тебя; Я больше люблю факты».
Факт? Мы фикция. Автор друг друга.
«Вот мое предложение:
Я перестану боготворить, ты перестанешь рифмовать,
С тех пор мы оба стали менее вымышленными».
Сделка. Но ты пьянеешь от трезвости.
«Вы на магии. Какой вид?»
Гильдия благороднобровых возвышающих,
Не сработает. Шахта другой породы
Шарлатан, аутсайдер.
«Почитай третью магию, вау обыденности.
То, что спасает, не спасает; это повседневные дела,
Чудо безвкусной доброты.
Ваше лукавство недоброе, словесные уловки.
Тем не менее, он создает (будучи бессмыслицей) красоту».
Вот так я пронес смысл и форму
(В чемодане с фальшивым дном, притворяясь им)
Прямо мимо копов-деконструктивистов.
«Когда-то вы были позором чуда, вспышкой чего».
Сейчас нет.
«Тогда зачем пытаться пережить неудачный ямб своего сердца?»
Только живые могут писать о смерти.
А для неизлечимых больных препаратом выбора является каракуль.
. . .
«Чтобы защитить вас, я предупреждаю вас:
Не доверяйте своим зорям. Они неискренни.
Они в сумерках, притворяются.
Притворство удалось. Мои сумерки — это рассвет,
Проиграно в обратном порядке. Палиндром наоборот.
«Мне больно снова причинять тебе боль. Но:
Дорогой почтенный пожилой государственный деятель, именно так
Погашается ли старческое недержание?»
Заклинание «погашается» наоборот.
«Пчела по правописанию. Призрак, прочно заклинание.
S.o.i.l.’d.
«Художник, произнесите заклинание «живое искусство».»
Злая звезда. Мерзкие крысы.
«Вам нравится английское слово «спаситель»?»
Я предпочитаю французское слово «savoir».
«Вы верите, что «Санта» существует?»
Да, Вирджиния, есть «Сатана».0741
‘A Ge’ Богиня земли для пыли.
. . .
У тебя много голосов, и ни одного надолго.
«Да ну, как говорят в научной фантастике,
Среди нас есть инопланетяне-НЛО?»
Кому нужны НЛО? Я более отчужден
Чем любой марсианин. И все же, как землехват
Как мой друг, платан, дающий тень.
«Я тоже даритель. Если бы ваша прямая линия могла бумерангом,
Моя щедрость пожелала бы вам вернуться в май».
Мои желания круглые.
«Перерабатываются только консервные банки. Профессор Лайф
Не хватает должности.
Я коснулся облаков. Я делал мелодии.
«Вы сделали! Ты сделал! Но земля…»
Я разговаривал с ней, а не жил ею. Итак,
Должен ли я нуждаться в дарящем у западных ворот?
Некоторые посетители не ждут в одиночестве. Но я?
«Ни один даритель, даже этот
Платан, не имеет достаточно терпения».
Я буду крепче вцепляться в землю. Не могу отпустить
Прикоснуться к тому, чего я не могу коснуться.
Мне звонит древняя ведьма. Откуда?
«С 2100 года.
Она будет взрослой внучкой вашего внука, говоря:
«Тебя разберут в любой день, но не
». Это запомнят». «
. . .
Не принимайте смерть на свой счет. Просто обе арки
выделяют белок в слюне.
Приятного аппетита, мама.
«Пуповинная змея, отрезанная от вашего рождения, возвращается
Чтобы связать ваше горло петлей. Я бы хотел, чтобы это было не так».
Я знаю, что ты хочешь. Язык тела твоих самых грубых
Слов по-прежнему, как и прежде, добрый.
«Жизнь — это кратковременная ремиссия неизлечимой стадии рака».
Потом еще прессованный виноград, потом еще прессованные губы. Заполни, почувствуй.
«Да, нажмите. Да, тяжелее. — Нет, слишком поздно.
Да, тяжелее. — Нет, слишком поздно.
Обратный отсчет. Нет шестого акта».
В любом случае нажмите нажмите нажмите.
«Обратный отсчет. Никаких действий…»
Само отсутствие Скай говорит. Там написано: «Подождите».
«Обратный отсчет. Нет…»
Я буду цепляться, как крысы на Кони-Айленде,
Выискивая попкорн на свалках.
«Посчитайте…»
Отдайте
Ваши свободные минуты моей нищенской миске.
«Ворота, ворота, ворота, ворота».
Эти клептоманские часы. Я сонный, сонный.
«Клиффхэнгер, тише, отпусти».
Часть пятая: НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И—
Вести к миру и миру: человечество
топчет свои с трудом завоеванные муравейники.
«Так какое сегодня число? ОБЪЯВЛЕНИЕ.? ДО Н.Э.?
Хороший вопрос. Так или иначе,
Где-то плачет старая крестьянская мама.
«Босния, Карфаген, одинаково близко, равно удаленно.
Иногда Кентукки означает темную и кровавую землю,
Иногда жареное дерби и куриные бега;
Важен ли текущий поток в вашей башне?
Почему парнасцы не могут, как это делают лесные гребни,
Игнорировать настоящее?
Сейчас их не игнорирует. Хлопнуть.
«Что это за мировой поток ненависти и мусора?»
Этот самый громкий век. Что остается
Это шепчет: Бонхёффер, Мандельштам.
«Утонувшие песни драпируют морское дно.
Вырежьте из их недр Ковчег».
Этот потоп сейчас внутри всех нас, это мы сами.
«Вырезать».
От собственного сердца не отколоть.
«Резайте яростнее».
Меня ведут утонувшие шепотки. Но
То, что нужно делать большинству, не успевает начаться.
«Тогда рассыпьте ваши Почти, ваши теплые конфетти
Из должного,
Путь утешительных рук рощи, щедрых
На желтовато-коричневом одеяле.
Я часть всего, что где-либо тонет.
Это беговые дорожки моего года.
Смотри, я натянутый канат, вены зелени
Пируэты по моим венам, оба лопаются.
Гравитация швыряет меня на могилы.
«Чем лучше танцевать. Закон легкомыслия».
Я смотрел. Ты подозрительно пуленепробиваемый
К градуснику. Ты тефлон для морщин.
Спрятав эти гранаты в свой лифчик,
С соучастными взглядами на урожай,
Ты все еще — признайся — богиня.
Ты сказал, что остановишься. Ты всегда в этом, постельное белье
В зеленых грядках, а затем в квартале красных фонарей осени.
«Моя работа: прясть год глины».
Человеческая работа: быть глиняным сознанием.
. . .
«Люди? Я подаю на них жалобу в генбанк.
Я возвращаю в кредит те, которые я не использовал.
Они просто неудобны в использовании. Когда играешь с…»
Если подумать —
«Играешь, они ломаются».
Если подумать, я бы так же скоро-
«Тем не менее, у ВАШИХ ворот я подожду с…»
Я бы так же скоро подождал в одиночестве.
«Я подожду с вами. Исключение, только ты. Чтобы поделиться своей
Смертностью, последним хрипом горла».
Ваше поручение милосердия я возвращаю неиспользованным.
Слишком занят окончанием этой поэмы о конце жизни,
Мое нет небытию. Мое бесполезное нет.
«Тщета подслащена честностью горькой.
Но все сказали смертные прежние,
И сказали боги».
И недосказал их. Истинное благочестие? Много
В богадельнях, вонючих мочой, но не на Олимпе.
Истинная благодать? Я покажу тебе мужество в онкологических отделениях.
Что касается богов —
«Бьюсь об заклад, человек ужасно потрудился, чтобы изобрести нас».
Человек заново изобретает человека. Изобрести богов было несложно.
«То, что вы не можете «восстановить», — это смерть».
Я заново изобретаю не смерть, а умирание,
Умение богам не хватает. Моя больничная койка оттачивает это.
«Ты пишешь одно стихотворение и только одно стихотворение:
Галантный человеческий беспорядок.
Когда люди трахаются с музами
На матраце, запретном для богов, возникает гордыня самоуничтожения.
Боги, мы, люди, завистливые люди.
Мы поклоняемся изваяниям, выгравированным
Болью, еще одним умением, которого тебе не хватает.
Боль плюс краткость, делая жизнь
Продолжайте заново изобретать жизнь.
«Шестого акта нет».
Если бы их было больше, чем пятый акт, их было бы меньше.
Часть шестая: — И СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
«Не говорите людям, но боги — атеисты, а существование
Нуждается в несуществующем. Вот почему люди ценят ценности».
Теперь мы, ветераны боли, обесцениваем
Неотожженных богов.
«А что насчет загадки ценности?
Был только один христианин. Никто из вас не понял.
Вода прилива знала, что у вашего плотника козлиные лапы.
Он танцевал, а не ходил, по воде.
Неба достаточно для обоих венцов, шиповатого и лиственного.
Наша знаменитая вражда? Чистая идеология. Наедине
Я бы принес ему воды на холме.
В тот день его человеческая глина была проверена — закалена —
Невыносимо.
Отожженный! И Осирис усыпанный, тоже отожженный,
И изрубленный Дионис и — и —
«Тот же, тот же и не совсем тот.
Только прибитый был вдвойне богом. Чудо
В мешанине, смешанной
Пан, узнавший о жалости
И еврей-бог пьяный наконец.
У плотника пересохли губы; человек мочил их вином.
Глаза Пана были сухими; человек мочил их слезами.
Крест-накрест человека сделал божественные половинки целыми.
«Чудо, да, но перенастройка без ветров.
С листа на лист солнце просачивается вниз, как прежде.
Слепые раунды продолжаются. Пустая монета катится дальше.
Все катится и есть и нет.
Или — рябь поворота, быстрое пожатие света,
В безразличных к человеку контурах?
Мгновение осознания во сне?
Хотел бы я знать.
Я хочу плакать, потому что хочу плакать.
И из-за того, как мягко луна серебрит верхушки деревьев.
«Слово, которое вы ищете, — «острый».»
Давайте замолчим на минутку и послушаем маленькие капли дождя.
Часть седьмая: ПОРАЖЕННАЯ ЗАБОТА
«Возвращаемся к делу. Что теперь с моим годичным колесом?
Теперь крутится без тебя. Твои соски соприкасаются
Пыль не проснулась. Твои вечно молодые, не морщинистые
Твои вечно молодые, не морщинистые
Руки не гладят бутоны.
Цветочные клумбы насмехаются над тобой: «Прижмись к ложу Плутона».
Посевы насмехаются: «Смотрите, мы прорастаем поодиночке».
Все боги бессмертны.
Некоторые поэты будут.
Эйфория. Акт шестой.
«А некоторые и нет. Для тебя нет отсрочки.
. . .
Ах, Иосиф, ворота входят в нас, а не мы в ворота.
Я, будучи старше, должен быть там, где ты сейчас.
Тонкий лед: твой батут. Могут ли листья опадать?
Наша встреча в 62-м: в твоем медвежьем граде.
Позже: привезу тебя в мой колледж янки.
Наш совместный курс: «Поэты под Большим Братом».
Наши студенты назвали его «Рифма и наказание».
Сегодня пишу не тебе (без адреса)
А тебе. Часть мульчи падает.
. . .
И когда постучатся и мои ворота,
Как, Кора, я узнаю наперед?
«Ваше горло. Грохот.
А ты? Может ли божок пережить своего последнего верующего?
Моя обесценившаяся Кора и мое разлагающееся я,
Мы поделились целым циклом стихов.
И вот им конец. И — как добрая
Сдашь глаза — наш конец.
«Наш. Сегодня вечером мы будем гладить спать
Ровно в двенадцать.
. . . Но взмахи крыльев. Введите три наших недобрых
Стервятника: Сожаление, Раскаяние и Слишком поздно».
Я должен смеяться, потому что должен смеяться.
Док Морфеус, бог сна И.В., капните мне
Последний морфий, — века, не века.
Все фрагменты одной утерянной непристойной мелодии.
«Даже холодный, холодный искатель?
Все переплетение, хотя нет ткача?
Атомы, крутись, вертись: снежинка и утренняя звезда,
Чашечка и лексикон,
Последний лист, добрая буря.
«Сломанный, ты идешь ва-банк, лишенный теперь позы, реквизита».
Голый пришел, голый ушел.
. . .
«На краю земли, где бормочет угрюмый прибой,
Мы заканчиваем пятый акт. Та же самая нить еще раз.
Раздавленные дюны хлюпают. Десять тысяч лет следам,
Трехпалые или пятипалые, распишитесь здесь напрасно.
Берег я шагаю, песочные часы моря,
Крошат мои зернышки времени, пока волны задним бортом
Волны и удары о берег.
«И пульсируют вены. Внутреннего нет. Tide
Вам что-то говорит.
Я чувствую перемены рядом. Прилив говорит. Не могу расшифровать.
«Слушай внутри себя».
Невозможно поставить на паузу. Так много, чтобы закончить. Что такое
Эта странная погремушка?
Я проглотил игрушку? К счастью, здесь нет гремучих змей.
Наверняка просто детская погремушка.
Быстро скажите «да», чтобы подтвердить, что все в порядке.
«Удивлен заботой — я люблю простую пыль? — Я говорю
Один добрый мудрый ответ Прилива:
Оттачивая — не надеясь — больше из меньшего,
Перехитрить ворота. Пока оно не найдет тебя».
† Питер Вирек — поэт, лауреат Пулитцеровской премии и почетный профессор истории в колледже Маунт-Холиок. В издании «Врата для Бродского» Humanitas открывает свои страницы тем, что, по мнению автора, станет его последним крупным стихотворением. Поэма, размышление о жизни и смерти и высших вещах, объединяет темы, написанные автором за последние шесть десятилетий. «Вратный разговор для Бродского» представлен вместе с интерпретирующей статьей, связывающей стихотворение с творчеством автора в целом. «Разговор у ворот для Бродского» (вместе со стихотворением Лизы Хаджадж «Две флейты») получил премию Гретхен Уоррен от Клуба поэзии Новой Англии за лучшее опубликованное стихотворение члена в течение 19 лет.98.
* Более ранние диалоги автора о Персефоне, кульминацией которых является этот ранее, появляются в его сборнике стихов Tide and Continuities , University of Arkansas Press, 1995.
1 Локон волос: положил Орест на могилу Агамемнона, отсылка (как метафора поэзии), которую любил Бродский. Inferiae : древние подношения для почитаемых умерших.
Inferiae : древние подношения для почитаемых умерших.
2 Кора, расплывчатая двусмысленность, может означать либо летящую Персефону, либо просто девушку. Мойра: греческая богиня судьбы. Майя: индуистская богиня иллюзии. Харон: перевозчик мертвых, его гонорар — греческая монета под названием «обол». Ума: индуистская богиня Света, как аспект Дэвы. Джоконда: улыбающаяся Мона Лиза Леонарди. Помона, упоминавшаяся ранее: защитник фруктов (отсюда «семечковые» и « помпа «). Несмотря на высокую смертность бессмертных, все вышеупомянутые богини остаются живыми для нас сегодня благодаря коннотациям гласных звуков их имен, которые беспечно переживают свои теологические обозначения.
3 Словарь американского наследия : «Гребневик: длинная морская волна, достигшая своего пика».
Крик ястреба осенью Иосиф Бродский
Ветер с северо-западной стороны поднимает его высоко над
сизый, малиновый, умбра, коричневый
Долина Коннектикута. Далеко внизу,
Далеко внизу,
цыплята изящно останавливаются и двигаются
невиданный во дворе полуразрушенный
ферма, бурундуки сливаются с вереском.
Теперь дрейфует в воздушном потоке, развернутый, один,
все, что мелькает, — холмы высокие, неровные
хребты, серебряный поток, пронизывающий
дрожит как живая кость
из стали, с плохой насечкой, с порогами,
городки как нитки бус
разбросаны по Новой Англии. Скатившись к нулю
термометры — эти бытовые боги в нишах —
заморозить, подавляя таким образом огонь
листьев и шпилей церквей. Тем не менее,
для него нет церквей. В ветреных краях,
немыслимый праведнейшим хором,
он парит в кобальтово-голубом океане, зажав клюв,
его когти крепко впились в живот
— когти сжались, как впалый кулак—
определение в каждой струйке тяги
снизу блестит ягода
его глазного яблока, направляясь на юго-юго-восток
до Рио-Гранде, дельты, буковых рощ и еще дальше:
в гнездо, спрятанное в могучем колодце
травы, краям которой не доверяют пальцы,
утонувший среди лесных запахов, наполненный
с осколками яичной скорлупы с красными крапинками,
с призраком брата или сестры.
Сердце обросло мясом, пухом, пером, крылом,
пульсирует лихорадочно, без остановки,
движимый внутренним теплом и чувством,
птица рубит и режет ножницами
осенняя синева, но столь же стремительная,
расширение за счет
коричневатого пятнышка, едва бросающегося в глаза,
точка, скользящая далеко над высоким
сосна; за счет пустого вида
этого ребенка, выгибающегося к небу,
та пара, которая вышла из машины и подняла
их головы, та женщина на крыльце.
Но поток воздуха все еще поднимает его
выше и выше. Брюшные перья
почувствовать пронизывающий холод. Взгляд вниз,
он видит, что горизонт тускнеет,
он как бы видит черты
из первых тринадцати колоний, чьи
все трубы дымят. Но их всего в его поле зрения
что говорит птице о его возвышении,
какой высоты он достиг в этом путешествии.
Что я делаю на такой высоте?
Он чувствует смесь трепета
и гордость. Крен над наконечником
крыла, он падает вниз. Но упругий воздух
отбрасывает его назад, стремясь к славе,
к бесцветной ледяной плоскости.
Его желтый зрачок бросает внезапный взгляд
ярости, то есть смесь ярости
и террор. Итак, еще раз
он поворачивается и ныряет вниз. Но как стены возвращаются
резиновые шарики, как грехи направляют грешника к вере или рядом,
он и на этот раз рванул вверх!
Он! чьи внутренности еще так теплы!
Еще выше! В какую-то взорванную ионосферу!
Этот астрономически объективный ад
птиц, которым не хватает кислорода, и где мельчат звезды
пшенное пшено подается с тарелки или полумесяца.
Что для двуногих всегда означало
высота, для пернатого наоборот.
Не своим тщедушным мозгом, а сморщенными воздушными мешками
он догадывается об этом: это конец.
И в этот момент он кричит. Из крючкообразного клюва
там отрывается от него и летит ad luminem
звук, издаваемый Эриниями, чтобы разорвать
души: механический невыносимый визг,
визг стали, пожирающей алюминий;
«механический», ибо имелось в виду
ни для кого, ни для живых ушей:
не мужские, не лающие лисицы,
не белки спешат на землю
из веток; не для крошечных полевых мышей, чьи слезы
нельзя так отомстить, что заставляет
их в свои норы. И только гончие
поднять морды. Пронзительный пронзительный визг,
кошмарнее ре-диезного шлифования
стекла алмазной резки,
рассекает все небо. И мир, кажется, катится
на мгновение, содрогаясь от этого разрыва.
За теплом горит космос в высочайшем качестве
плохо, как железный забор здесь внизу
клеймит неосторожные пальцы без перчаток.
Мы, стоя на месте, восклицаем
«Там!» и видеть далеко над слезой
это ястреб, и услышать звук, который задерживается
в вейвлетах, паутинка
набухшие ноты рябью по синему своду космоса
чьё отсутствие эха заклинает, особенно в октябре
апофеоз чистого звука.
И пойман в этом небесном узорчатом кружеве,
звездообразный, усыпанный инеем,
посеребренный, в кристаллическом переплете,
птица плывет в зенит, в синее небо
лазури. Через бинокль мы предсказываем
он, сверкающая точка, жемчужина.
Мы слышим, как что-то звенит в небе,
как разбитая семейная посуда,
медленно падающий водоворот,
но его осколки, когда они достигают наших ладоней, не болят
но тают при обращении. И в мгновение ока
И в мгновение ока
еще раз видно завитки, петельки, ниточки,
радужный, разноцветный, размытый
запятые, многоточия, спирали, связывание
кочаны ячменя, концентрические кольца —
яркий рисунок, которым когда-то обладало перо,
карта, теперь просто куча летающих
бледные хлопья, образующие зеленый склон
белый. И дети, смеющиеся и ярко одетые,
роятся из дверей, чтобы поймать их, плача
с громким криком по-английски: «Зима пришла!»
Парижское обозрение — Искусство поэзии № 28
Иосиф Бродский, ок. 1988. Фотография Анефо/Круса, Р.К.
Иосиф Бродский дал интервью в своей квартире в Гринвич-Виллидж в декабре 1979 года. Он был небрит и выглядел взволнованным. Он как раз занимался исправлением гранок для своей книги — Часть речи — и сказал, что уже пропустил все мыслимые сроки. Пол его гостиной был завален бумагами. Было предложено взять интервью в более удобное время, но Бродский и слышать об этом не хотел.
Было предложено взять интервью в более удобное время, но Бродский и слышать об этом не хотел.
Стены и свободные поверхности его квартиры были почти полностью закрыты книгами, открытками и фотографиями. Было несколько фотографий Бродского в молодости, с Оденом и Спендером, с Октавио Пазом, с разными друзьями. Над камином висели две фотографии в рамках: одна Анны Ахматовой, другая Бродского с сыном, оставшимся в России.
Бродский заварил две чашки крепкого растворимого кофе. Он сидел в кресле, стоявшем у камина, и в течение трех часов сохранял одну и ту же основную позу: голова наклонена, ноги скрещены, пальцы правой руки либо держат сигарету, либо лежат на груди. Камин был завален окурками. Всякий раз, когда ему надоело курить, он бросал сигарету в том же направлении.
Ответ на первый вопрос его не порадовал. Несколько раз он говорил: «Начнем сначала». Но где-то через пять минут после начала интервью он, кажется, забыл, что там был магнитофон или, если уж на то пошло, интервьюер. Он набрал скорость и энтузиазм.
Он набрал скорость и энтузиазм.
Голос Бродского, который Надежда Мандельштам когда-то назвала «замечательным инструментом», гнусавый и очень звонкий.
В перерыве Бродский спросил, какое пиво хотел бы интервьюер, и направился в магазин на углу. Когда он возвращался через задний двор, один из его соседей крикнул: «Как дела, Иосиф? Ты выглядишь так, как будто теряешь вес». — Не знаю, — ответил голос Бродского. «Конечно, я теряю волосы». Через мгновение он добавил: «И мой разум».
Когда интервью закончилось, Бродский выглядел расслабленным, совсем не тем человеком, который открыл дверь четыре часа назад. Казалось, он не хотел прекращать разговор. Но затем бумаги на полу начали привлекать его внимание. «Я ужасно рад, что мы это сделали», — сказал он. Он увидел интервьюера за дверью со своим любимым восклицанием: «Поцелуи!»
ИНТЕРВЬЮЕР
Хотел начать с цитаты из книги Надежды Мандельштам Надежда брошенная . Она говорит о вас: «Он… . . замечательный молодой человек, которого, я боюсь, ждет плохой конец.
. замечательный молодой человек, которого, я боюсь, ждет плохой конец.
ДЖОЗЕФ БРОДСКИЙ
В каком-то смысле я плохо кончил. С точки зрения русской литературы — с точки зрения издания в России. Однако я думаю, что она имела в виду нечто худшее, а именно, физический вред. И все же для писателя не публиковаться на родном языке так же плохо, как и плохой конец.
ИНТЕРВЬЮЕР
Были ли у Ахматовой предсказания?
БРОДСКИЙ
Может, и знала, но они, полагаю, были красивее, и поэтому я их не помню. Потому что вы помните только плохие вещи — вы обращаете на них внимание, потому что они больше связаны с вами, чем с вашей работой. С другой стороны, хорошие вещи возникают благодаря своего рода божественному вмешательству. И нет смысла беспокоиться о божественном вмешательстве, потому что оно либо произойдет, либо нет. Эти вещи вне вашего контроля. Что находится под вашим контролем, так это возможность плохого.
ИНТЕРВЬЮЕР
В какой степени вы используете божественное вмешательство в качестве своего рода психической метафоры?
БРОДСКИЙ
На самом деле в значительной степени. На самом деле я имею в виду вмешательство языка в вас или в вас. Знаменитая фраза Одена о Йейтсе: «Безумная Ирландия ранит вас в поэзии…» Что «ранит» вас в поэзии или литературе, так это язык, ваше чувство языка. Ни вашей личной философии, ни вашей политики, ни даже творческого порыва, ни юности.
На самом деле я имею в виду вмешательство языка в вас или в вас. Знаменитая фраза Одена о Йейтсе: «Безумная Ирландия ранит вас в поэзии…» Что «ранит» вас в поэзии или литературе, так это язык, ваше чувство языка. Ни вашей личной философии, ни вашей политики, ни даже творческого порыва, ни юности.
ИНТЕРВЬЮЕР
Итак, если вы делаете космологию, вы ставите язык во главу угла?
БРОДСКИЙ
Ну, это не мелочь — это довольно грандиозно. Когда говорят «поэт слышит голос Музы», это бред, если природа Музы не указана. Но если присмотреться, то голос Музы — это голос языка. Это гораздо более приземленно, чем то, как я это выражаю. По сути, это реакция человека на то, что он слышит, что читает.
ИНТЕРВЬЮЕР
Вы используете этот язык, как мне кажется, чтобы рассказать о видении истории, идущей вниз, заходящей в тупик.
БРОДСКИЙ
Может быть. В принципе, мне трудно оценивать себя, и это затруднение вызвано не только нескромностью предприятия, но и тем, что человек не способен оценить себя, не говоря уже о своей работе. Однако, если подытожить, мой главный интерес — это природа времени. Вот что меня больше всего интересует. Что время может сделать с человеком. Это одно из самых близких представлений о природе времени, которое нам разрешено иметь.
Однако, если подытожить, мой главный интерес — это природа времени. Вот что меня больше всего интересует. Что время может сделать с человеком. Это одно из самых близких представлений о природе времени, которое нам разрешено иметь.
ИНТЕРВЬЮЕР
В своей статье о Санкт-Петербурге вы говорите о воде как о «уплотненной форме времени».
БРОДСКИЙ
Да, это другая форма времени. . . это было довольно мило, эта часть, за исключением того, что я никогда не читал корректуры, и вкралось довольно много ошибок, опечаток и тому подобного. Это важно для меня. Не потому, что я перфекционист, а из-за моей любви к английскому языку.
ИНТЕРВЬЮЕР
Как вы думаете, как вы себя чувствуете в качестве собственного переводчика? Вы переводите или переписываете?
БРОДСКИЙ
Нет, я точно не переписываю. Некоторые переводы я могу переделывать, что вызывает много недовольства у переводчиков, потому что я стараюсь восстановить в переводе даже то, что считаю недостатками. Само по себе безумие смотреть на ваше старое стихотворение. Переводить это еще больше сводит с ума. Итак, прежде чем сделать это, вы должны сильно остыть, и когда вы начинаете, вы смотрите на свою работу, как смотрит душа из своего жилища на покинутое тело. Единственное, что воспринимает душа, это медленное дымление тления.
Само по себе безумие смотреть на ваше старое стихотворение. Переводить это еще больше сводит с ума. Итак, прежде чем сделать это, вы должны сильно остыть, и когда вы начинаете, вы смотрите на свою работу, как смотрит душа из своего жилища на покинутое тело. Единственное, что воспринимает душа, это медленное дымление тления.
Значит, у тебя нет к нему никакой привязанности. Когда ты переводишь, ты пытаешься сохранить блеск, бледность этих листьев. И вы принимаете, что некоторые из них выглядят уродливо, но тогда, возможно, когда вы делали оригинал, это было из-за какой-то стратегии. Слабости имеют определенную функцию в стихотворении. . . какую-то стратегию, чтобы проложить читателю путь к воздействию той или иной строки.
ИНТЕРВЬЮЕР
Вы очень чувствительны к тому, как кто-то переводит вас на английский язык?
БРОДСКИЙ
Мой главный аргумент с переводчиками заключается в том, что я забочусь о точности, а они очень часто ошибаются, что вполне понятно. Ужасно сложно заставить этих людей отображать точность так, как вам хотелось бы. Поэтому вместо того, чтобы размышлять об этом, я подумал, что, возможно, попробую сделать это сам.
Ужасно сложно заставить этих людей отображать точность так, как вам хотелось бы. Поэтому вместо того, чтобы размышлять об этом, я подумал, что, возможно, попробую сделать это сам.
Кроме того, у меня есть стихотворение в оригинале, этого достаточно. Я сделал это, и, к лучшему или к худшему, он останется там. Мои русские лавры — или их отсутствие — меня вполне удовлетворяют. Мне не нужно хорошее место на американском Парнасе. Что меня беспокоит во многих из этих переводов, так это то, что они не очень хороши по-английски. Может быть, это связано с тем, что мое знакомство с английским языком довольно свежее, довольно новое, и поэтому, возможно, я подвержен какой-то повышенной чувствительности. Так что меня беспокоит не столько то, что моя реплика плохая, меня беспокоит плохая реплика на английском языке.
Некоторые переводчики придерживаются собственной поэтики. Во многих случаях их понимание модернизма чрезвычайно просто. Их идея, если я сведу ее к основам, заключается в том, чтобы «оставаться свободным». Я, например, предпочел бы звучать банально, чем вялым или распущенным. Я бы предпочел звучать как клише. . . упорядоченное клише, а не умная вялость.
Я, например, предпочел бы звучать банально, чем вялым или распущенным. Я бы предпочел звучать как клише. . . упорядоченное клише, а не умная вялость.
ИНТЕРВЬЮЕР
Вас перевели безупречные мастера—
БРОДСКИЙ
Несколько раз мне везло. Меня переводили и Ричард Уилбур, и Энтони Хехт—
Метод Бродского — 3 Quarks Daily
Холли А. Кейс
Арес, бог войны
Когда Иосиф Бродский преподавал поэзию в Колледже Святого Святаго, он выбрал метод запоминания поэзии. В начале каждого занятия ученики брали чистый лист бумаги и по памяти записывали стихотворение для обсуждения в этот день. Каждая запятая, каждый разрыв строки, каждое слово — все должно быть на своем месте. Более трех ошибок любого рода приносили бы ноль.
На втором курсе я прослушал курс Бродского по поэзии У. Г. Одена. Хотя я редко придерживался его строгого режима, я придерживался оденовского «1 сентября 1939 года».
После ритуала чистого листа началось обсуждение. С пластиковой чашкой для эспрессо, а часто — вопреки всем правилам — сигаретой, Бродский ходил среди нас, повторяя строки из стихотворения с ритмической интонацией с русским акцентом:
Слепые небоскребы используют
Их полный рост, чтобы провозгласить
Сила Коллективный человек,
Каждый язык льет свое напрасно
Соревновательное оправдание: …
(Он произносил формы существительного и глагола «извините» одинаково, всегда как глагол.)
Потом возник вопрос: Почему «слепые небоскребы»? Поднялась рука или две. Возможные ответы были предложены и мягко отклонены. Наконец, он предложил изображение облаков, отражающихся в стекле; все отклонялось, ничего не допускалось. Пока я слушал, прилагательное «слепой» широко раскрывалось, поглощая шипящую путаницу существительных: «невежество», «высокомерие», «поверхностность», «бездушие», «пустота», «эгоизм», после чего — уже гротескно раздутый смыслом — он поглотил сотни страниц книги Айн Рэнд 9. 0740 Источник, . Бродский проходил сзади справа от меня, когда говорил, свет на парты был рассеянным и без теней, а слева от меня сидел мальчик в балетной пачке из Хэмпширского колледжа: ничего не произошло, все изменилось.
0740 Источник, . Бродский проходил сзади справа от меня, когда говорил, свет на парты был рассеянным и без теней, а слева от меня сидел мальчик в балетной пачке из Хэмпширского колледжа: ничего не произошло, все изменилось.
Несмотря на то, что я отлично выучил стихотворение и даже испытал откровение в классе, в тот день я все же допустил ошибку, на исправление которой ушло очень много времени. То, что я нервно нацарапал на бумаге в начале урока, было 9.0740 технически правильно, но я неправильно понял одно из слов в стихотворении. Заключительная строфа «1 сентября 1939 года» гласит:
Беззащитный под ночью
Наш мир в оцепенении лежит;
Тем не менее, усеяны повсюду,
Иронические точки света
Вспыхивают везде, где Справедливость
Обмениваются сообщениями:
Пусть я, составленный, как они пламя.
Моя ошибка произошла в восьмой строке, где мой разум поменял одно греческое божество на другое. Хотя я написал «Эрос» (бог любви), я имел в виду «Арес» (бог войны). С этой ментальной заменой смысл стихотворения полностью трансформируется. В версии Одена поэт делает то, что для него естественно, а именно любит, в знак солидарности с другими, такими как он. В моем варианте поэт должен бросает вызов своей природе. Хотя он испытывает искушение идти под барабанный бой войны, он хочет сопротивляться искушению. Тем не менее, он может потерпеть неудачу, поскольку последнее предложение, хотя и заканчивается точкой, принимает риторическую форму вопроса. Удастся ли ему поступить правильно? Внутренняя борьба поэта за преодоление своей природы и объединение в солидарности со Справедливым становится частью драмы, и его триумф будет тем больше, если ему удастся «Явить утверждающее пламя».
С этой ментальной заменой смысл стихотворения полностью трансформируется. В версии Одена поэт делает то, что для него естественно, а именно любит, в знак солидарности с другими, такими как он. В моем варианте поэт должен бросает вызов своей природе. Хотя он испытывает искушение идти под барабанный бой войны, он хочет сопротивляться искушению. Тем не менее, он может потерпеть неудачу, поскольку последнее предложение, хотя и заканчивается точкой, принимает риторическую форму вопроса. Удастся ли ему поступить правильно? Внутренняя борьба поэта за преодоление своей природы и объединение в солидарности со Справедливым становится частью драмы, и его триумф будет тем больше, если ему удастся «Явить утверждающее пламя».
Спустя годы я понял свою ошибку и почувствовал облегчение, что никто — слава богу, даже покойный Бродский, нобелевский лауреат, протеже Анны Ахматовой — не заметил. Чтобы скрыть свой позор, я попытался изменить реальность так, как я ее увидел. Возможно ли, что Оден случайно написал «Эрос» вместо того, что он определенно имел в виду под «Аресом»? И как бы нам даже знает , если бы это было так? Один мой друг заметил — с самой неподобающей ухмылкой, — что маловероятно, чтобы автор «Щита Ахилла» перепутал своих греческих богов. — Ну, тогда, — возразил я в дилетантском упоении, — если ошибка была не Одена, то, может быть, с его стороны была ошибка , что он не сделал такой ошибки. Я все еще считал, что Эрос Одена слишком упростил жизнь поэта.
— Ну, тогда, — возразил я в дилетантском упоении, — если ошибка была не Одена, то, может быть, с его стороны была ошибка , что он не сделал такой ошибки. Я все еще считал, что Эрос Одена слишком упростил жизнь поэта.
Прошло еще несколько лет. Стихотворение из девяти строф и девяноста девяти строк по методу Бродского я отдал своему классу. (Влияние, которое это задание оказало на оценки учеников, можно смело оставить воображению.) Перечитывая множество итераций, написанных учениками — некоторые почти идеальные, другие более вымученные и импрессионистские, — снова и снова я опускал перо над неудачными версиями предательского задания. шестая строфа, с двумя русскими именами и с большой буквы «Лица»:
Самая ветреная боевая дрянь
Важные лица кричат
Не так грубо, как хотелось бы:
То, что написал безумный Нижинский
О Дягилеве
Верно для нормального сердца;
За заблуждение, засевшее в костях
Каждой женщины и каждого мужчины
Жаждет того, чего не может иметь,
Не всеобщей любви
Но быть любимой одной.

 Составитель и издатель Владимир Марамзин. Ленинград: «Самиздат», 1972.
Составитель и издатель Владимир Марамзин. Ленинград: «Самиздат», 1972.