Иосиф бродский про любовь стихи: Стихи о любви Иосифа Бродского
Иосиф Бродский — Предпоследний этаж: читать стих, текст стихотворения полностью
Предпоследний этаж
раньше чувствует тьму,
чем окрестный пейзаж;
я тебя обниму
и закутаю в плащ,
потому что в окне
дождь — заведомый плач
по тебе и по мне.
Нам пора уходить.
Рассекает стекло
серебристая нить.
Навсегда истекло
наше время давно.
Переменим режим.
Дальше жить суждено
по брегетам чужим.
Анализ стихотворения «Предпоследний этаж» Бродского
Произведение «Предпоследний этаж» — пример трепетной любовной лирики Иосифа Александровича Бродского, обращенный к М. Басмановой, его возлюбленной и другу.
Стихотворение написано в 1960-е годы. Его автор – едва ли не самый многообещающий молодой поэт того времени. Юноша загнан в тупик мелочным преследованием властей, даже подумывает об эмиграции. Впрочем, покинуть Родину ему придется почти принудительно, только чуть позднее. По жанру – любовная лирика, по размеру – двустопный анапест с перекрестной рифмовкой, 2 строфы.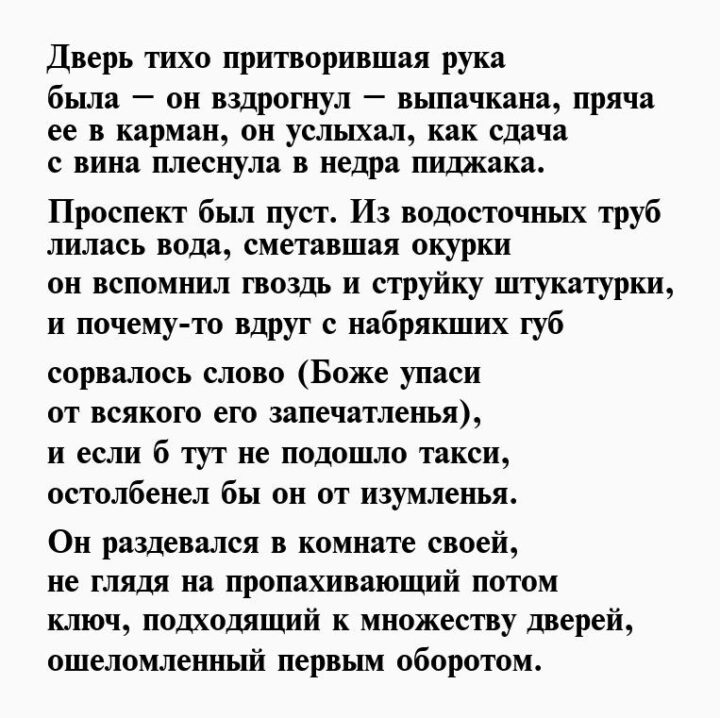
Дождь словно заранее оплакивает их разлуку. Они еще вместе, но «навсегда истекло наше время». Значение строки «нам пора уходить» многозначно: есть и прямой, и иносказательный смысл. «Рассекает стекло серебристая нить»: они стоят, дрожа от холода, промокшие, возле окна в коридоре.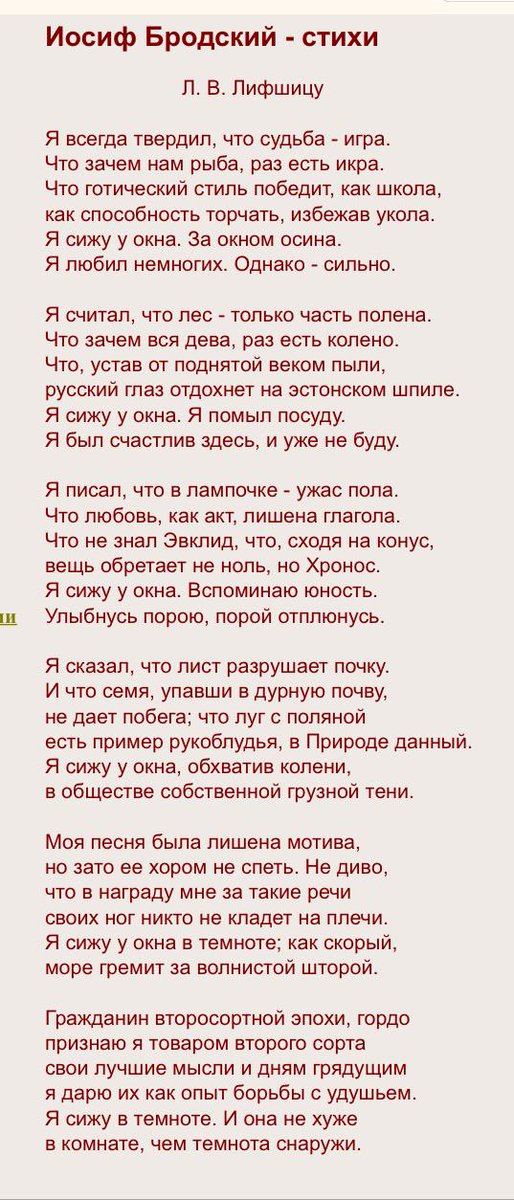 По стеклу бьют струи дождя. «Переменим режим»: несколько загадочная фраза. Похоже, И. Бродский имеет в виду, что скоро за них будут решать, каким будет распорядок их дня. Едва ли будет назначен график встреч. «Дальше жить по брегетам чужим»: чужие распоряжения разлучают любящих людей. Время больше им не принадлежит. А ведь еще недавно казалось, что им принадлежит целый мир. До эмиграции оставались считанные годы. По разным причинам художница, в тот момент уже и мать его сына, не разделила с поэтом изгнание. Отныне они будут жить в разных часовых поясах, а впрочем – словно на других планетах. Сына он спустя время сможет пригласить в гости, ее же не увидит никогда. В первом восьмистишии – проявление нежности: обниму, закутаю. Метафора: стекло рассекает нить. Олицетворение: дождь-плач. «Истекло давно»: угроза расставанья давно сопровождает их, они уже почти привыкли, и вдруг – она сбылась.
По стеклу бьют струи дождя. «Переменим режим»: несколько загадочная фраза. Похоже, И. Бродский имеет в виду, что скоро за них будут решать, каким будет распорядок их дня. Едва ли будет назначен график встреч. «Дальше жить по брегетам чужим»: чужие распоряжения разлучают любящих людей. Время больше им не принадлежит. А ведь еще недавно казалось, что им принадлежит целый мир. До эмиграции оставались считанные годы. По разным причинам художница, в тот момент уже и мать его сына, не разделила с поэтом изгнание. Отныне они будут жить в разных часовых поясах, а впрочем – словно на других планетах. Сына он спустя время сможет пригласить в гости, ее же не увидит никогда. В первом восьмистишии – проявление нежности: обниму, закутаю. Метафора: стекло рассекает нить. Олицетворение: дождь-плач. «Истекло давно»: угроза расставанья давно сопровождает их, они уже почти привыкли, и вдруг – она сбылась.
Поэт И. Бродский, гонимый советской властью, создает произведение «Предпоследний этаж», где не впрямую, а метафорично, пишет о своей любви и невозможности счастья.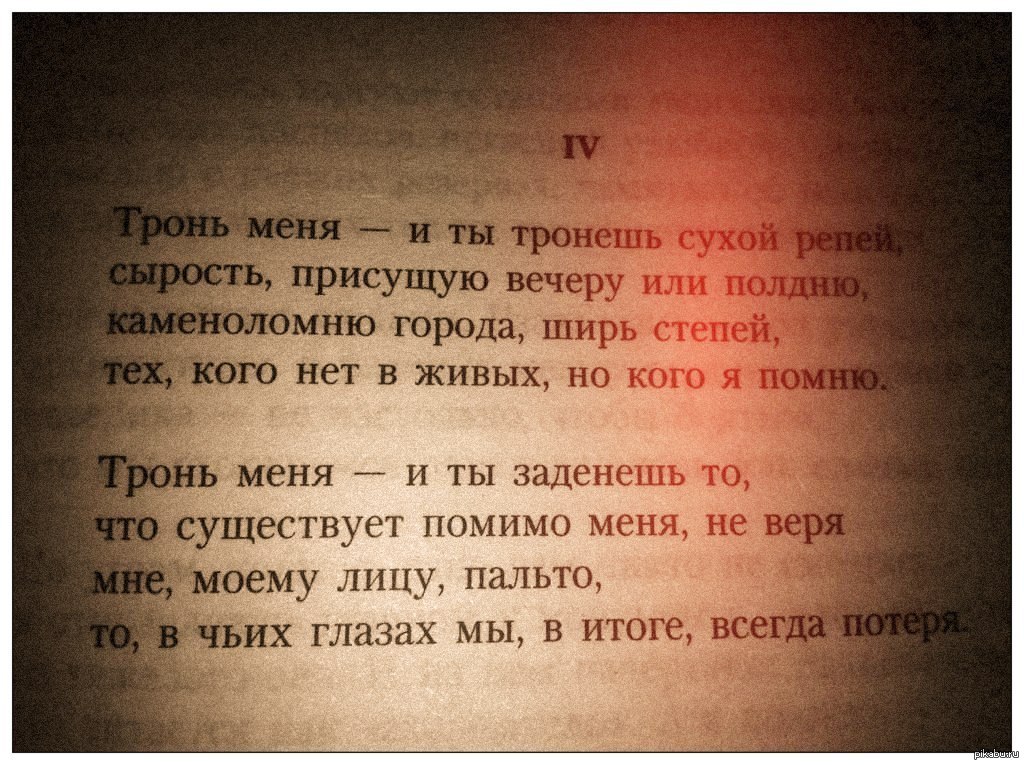
Бродский. Стихи. Любовь | Театральный центр «На Страстном»
12+
Фонд создания музея Иосифа Бродского (Санкт-Петербург)
Поэтический перформанс
Куратор Павел Михайлов
Фонд создания музея Иосифа Бродского (СПб) совместно с актерами московских театров «Практика», Центра им. Вc. Мейерхольда и театра «Мастерская Петра Фоменко» представляют созвездие стихотворений Иосифа Бродского — нобелевского лауреата, последнего классика ХХ века.
«Бродский. Стихи» — это непрерывная, пульсирующая читка под электронное музыкальное сопровождение, уже известная и с успехом проходившая на площадках интеллектуальных клубов и городских фестивалях Москвы — таких, как «Пикник Афиши», «Городской сюжет», арт-кафе «Море внутри», Alexey Kozlov Club.
С начала 2016 года проект стал постоянным резидентом Театрального Центра СТД РФ «На Страстном». Благодаря уникальной подборке стихотворений, каждый спектакль становится эксклюзивным событием, раскрывающим все новые и новые темы в неиссякаемом творчестве Иосифа Бродского.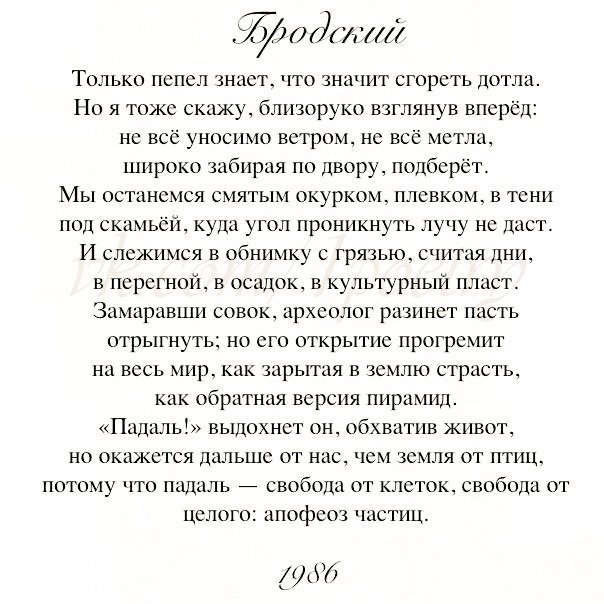
55 лет назад, 2 января 1962 года, ленинградский приятель Иосифа Бродского Борис Тищенко (тогда еще студент консерватории, а впоследствии знаменитый композитор) знакомит его с Мариной Басмановой. Этой встрече суждено будет сыграть огромную роль. Около сотни стихотворений с посвящением М.Б. составили одну из самых пронзительных и восхитительных страниц любовной лирики в русской поэзии. Более 30 лет Иосиф Бродский посвящал ей свои стихи. Большая часть из них позднее вошла в сборнике «Новые стансы к Августе».
В день всех влюбленных мы отмечаем 55-летие этой важнейшей встречи поэтическим перформансом «Бродский. Стихи. Любовь».
Пусть ваши чувства будут такими же вечными.
- Продолжительность
- 1 час 20 минут без антракта
- Музыка:
- Глеб Глонти, Михаил Мясоедов
- Художник:
- Дмитрий Горбас
- Павел Михайлов
Действующие лица и исполнители
- Читают:
- Ксения Орлова
- Наташа Горбас
- Елена Махова
- Валерий Караваев
- Артем Цуканов
- Павел Михайлов
Иосиф Бродский: любовь к котам и дом в Лондоне
- Александр Кан
- обозреватель Русской службы Би-би-си <br>по вопросам культуры
Так выглядит меомриальная доска, открытая в честь Иосифа Бродского в Лондоне
На стене лондонского дома, где неоднократно останавливался Иосиф Бродский установлена мемориальная табличка в его честь.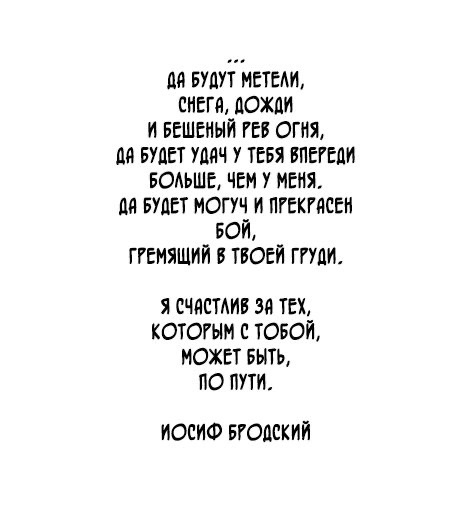
…Город Лондон прекрасен; в нем всюду идут часы.
Сердце может только отстать от Большого Бена.
Темза катится к морю, разбухшая, словно вена,
и буксиры в Челси дерут басы.
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежней.
В этих строчках Иосиф Бродский выразил свое отношение к британской столице.
И хотя большую часть своей эмигрантской жизни поэт провел в Америке, именно Англия была его первой любовью.
Он обожал английский язык и английскую поэзию: у английских поэтов Джона Донна и Уильяма Одена он учился мыслить и излагать свои мысли в стихах.
Даже в английской речи его угадывался британский след. По мнению его друга и переводчика Даниэля Уайсборта, его акцент был «причудливой смесью нью-йоркского говора и принятых в высшем английском обществе оборотов речи».
Бродский в Лондоне
Бродский много и охотно приезжал в Лондон.
Останавливался он здесь в разных местах: и у поэта и эссеиста Стивена Спендера в районе Сент-Джонс-Вуд, и у правозащитницы Марго Пикен (именно ей он посвятил процитированное выше стихотворение «Темза в Челси») в Кенсингтоне, и у своего переводчика Алана Майерса и его жены Дианы в Северном Финчли.
Есть и другие связанные с Бродским места в Лондоне: и знаменитый клуб «Атенеум» куда его пригласил Исайя Берлин и куда не подозревавший жесткости дресс-кода английского клуба поэт заявился в джинсах, и многочисленные университетские аудитории и концертные площадки, где он выступал, и колледж в Кембридже, где он провел семестр в качестве приглашенного профессора.
Подпись к фото,В этом доме на тихой улочке Хэмпстед Хилл Гарденс с 1987 вплоть до своей смерти регулярно останавливался во время своих приездов в Лондон Иосиф Бродский
Однако, как говорит главная британская исследовательница жизни и творчества Бродского профессор Валентина Полухина, особое место в его сердце занимал Хэмпстед – тихий, лесистый и населенный интеллектуалами, поэтами и художниками район северного Лондона.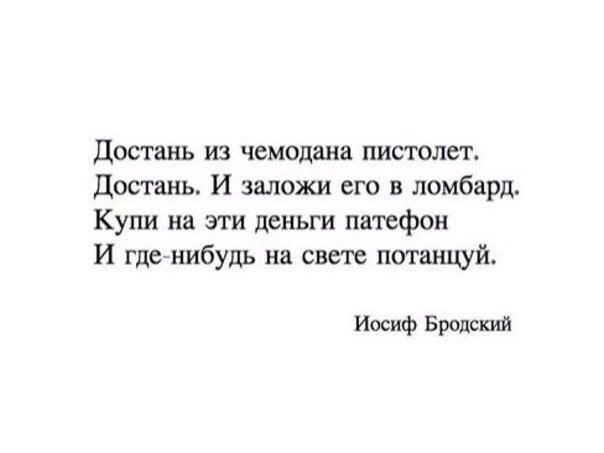
Здесь в октябре 1987 года, когда он гостил у известного пианиста Альфреда Бренделя, он получил радостную весть о Нобелевской премии.
В этот исторический момент Бродский обедал в местном китайском ресторанчике со знаменитым автором детективных романов Джоном Ле Карре.
Здесь же, на тихой улочке Хэмпстед Хилл Гарденс он помог купить квартиру Диане Майерс после ее развода с мужем Аланом.
Эта квартира и стала главным его лондонским пристанищем вплоть до самой смерти в 1996 году.
Именно на этом доме по инициативе созданного Валентиной Полухиной «Фонда русских поэтов» и при поддержке посольства РФ в Лондоне и установлена теперь мемориальная табличка.
Как в Лондоне установить мемориальную табличку
Подпись к фото,Несмотря на то, что Анна Мария Бродская своего отца практически не помнит, она активно приобщается к сохранению наследия и памяти о Иосифе Бродском
Это оказалось совсем непростым делом. Дианы Майерс уже нет в живых, но даже согласия нынешней хозяйки квартиры Эммы Глоуг для этого недостаточно – нужно разрешение районного совета.
Дианы Майерс уже нет в живых, но даже согласия нынешней хозяйки квартиры Эммы Глоуг для этого недостаточно – нужно разрешение районного совета.
Валентина Полухина и ее соратники активизировались в этом году в связи с юбилеем – 75-й годовщиной со дня рождения Бродского.
Поначалу они обратились в местный совет района Кэмден с просьбой разрешить установить у дома скамейку с именем поэта.
Согласие получено не было – скамейка, как объяснили в совете, может стать магнитом для «антисоциальных элементов».
Сошлись на табличке.
Подпись к фото,Вот так выглядит «голубая табличка» — полноценная британская мемориальная доска, в данном случае в честь писательницы Элизабет Гаскелл
Однако, по существующим в Британии правилам, для того, чтобы даже подать заявку на установку полноценной мемориальной доски – в Британии такие доски называют blue plaque, по их голубому цвету – необходимо, чтобы с момента смерти человека, память которого хотят увековечить, прошло 20 лет.
Именно такой срок, как считают здесь, подтверждает правомочность кажущихся современникам бесспорными заслуг претендента.
Двадцать лет со дня смерти Бродского истекает в январе следующего 2016 года.
Но, как показывает практика, на рассмотрение заявки у организации «Английское наследие» (официально она называется Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии) уходит не менее трех лет.
Так что появления в Лондоне полноценной «голубой таблички» в память Иосифу Бродскому его поклонникам и почитателям придется ждать почти четыре года.
Ну, а пока совет разрешил установить на доме табличку поскромнее.
Кошки и дочь поэта
Подпись к фото,Мемориальная табличка памяти Бродского — инициатива основателя «Фонда русских поэтов» Валентины Полухиной
Как и положено в подобных церемониях, сама табличка – прежде чем ее явили взорам собравшейся на церемонию открытия публики — была завешена покрывалом.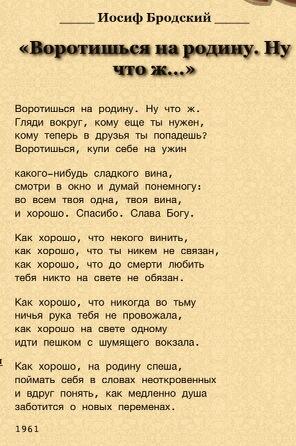 Точнее даже не покрывалом, а обычным шарфом с изображением десятков симпатичных котов.
Точнее даже не покрывалом, а обычным шарфом с изображением десятков симпатичных котов.
Бродский обожал котов, они были с ним всегда – и в Петербурге, и в Америке, и в Венеции.
А честь снять покрывало была предоставлена дочери поэта – Анне Александре Марии.
22-летняя молодая женщина росла в Италии, отца практически не помнит – ей было всего два года, когда он умер.
По-русски она не говорит, но чем дальше, тем больше приобщается к сохранению наследия и памяти об Иосифе Бродском. В мае она была в Петербурге на открытии квартиры-музея «Полторы комнаты», и вот теперь Лондон.
Подпись к фото,Русского языка Анна Мария не знает, поэтому стихи отца она читала в переводе
«Мне очень приятно видеть этот знак в том месте, где отец был счастлив. Он никогда не был в себе уверен, и говорил, что его быстро забудут. Для меня, дочери, которая по настоящему не знала отца, это невероятно трогательное событие», — сказала Анна Бродская.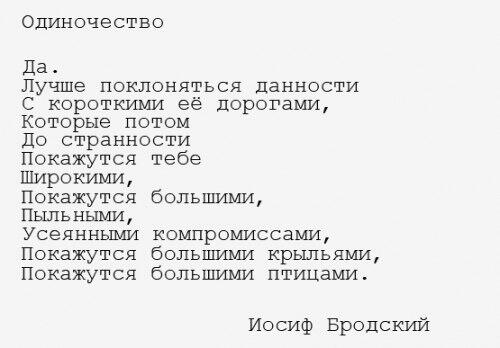
Бродский из самоизоляции. Как Петербург, Москва и США читали стихи в юбилей поэта — Общество — Новости Санкт-Петербурга
В день, когда Петербург должен был отмечать восьмидесятилетие нобелевского лауреата, наш город, по иронии судьбы, выполняет завет Бродского — «Не выходи из комнаты». Коронавирусные ограничения не позволяют не только выйти из помещений, но и в них войти. Для поклонников закрыты места памяти — недавно открывшийся музей в квартире Бродского на Литейном, «американский кабинет» с вещами поэта в Фонтанном доме.
«Фонтанка» всё-таки устроила праздник и попросила известных людей по обе стороны океана прочитать любимые стихи Бродского. На наше предложение откликнулись писатели и поэты, журналисты и режиссёры, музыканты и артисты, бизнесмены, и, что самое важное, — друзья нобелевского лауреата. Так появился марафон «Бродский из самоизоляции», который 24 мая прошёл на площадке онлайн-фестиваля «Фонтанки» #безантракта tv.fontanka.ru. Рассказываем, как это было, и делимся лучшими роликами.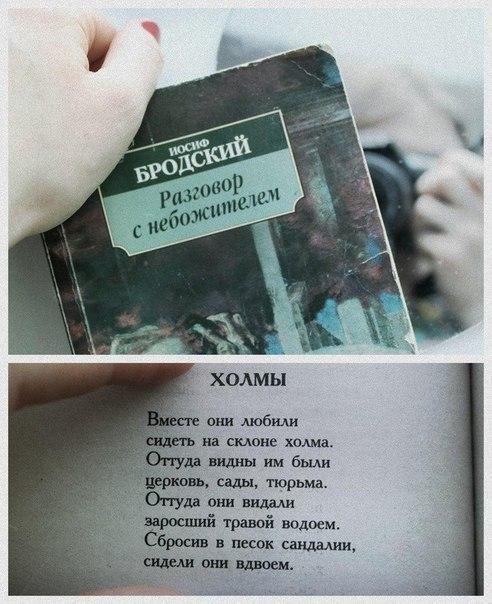
Одной из первых предложение почитать Бродского приняла писатель Людмила Улицкая. Автор «Казуса Кукоцкого», «Даниэля Штайна, переводчика» и многих других романов выбрала стихотворение «Письма римскому другу», написанное в марте 1972 года.
Вокалист Animal Jazz Александр Красовицкий из самоизоляции, что и логично, исполнил стихотворение «Одиночество». Это ранний текст, написанный Бродским в 1959 году.
Друг Бродского и соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин наизусть прочитал «Стансы городу» 1962 года — пророческие стихи о красоте Ленинграда и «посмертной правоте» поэта.
Актёра БДТ Геннадия Блинова горожане знают по роли наследника Тутти в спектакле Андрея Могучего «Три толстяка».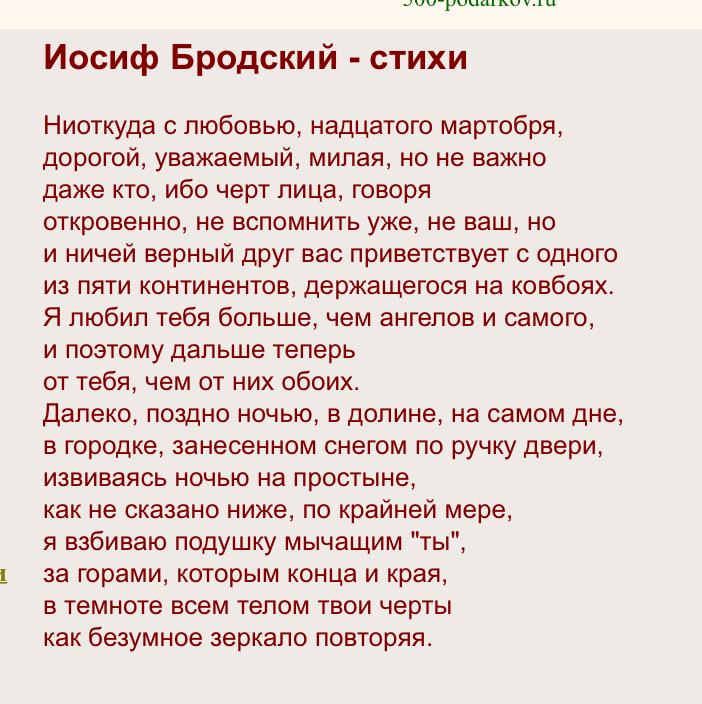 Посмотрите, как звучит в исполнении артиста отрывок из поэмы «Горбунов и Горчаков» «Молчанье — это будущее дней» (1968).
Посмотрите, как звучит в исполнении артиста отрывок из поэмы «Горбунов и Горчаков» «Молчанье — это будущее дней» (1968).
Рома Либеров — автор фильмов о поэтах и писателях Юрии Олеше, Сергее Довлатове, Ильфе и Петрове, Осипе Мандельштаме, Андрее Платонове, Иосифе Бродском. Перед тем как прочитать «Меня упрекали во всем, окромя погоды» (1994), режиссёр отметил: «Лучше всего стихи Бродского звучат в голосе самого Бродского. Тем не менее мы позволяем себе читать его сочинения вслух. Может быть, мы кажемся себе чуть больше, чуть умнее или чуть талантливее».
Бизнесмен, президент группы RBI Эдуард Тиктинский вспомнил «Балладу о маленьком буксире» — одно из редких стихотворений Бродского, официально опубликованных в СССР: его напечатали в 1962 году в журнале «Костёр».
Поэт и исследователь культуры периода блокады Полина Барскова прочитала стихотворение «К Евгению» 1975 года. Сама Барскова в какой-то степени повторила путь Бродского — рождённая в Ленинграде, переехала в США, где преподаёт литературу.
Музыкант Женя Любич чтением стихов не ограничилась и спела собственную композицию на стихотворение «Рождество» 1990 года. Ещё несколько песен на стихи Бродского Любич опубликовала на «Фонтанке» 24 мая, их вы можете послушать по ссылке.
Историк Лев Лурье в своём рабочем кабинете прочитал «Мексиканское танго» (1975) — это стихотворение Бродский, как и «К Евгению», написал по следам поездки в Мексику. Текст известен ещё и благодаря музыке, созданной бардом Александром Мирзаяном. И такое ощущение, что Лев Яковлевич вот-вот начнёт напевать.
Текст известен ещё и благодаря музыке, созданной бардом Александром Мирзаяном. И такое ощущение, что Лев Яковлевич вот-вот начнёт напевать.
Друг Бродского, искусствовед Михаил Мильчик — человек, благодаря которому сохранились фотографии «Полутора комнат», какими их покинул Бродский. Именно Мильчик вместе с Яковом Гординым основал в 1999 году Фонд создания музея Иосифа Бродского — институция постепенно выкупала комнаты в коммуналке, где жил поэт, чтобы превратить пространство в музей. Искусствовед выбрал стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку», написанное в 1980 году, в день сорокалетия Бродского.
Актриса и режиссёр Юлия Ауг выбрала стихотворение 1995 года «Песенка о свободе».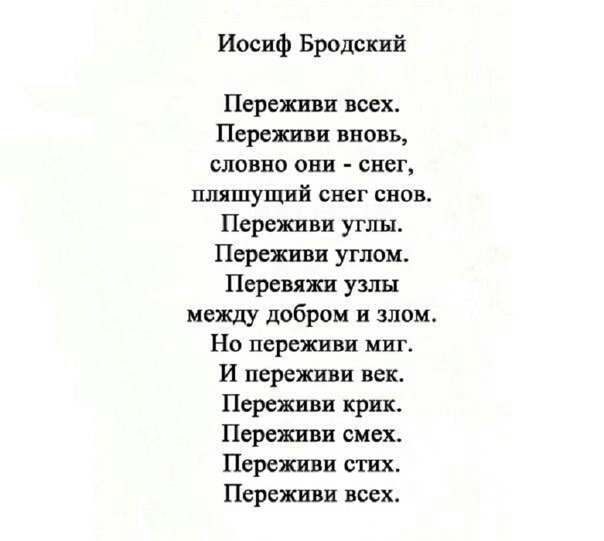 Его не так часто вспоминают сегодня, хотя оно очень актуально по нашим временам: «Ах, свобода, ах, свобода. У тебя своя погода. У тебя — капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут».
Его не так часто вспоминают сегодня, хотя оно очень актуально по нашим временам: «Ах, свобода, ах, свобода. У тебя своя погода. У тебя — капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут».
Поэт, прозаик и публицист Дмитрий Быков известен парадоксальным отношением к Бродскому. В 2017 году дискуссию породила статья в сборнике «Один», где литератор назвал коллегу поэтом, «актуальным для ура-патриотов» и «любимым людьми, чьё самолюбие входит в непримиримый конфликт с их реальным положением». В проекте «Бродский из самоизоляции» вы можете услышать, как Быков читает стихотворение «Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова» 1968 года.
Музыкант Александр Цой, сын Виктора Цоя и лидер группы «Ронин», предпочёл более поздний период творчества Бродского — 1986 год, когда появилось стихотворение «Только пепел знает, что значит сгореть дотла».
Президент фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова читает «Декабрь во Флоренции» 1976 года. И неслучайно — эпиграф к стихотворению «Этот, уходя, не оглянулся…» — строка из стихотворения «Данте» Ахматовой.
Любит поэзию Бродского и политолог, публицист Станислав Белковский. Как и Рома Либеров, он прочитал «Меня упрекали во всем, окромя погоды…»
Любопытно, что все участники онлайн-чтений сами строчки «Не выходи из комнаты…» обошли вниманием.
В этом тексте мы упомянули лишь часть выступлений — а другие, в том числе с участием Егора Клопенко, Кати Сергеевой, Андрея Носкова и Марины Рыбаковой — в полной версии чтений вы можете посмотреть по ссылке.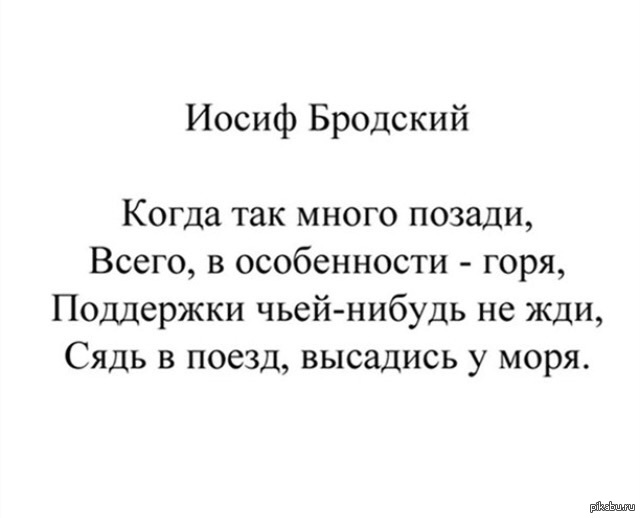
«Фонтанка» напоминает, что в этот день в нашем эфире происходили и другие события в честь Иосифа Бродского. Куратор музея в «Полутора комнатах» Павел Котляр провёл двадцатиминутную экскурсию по пространству, которую записал режиссёр-документалист Константин Селин. А петербургские джазмены устроили прямо в квартире поэта джазовую импровизацию на тему любимой музыки Бродского. Посмотрите, как Владимир Волков (контрабас), Алексей Чижик (вибрафон), Станислав Чигадаев (фортепиано) и Антон Алексеевский (флейта) играют Доницетти, Вивальди, Баха, Пёрселла и других.
«Фонтанка.ру»
«Бродский нас совершенно задурил своими стихами»
О поэзии, джазе и римских прогулках с Иосифом Бродским: публикуем беседу Юрия Левинга с переводчиком и радиожурналистом Ефимом (Славой) Михайловичем Славинским (1936–2019).
— Как вы познакомились с Бродским?
— У нас очень давние отношения — мы познакомились в 1960 году.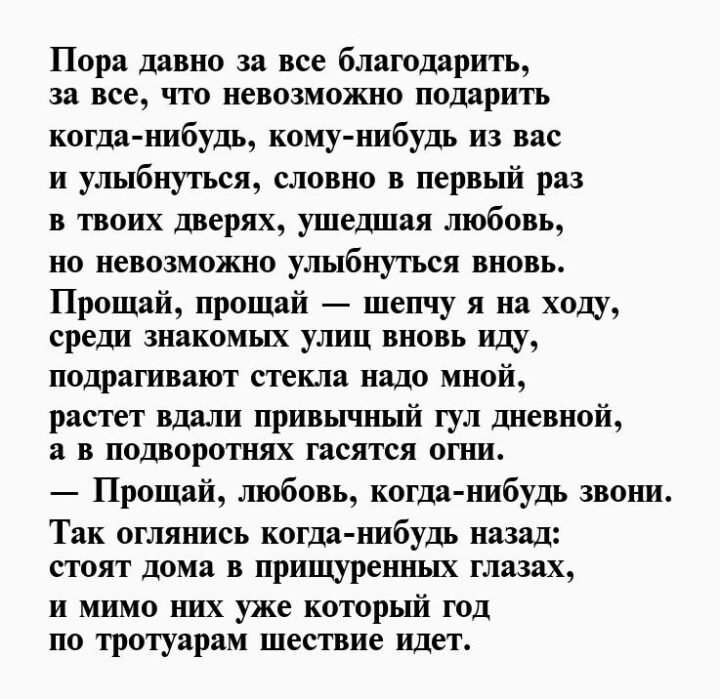 Виделись нечасто, но постоянно. Перед самым его отъездом не виделись. Я тогда жил в основном в Питере. Бродский уникальный в этом смысле человек, у него было 500 друзей, и я в том числе. До того, как он познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, одним его из ближайших друзей был Гарик Гинзбург-Восков. Есть его абсолютно пресные воспоминания о раннем Бродском. Сам по себе он интересный человек.
Виделись нечасто, но постоянно. Перед самым его отъездом не виделись. Я тогда жил в основном в Питере. Бродский уникальный в этом смысле человек, у него было 500 друзей, и я в том числе. До того, как он познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, одним его из ближайших друзей был Гарик Гинзбург-Восков. Есть его абсолютно пресные воспоминания о раннем Бродском. Сам по себе он интересный человек.
Иосиф пришел как-то на Благодатный [конечная трамвайная станция «Благодатный переулок» в районе Московского проспекта в Ленинграде. — Прим.
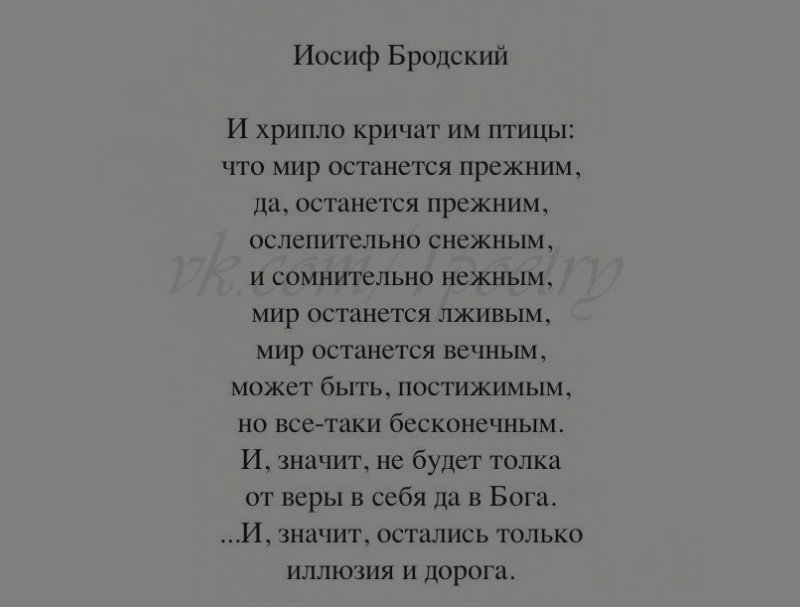
— Какое впечатление тогда на вас произвела его поэзия?
— Бродский нас совершенно задурил своими стихами. Я его познакомил с Рейном. Мы тогда любили раннего Пастернака, образцом для нас был ранний Тихонов, несколько стихотворений Луговского 1920-х — 1930-х годов, многие любили Багрицкого, но я его терпеть не мог. Заболоцкого любили, но не на Благодатном. Слуцкий повлиял на Бродского тоже.
У меня гипотеза такая, что если бы Бродский вовремя, в двадцать лет, не познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, то не было такого Бродского, которого мы знаем. Они к тому времени состоялись как поэты, а он пришел зелененький. Он писал тогда под Пабло Неруду. Они развивались до конца 1970-х, а он только начал разворачиваться. Вот если бы он познакомился тогда не с ними, а с Евтушенко, например? Это был бы другой человек. Кто в то время играл такую же роль, как Рейн? Он же уникален.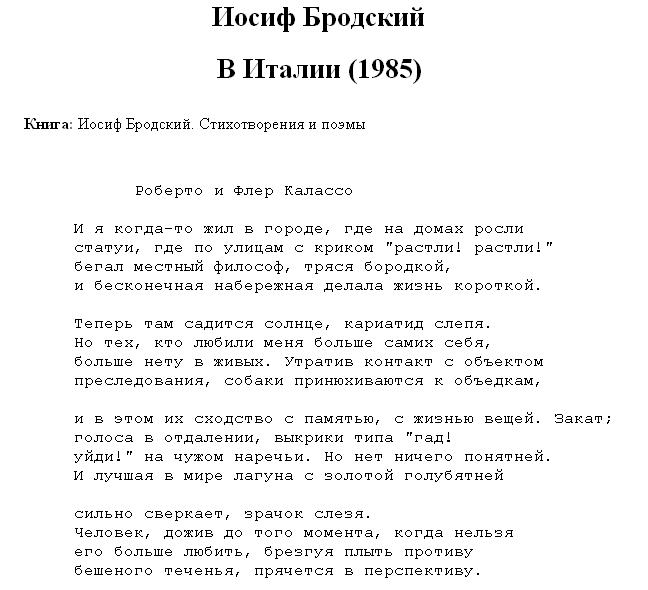
— Почему Бродский называл вас Юхим?
— Он меня так называл, имея в виду мое украинское происхождение. Я тоже называл его Джозеф. В январе 1975 года, когда мы встретились в Риме, он подарил мне подборку стихов с замечательной надписью на рукописи «Торса»: «Ефиму, to the only reader West of Berlin» («Единственному моему читателю к западу от Берлина»). Это в каком-то смысле правда.
— Поясните, что Бродский имел в виду?
— Я один из первых его понимающих слушателей. Помните, Рейн описывает это…
— Он пишет, что вы их познакомили с Бродским в 1959 году.
— Только в 1960 году. Рейн врет, как дышит.
— В «полутора комнатах» приходилось бывать часто?
— Раза три. Последний раз — за шесть дней до моего ареста, когда Иосиф праздновал день рождения, и там было человек тридцать.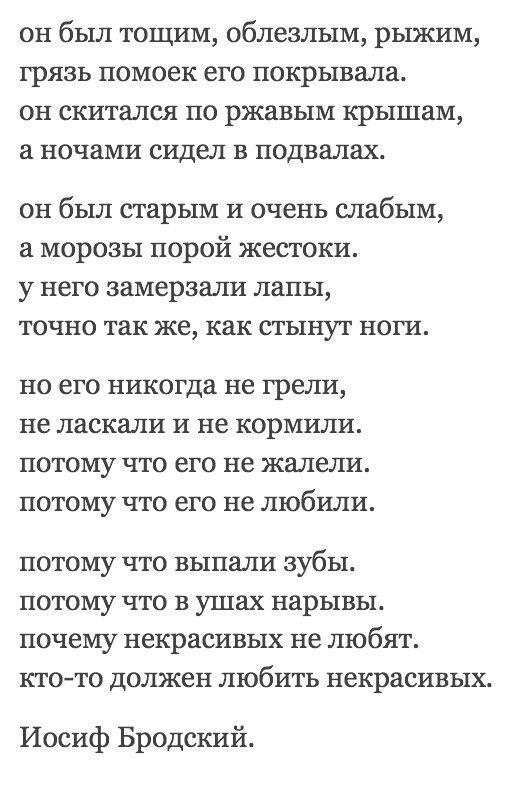
В 1971 году в Новокузнецке я получил целый месяц отпуска и побывал и в Москве, и в Питере, где ломанулся к Бродскому. Мне открыл его отец, не узнал меня, но впустил к больному Иосифу. Там лежал Бродский — бледный, как смерть: то ли простуда, то ли сердце, и сказал мне, что написал стихи. Он их прочел мне вот таким мертвым голосом. Это были стихи «Натюрморт». Я тогда долго не стал сидеть, у него уже была одышка в тридцать лет. Так плохо он никогда не выглядел ни до, ни после.
— Расскажите про свою судимость.
— В зоне я был всего девять месяцев, а потом досиживал срок «на химии». Меня послали в Новокузнецк на стройку бетонщиком.
— Ваше дело ведь было сфабрикованное?
— Если бы не политика… Вообще, да, сфабрикованное. [Константину] Азадовскому подкинули, потому что он был знаком со мной. Таких курильщиков, как я, полгорода. Их всех сажать, что ли? У меня не был доказан факт сбыта, я только покурить давал кому-то. Но судья решил, что в данном случае это можно приравнять к факту сбыта.
— У вас нашли запрещенную литературу?
— Я как чувствовал и самое страшное спрятал. У меня были хроники Горбаневской [редактор самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий» в 1968 г. — Прим. Ю.Л.]. Нашли только Мандельштама. Если бы меня посадили за самиздат, то не выпустили бы досрочно. Я освободился в самом начале 1972 года.
Встречи с Бродским в Риме
— Сколько вы времени находились в столице Италии?
— Я приехал в сентябре 1974-го, а улетел в Лондон 16 января 1976 года. Я снимал комнату, подрабатывал в ХИАСе, получал пособие — в общем, кайфовал. Я жил на Пьяцца Фьюме, в одном квартале от Порто Пиа.
В 1975 году Анна Донни, которая живет в Риме, повезла меня к своим родственникам на Новый год под Венецию, потом я вернулся третьего числа где-то, и тут звонок — Бродский. Оказывается, он тоже был в Венеции и сейчас в Риме. Мы встретились, стоял пасмурный день. В первый же день нашей встречи мы пошли гулять на Форум, там он сделал несколько неудачных моих снимков. Вообще, в 1975 году мы несколько раз встречались в Италии, он всегда туда ехал, как только у него появлялись деньги.
Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом
Свое пребывание в Риме он воспринимал через фразу Гете «Остановись, мгновение, ты прекрасно». При этом Гете он не читал, но вот это ощущение есть в его римских стихах: в стихотворении «Пьяцца Маттеи» прямо целиком приведена эта фраза. Бродский подарил мне тогда подборку своих стихов, которые я потом взял и передарил Ромасу Катилюсу в Вильнюсе.
Я в Москву отправил подруге открытку 5 января 1975 года, поэтому помню точно дату, когда мы увиделись с Бродским. Прочту вам отрывок:
«Буду в Риме еще месяца три. Жду вестей от Шуры. А вчера утром вдруг звонит Иосиф —»Юхим, я в Риме». Мы не виделись три года и вот гуляем, выпиваем и треплемся. Он в полном порядке. Сегодня видели папульку (Римского), издали. Он произносил речь. Сказал, что все будет в порядке.
Потом пили какао в знаменитом Café Greco. Там бывали все знаменитости, ну, и мы решили побывать. Сидели под портретом Гоголя. Потом поднялись по Испанской лестнице и пошли к Villa Medici, и я заметил, что у Иосифа одышка.
У меня одышки нет, но все хуево с бронхами. Впрочем, я думаю, что все будет в порядке. Почему не пишешь? Что-нибудь не в порядке? Этот колдуэлловский идиотизм [Эрскин Колдуэлл — американский прозаик, популярный в СССР в 1940-60-е гг. — прим. Ю.Л.] на меня нагнал Иосиф своими рассказами об Америке. Говорит, там все в порядке. А их президент знаешь, почему лысый? Много играл в бейсбол без шлема, перепадало ему мячиком. Прощай, старушка. Пиши почаще. Твой Е.С.«
Мы сидим в «Кафе Греко», у него с собой была его только что вышедшая по-английски книжка в переводах Джорджа Кляйна с портретом на суперобложке. Я в какой-то момент говорю официанту: «Со мной сидит знаменитый русский поэт, поэтому принесите нам книгу почетных посетителей». Он на нас посмотрел скептически, сидят какие-то два хмыря, но принес нам толстенную книгу — такой гроссбух, и Бродский там расписался. Это было 3 или 4 января 1975 года [правильная дата — 9 января — прим. Ю.Л.]. Были встречи и после.
— А вы фотографировали его?
— Нет, я снимать не умею, я технический идиот. А Бродский — сын фотографа.
Потом, в конце 1975 — начале 1976 года я заходил к нему в отель на Пьяцца Минерва, где он жил на самом верхнем этаже. Мы пошли гулять на Испанскую лестницу, Пинчо и Trinita dei Monti. «Остановись мгновение» — это был лейтмотив Рима для нас обоих. Так вот, он мне подарил свою подборку, которая открывается этим гениальным стихотворением «Торс».
— Он вам отдал рукопись?
— Нет, это была машинописная подборка, которую я подарил Катилюсу. Я Рим знал не хуже Иосифа. Знаете, в Италии есть столовые самообслуживания? Мы там обедали, потом где-то с Анной, у Сильваны де Видович. Сильвана (Сизи) не принадлежала к ближайшему кругу людей Бродского, из него я знаю только Джованни Буттафаву. С Сильваной я был знаком еще с 1967 года, и когда я оказался в Риме, она сама вышла на меня. А кто был в круге ближайших его друзей, я не знаю. Он умел дружить со всеми по отдельности и с каждым, как с самым близким другом.
— А вы писали стихи?
— Нет, у меня нет воображения. Он меня ценил как знатока поэзии. Рейн говорит, что он учитель Бродского. И это абсолютная правда. Рейн и меня научил воспринимать стихи. Мы с ним познакомились в 1958 году.
— Вернемся в 1975 год и к вашим встречам с Бродским в Риме. Как Иосиф начинал читать стихи?
— Это происходило мгновенно, его не надо было долго просить.
— Реагировали ли на это прохожие?
— В Риме за 3000 лет столько всего было, что, скорее, нет. Когда я жил в Италии, вышел роман итальянского писателя о том, как вдруг в Риме оказывается марсианин и становится фигурой дня в городе, а через месяц он уже всем надоедает. Мы говорили обо всем, виделись в этом году еще раз пять.
Славинский. Рим. 1975Предоставлено Юрием Левингом
— Вы упоминаете о своем и ваших приятелей увлечении модернистским джазом и западным ширпотребом.
— Мы все сидели на этом джазе. Что произошло с СССР? Нас закидали джинсами по аналогии с выражением «закидать шапками». Советский Союз погиб, потому что не умел производить джинсы. А мы все торчали на этом джазе. Главным теоретиком и пропагандистом джаза у нас был Фима Барбан. Он живет в Лондоне сейчас. Он был моим гуру с 1955 по 1958 годы. Нас пленяли классический джаз и диксиленд, Армстронг, Рой Элдридж, Джони Ходжес. Основным открытием для меня стал Билборд, которого для меня открыл Барбан. Чарли Паркер, Монк, Дэвис — вся эта компания. Вы знаете, кто такой Уиллис Коновер? Есть три знаменитых американца на весь Союз — Джек Лондон, Кеннеди и Уиллис Коновер. Последний — это диджей джазовой передачи «Голоса Америки». Юрий Ермолов вам лучше расскажет об этом времени.
По поводу западного ширпотреба есть замечательное эссе Бродского под названием «Трофейное», и там все описано. Описано, как мы торчали на этом. Если уж вспоминать о подарках, то как не вспомнить, что в нашу первую встречу в Риме (начало января 1975-го) он подарил мне чудный свитер тонкой вязки, бутылочного цвета, который только что купил в Венеции, но ему оказался маловат… И тогда же — машинописную подборку своих последних стихов, с уже упомянутым дарственным инскриптом «Ту зэ оунли ридер уэст ов Берлин»…
— Бродский тогда тоже подсел на джаз?
— Об этом свидетельствует поэма «Шествие», которая ходила по рукам в конце 1960-х, она была огромной (Бродский вообще был необычайно производительным). В моей самиздатской копии «Шествие» состоит из двух частей, а между первой и второй частью там было написано: «Конец первой части. Следует десятиминутный джазовый проигрыш. Выходят и играют…». Дальше он перечисляет как минимум полтора десятка джазовых, в основном авангардных, музыкантов. Это были наши любимцы — я запомнил некоторые имена: Луи Армстронг, Рой Элдридж, Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган, Дэйв Брубек, Телониус Монк, Кэннонбол Эдерли, Джон Колтрейн… Вставка с перечисления великих джазменов между первой и второй частью «Шествия» была в самиздатских экземплярах — что оная таки существовала, может подтвердить выдающийся питерский литературовед Татьяна Никольская, «Шествие» я читал именно с ее машинки.
— Музыка влияла на поэзию Бродского?
— Конечно. Я помню, что в 1960-е, когда мы виделись до его посадки, он торчал на джазе и русской поэзии. Смешно сказать, что Бродский в 1959—1960-х подражал Янису Рицосу, Георгию Сиферису, Пабло Неруде. Эти дурацкие образы гладиаторов, черепа и еврейского кладбища.
— Кстати, вы видели книгу «Музыкальный мир Бродского»?
— Нет. Все упоминают о Перселе, «Дидона и Эней». Это чистая случайность. К Найману приехала одна английская аспирантка и привезла эту пластинку. Ахматова ее прослушала и заахала, она ж сама себя сравнивала с Дидоной. Отчасти это же история о ней и об Исайе Берлине. Почему он, гад, не женился и не увез ее?
Празднование нового года с Бродским в Риме
Так случилось, что в конце декабря 1975 года у Сильваны пустовала квартира, и она отдала мне ключ, чтобы мы смогли отпраздновать там Новый год. На этой вечеринке, кроме Нэнси, была еще Клавдия Яковлевна Славинская, которая приготовила нам котлеты, Нина и Никита Ставиские. Они долгое время жили в Лондоне — Нина работала на ВВС, потом они попали в США, работали в школе языков, потом перебрались в Лондон. Никита умер в 2007 году, а Нина уехала в Израиль.
— Они знали Иосифа и раньше?
— Это был его круг общения. У меня есть в расширенном виде отрывок, который я привел из письма Людмиле Штерн. Это из письма Мише Мейлаху: «При первой же встрече с Иосифом я ущипнул его вопросом о тебе: „Что же ты, гад, лажаешь Мейлаха по своим салонам? Ты же знаешь, что он светский человек, и это может ему навредить?..“ и т.д., на что он ажно закручинился, запрокинул головушку и молвить изволил: „Да *** [чего. — Прим. ред.] ты мне: Мейлах, Мейлах! Что он, стеклянный, что ли? Что о ком хочу, то о том и говорю, и пошли вы все…“. И я подумал: действительно, Пьяцца дель Пополо, солнышко зимнее пригревает, красотища кругом и такая встреча, *** [чего. — Прим. ред.] там разбираться, действительно. Короче, надо немедленно поддать, что мы и сделали, и пошли по Малому Кругу, то есть не отходя далеко от Тибра. У каждого из нас в Риме есть „свои места“, и соответствующие поливы и пластинки. Вообще, в Риме с Иосифом было интересно, он там всегда был расслаблен и доволен. Написал чудный свой „Торс“, читал, гнусавя, под пиниями Виллы Боргезе, — большой кайф… В Новый год мы с ним и Никитой Стависким пели польские песни. Это оказалось единственное общее хобби троих, в общем-то, чужих людей. Перекидывались мелкими сплетнями и налегали на бренди. Тетка моя приготовила аидише котлеты с луком. Нэнси быстро вырубилась и уснула прямо на ковре, и от ее босых ступней шел пар почему-то. Еще были Нина и Анна. На квартире Сизи [де Видович], среди ковриков и советских и маоистских плакатов». Никита Ставиский учился на историческом факультете и специализировался по Польше, Бродский всегда любил Польшу с моей подачи, а я известный полонофил.
Вот еще одна цитата из письма Людмилы Штерн:
«Вечером был на лекции Иосифа в School of Slavonic Studies. Он прочел на беглом и точном английском толковое эссе „Писатель и язык“ (потом я выяснил, что и намахал он его прямо по-аглицки за четыре ночи. Вот молодец!), Ляля [Майерс] разносила чай и шерри, Джозеф отвечал на вопросы (будучи, как обычно, мил с полузнакомыми, а вообще-то, он все такой же хам). А потом Алик Берг повел нас семерых в какой-то особенный индийский ресторан, невзирая на мои протесты — индийская кухня совершенно несовместима с моим еврейским желудком, способным переваривать гвозди. Тут возникли какие-то напряги — Алик и [Зиновий] Зиник свалили, и вечер закончился самым скучным образом у Машки [Слоним]. Джо сперва рыпался, что мы все какие-то сонные, ему хотелось действия, мол, вот у нас, в Америке… „Ну, да, — начали дорываться мы, — это молодая динамичная страна, размах и энергия, нью фронтир“. „Нет, — сказал он, — просто перемена ритма“. Он сейчас в Кембридже. И стишки почитал — один другого лучше, длинные, напористые, чисто описательного, любовательного свойства, все как один. В этот вечер он опять мне понравился, как это было в Риме. Потому что наши предыдущие лондонские встречи совершенно не удавались. Не те обстоятельства, он капризуля, а вот он среди людей, видящих его насквозь, любящих — но на мякине их не проведешь — тогда он ручной. В эссе он назвал себя „тем из русских авторов, на кого наибольшее влияние оказала англо-американская поэзия“, — наибольшее по сравнению с другими авторами. Это не комплимент хозяевам: в английском цикле и в „Колыбельной трескового мыса“ влияние это уже видно и подчеркнуто».
Это циркулярное письмо, я его разослал нескольким людям. Это конец 1979 года. Письмо Мейлаху про Новый год — это ноябрь или декабрь 1979 года. Мейлаху я писал в СССР. Это было после моего единственного визита в США, где я видел его сестру Мирру и зятя Генриха Орлова. В течение 1975 года я от него получил три письма.
Другое письмо мне в Лондон: «Это письмецо не столько для тебя, сколько для Машки, с которой мы проблему нижеследующую уже обсуждали в столице французской республики. Она знает, о ком речь. Так вот, чувак скоро окажется в Риме, и если все пойдет нормально, и я думаю, что его было бы хорошо попробовать устроить к вам [на ВВС], — хотя бы из соображений чистого воздуха. Посему, не отпишешь ли мне, какова процедура и ее стадии — с тем, чтоб я его мог вовремя информировать и избавить от всяких там накладок и траты времени. Сие есть первое. Второе — насчет того же самого, но кадров, уже пребывающих тут. М. говорила про какие-то там аппликации, т.е. анкеты и запись голоса и проч. Можно ли все эти дела переслать сюда или следует рыть землю на месте — и тогда квэсчен: где? Бродский, 309 Уэсли стрит, Энн Арбор, Мичиган, 48104, USA».
Еще один вечер в Риме вспоминается. Мы далеко за полночь пьем кофе, разбавляя его виски в баре у Термини. Иосиф расстегивает рубашку и показывает довольно свежий шрам от операции на открытом сердце. Я думаю, что это возле первой операции было. Я ему тогда сказал: «Тянет на Нобеля». Это тогда он мне подарил свитер.
Рим для Бродского был просто кайфом, особенно после питерской погоды. Когда я попал в Рим, то поверил в переселение душ и понял, кем я был в прошлой жизни — я был ягненком, пасся на холмах в XVIII веке, меня зарезали и подали на обед какому-то кардиналу. Поскольку я провел невинную жизнь, то возродился в следующий раз уже в более высокой инкарнации — в человеческой. Я понял, что я здесь был. Но, будучи человеком, я столько нагрешил, что, наверное, в следующей жизни я буду тараканом.
Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом
— Вы такое не говорили Иосифу? Вы об этом в итальянских забегаловках обсуждали?
— Этого я не помню. Кстати, я помню, что мы заказывали из итальянской кухни — это была фасоль. Мы оба ее любили. Бродский не говорил по-итальянски и не хотел быть похожим на итальянца.
— Не чурался ли бывших соотечественников при встречах с ними в Италии?
— Нет.
— Посещали ли вы вместе музеи в Риме?
— Нет, но мы ходили на вершину Авентина, где есть закрытый сад, в воротах которого зияет дыра, поглядев в которую, человек видит аллею деревьев, в конце которой, как на картинке, виднеется купол Святого Петра. Сан Пьетро — это известная достопримечательность.
— Иосиф был фланером?
— Да, как и я, с нотами поведения типичного туриста. Мы кайфовали.
— Комментировал увиденные красоты?
— Мы торчали от всего.
— Как вы относитесь к его Римским стихам?
— «Виа Джулия» — ничего. «Пьяцца Маттеи» — местами гениальные, но испорченные похабенью. «Я ставил Микелину раком» — так нельзя делать.
Подборка стихов, которую он мне подарил при встрече в 1975 году, состояла из десяти стихотворений. Первое стихотворение было «Торс»:
Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг…
А «Вертумн», посвященное Джанни Буттафава, я так и не прочел — это длинное и занудное стихотворение. У Бродского много воды в стихах.
— Знакомил ли Бродский вас с его римскими друзьями?
— С Сильваной я был знаком и без него, а вот с Буттафавой я познакомился с его подачи.
— Известно ли вам о том, что он делал в свободное время?
— Кого он трахал? Понятия не имею…
Мы подбираемся к концу 1975 года, когда он появился в Риме опять. Иосиф привел меня к двум своим бывшим студентам-американцам Арнольду и Джоан. Мы пришли к ним на квартиру, целый вечер сидели, галдели. Им было просто приятно, что появился еще один человек, который прилично говорил по-английски. Квартира была в районе Виа Кондотте.
— Вы упомянули, что вместе с Иосифом видели Папу Римского.
— Папульку видели, я не помню, кто тогда был. Он вещал с балкончика. Иосиф его называл «папулькой».
Однажды в Риме, в начале 1980-х, мы виделись по крайней мере два раза: первый — когда он мне шрам показывал, а второй — в июне 1981-го, когда его пригласила Американская академия читать стихи. Я был на этом мероприятии. Я приехал тогда в Рим к Славику и Лоре Паперно. Я случайно узнал, что Иосиф выступает в Американской академии, и мы рванули туда. Он тогда любовно на нас посмотрел, мы потрепались и разбежались. Были встречи и после Рима.
— Был ли Бродский щедрым?
— Он был щедрым со всеми. Мне Найман рассказывал, как они встретились в Венеции, и он его повел в самый шикарный бар в мире. И тут какие-то итальянские знакомые появились, которых он тоже стал угощать шампанским. Безумные какие-то поступки.
— Он как-то менялся за эти годы?
— Последний раз я его видел в 1991 году. Нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями, но мы знакомы с 1960 года. У нас были общие хобби — русская поэзия, американский джаз, Польша. Нам нравились два фильма Вайды — «Канал» и «Пепел и алмаз». В Риме он мне говорил, что из стран, изначально принадлежащих белому человеку, самая замечательная — это Ирландия. Он там бывал, рассказывал, какие там люди живут замечательные. Ему очень нравился Дублин. Это у меня есть в письме Людмиле Штерн. Есть избранные страны, на которых он кайф ловил — Мексика, Ирландия, Италия, Польша, Венеция отдельно. Про Польшу у него нет стихов, но мы говорили о ней. Мы шутили, что это самый веселый барак в соцлагере. Он по-польски мог читать, он перевел Галчинского, Тувима переводил.
Как-то мы навещали в Риме поэтессу по имени Эва Брудне, которая жила у Люси Торн. Она нас угостила обедом, и Иосифу пришлось послушать ее стишки в виде платы за обед. Она была счастлива. Она была в Риме в 1975 году проездом, сейчас она живет в Австралии.
Я обожаю его стихотворение «Представление». Оно существовало в нескольких вариантах. Тот вариант, который я получил, был сокращенным, а полный уже опубликовали в «Континенте». Мои любимые его стихи — это «Колыбельная Трескового мыса». Это самые американские его стихи.
— В Йельском архиве отложилась сделанная вами в Риме фотография Бродского рядом с благородно одетой пожилой дамой. Они стоят у статуи волчицы, кормящей Рема и Ромула. С вашей помощью мне удалось идентифицировать женщину — Раису Берг.
— На снимке таки да, Раиса Львовна Берг, она довольно долго проторчала в Риме по пути в Америку, это 1975 год. Она была выдающийся биолог и покровительница диссидентов и богемы. См. ее книгу «Суховей». С Иосифом они были знакомы с начала шестидесятых годов, он у нее на квартире читывал стишки. Про Р.Л. можно узнать в Википедии и в массе других источников. Люда Штерн, по-моему, тоже была с ней знакома, ее семья обреталась в том же 1975-м году в Риме.
Как-то мы с Раисой Львовной Берг и Иосифом пошли пить пиво к фонтану Треви в знаменитое кафе. Там было зеркало за баром во всю стену, и я увидел в него, как Бродский смотрит на нас с Раисой Львовной с нежностью. Странно, что у нас с Бродским нет ни одного совместного снимка [в Италии].
Е. Славинский и Р. Л. Берг на площади Кампидолио у памятника Марку Аврелию. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом
Раиса Львовна потом работала в Мэдисоне, позже перебралась в какой-то биологический институт в Париже. Она знаменитый генетик. У нее в Советском Союзе был всегда открытый для нас дом, хотя она ютилась в двух комнатах коммунальной квартиры. Жила она с двумя дочками — Лизой и Машей. Раиса Львовна — дочка академика Берга. Во Франции живут дочь и бывший ученик и сотрудник Раисы Львовны.
— Осенью 1962 года Бродский жил на даче академика Берга в Комарово вместе с художником Яшей Виньковецким.
— Одна из самых замечательных страниц моей римской жизни связана с Яшей Виньковецким. С ним было потрясающе ходить по Риму, потому что он ходячая энциклопедия. Мы с ним и его женой Диной были в 1962 году в экспедиции в центральном Казахстане. Яша был знаком с Иосифом по Ленинграду. Отрывок в письме Мейлаху 1979 года про Яшу: «…В Риме было уютно, и шел плотный поток друзей, знакомых и полузнакомых. Например, Яша Виньковецкий так обалдел от Италии, что правдами и неправдами растянул римские каникулы на полгода. С ним замечательно было ходить по Риму, он так и сыпал датами и фактами, вроде: «На этом мосту в таком году Бенвенуто Челлини во главе отряда папских гвардейцев отражал натиск парашютистов десантной дивизии под командованием виконта Монморанси»… Яша был светлый человек. Его сестра продвигает идею, что его смерть все же была не самоубийством.
В Рим я возвращался каждый год до 1984 года. Язык я выучил после первых трех недель пребывания там в 1975 году и реально помогал всем друзьям и знакомым в качестве переводчика. Последний раз в Италии я был в 1984 году. Я хотел остаться в Италии на самом деле, но там всегда было трудно легализоваться.
Бродский в Лондоне
— Бродский часто навещал Англию. Ваши встречи продолжились и там — после того, как вы покинули Рим?
— Впервые в Лондоне мы увиделись в 1977-м, кажется. Он мне позвонил на работу и привел в Буш-хаус (это тот дом, где было радио ВВС). Мы виделись в Лондоне в 1977, 1978, 1989, 1991 годах.
— Целая глава в вашей жизни связана со службой вещания в ВВС.
— Там были свои плюсы и минусы. В 1982 году я прочел на радио целую серию «Современная русская поэзия в западных публикациях» в 35 частях по 10 минут.
У Бродского есть длинные стихи «Представление», и я их решил нарезать кусками для эфира. Но потом передумал вовсе.
— В Лондоне у него были свои коронные маршруты?
— В этом городе он открыл мне одну «тавалу кальду» возле Блумсбери Сквер, мы там обедали несколько раз. У Машки Слоним были несколько раз тогда. Однажды я его встретил прямо на улице: выхожу из станции метро «Эмбанкмент» и иду по Виллер-стрит, где когда-то жил Киплинг и всегда пахнет жареной рыбой, а навстречу Иосиф. Зимний ранний вечер. И мы полчаса провели в сплетнях. Это был 1977 год, я помню, потому что в том году умер Элвис Пресли. Эту встречу я описываю в письме Найману. В тот момент я был в постоянном контакте с Найманом, он был моим гуру в течение тридцати лет. А у Наймана в это время был период неофитства: он крестился под влиянием Стася Красовицкого. У каждого свои причины на это, я сам чуть не крестился однажды.
Вам еще предстоит ознакомиться со стихами Стася. Бродский его высоко ценил и однажды в беседе со мной во второй половине 1960-х заметил: «Да, Стась нам всем подрЕзал яйца». Понять его гениальность можно только войдя в контекст 1960-х годов. У Бродского замечательные стихи, но ранние стихи его мне не нравятся — там столько воды!
— Где в Лондоне жили вы сами и у кого обычно останавливался Бродский?
— В начале 1980-х мы с ним виделись раза три. Я, уже работая на ВВС, приезжал в Рим несколько раз.
В Лондоне я снимал чердак у Натальи Семеновны Франк [дочери профессора, философа С. Л. Франка. — Прим. Ю.Л.]. Этот дом она купила в начале 1950-х и забрала отца и мать к себе из Парижа. Бродский был у них в гостях как-то. Ему там было невыразимо скучно, и Наталья Семеновна мне о нем говорила как о страшном хаме, потому что он пробыл в гостях недолго и ушел без извинений. Это его характерная черта.
В Лондоне он общался с Лялей, он у нее почти всегда останавливался. У него есть стихотворение, посвященное ее мужу-переводчику Алану Майерсу. Он перевел «Стихи о зимней кампании 1980 года».
Бродский прилично знал Лондон. В 1980-х мы там виделись раз пять. Иногда он останавливался у Марии Слоним. Там было всегда довольно не прибрано, и Бродский однажды оттуда сбежал, оставив записку: «Too much of srach». У нее там всегда месяцами жили какие-то люди — как минимум, там жили две собаки. Бродский не был фанатиком чистоты, но он был довольно аккуратен.
— Вы приглашали его на передачи на ВВС?
— Я взял у него однажды коротенькое интервью. Игорь Померанцев сделал с ним основательное интервью. Я записывал его чтение стихов. Леша Хвостенко его отдельно записал на хорошую аппаратуру, и все это есть в сети.
Конец октября 1987-го, когда он получил премию, я сижу на ВВС, и вдруг входит одна английская коллега и говорит: «Вот, Фима, ты был прав, когда говорил, что вот эту пленку с Бродским нужно приберечь, потому что он того и гляди получит Нобелевскую премию». В этот же день он пришел на ВВС, и Машка [Слоним] заперлась с ним в студии и взяла длинное интервью. Потом он исчез, а когда появился в октябре в 1987-го перед тем, как уехать в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, то собрал всех своих лондонских друзей. Он пришел с каким-то английским поэтом, и Фейт Вигзелл, кроме того, у Ляли Майерс были Маша и ее сестра Вера, и кто-то еще.
Письмо Славинского Бродскому по делам русской службы BBC. 1 июля 1976Фото: предоставлено Юрием Левингом
Последний раз я его видел в Лондоне летом 1991 года по какой-то договоренности. Возможно, Найман мне позвонил, потому что у него должна была выйти книга стихов в издательстве Игоря Ефимова [«Эрмитаж»], а Бродский должен был написать к ней предисловие. Найман попросил меня найти Бродского в Лондоне, взять у него этот текст и выслать ему, потому что Иосиф был занят или болен. Я приехал к Ляльке, где он остановился, он вышел меня встречать. А там были двойные входные двери — одна в тамбур, где было две квартиры, а вторая, собственно, в квартиру. Так вот, вторая дверь захлопнулась, мы постучали к соседям снизу и попросили стремянку. Они ему ее дали, мы вышли в сад, сперва я пытался залезть, но он был выше и, в отличие от меня, смог влезть в открытое окно. Я испугался за его сердце, но все обошлось. Он открыл мне дверь, мы сели на кухне и выпили виски.
— Он был бесстрашный?
— Абсолютно. Дикий человек. Он был рабочим в морге и имел дело с трупами в молодости. Я бы не сказал, что он отчаянно храбрый, но тут он проявил смекалку… В 1991 году мы с Бродским посидели, выпили виски. Он дал мне этот экземпляр предисловия с поправками, который я потом выслал. Мы сидели полчаса всего.
Об «ахматовских сиротах»
Евгений Рейн
Конечно, главное влияние на Бродского оказал Рейн, какое-то влияние оказал на него Бобышев. Где-то я встретил высказывание, что «Рейн ему напел всю русскую поэзию». Это довольно точно, потому что Рейн не говорил о поэзии абстрактно, он всегда приводил конкретный пример. Я как-то сказал, что Есенина нельзя воспринимать всерьез, и он тут же процитировал мне гениальную строфу у Есенина.
Рейн писал: «Лучший маршрут — напрямик, напролом». Кто это у кого украл, я не знаю [строка из стихотворения Роберта Фроста «A Servant to Servants» (1914), ср. в оригинале: «The best way out is always through». — Прим. Ю.Л.]. Это из «Vita nova», мои любимые стихи у Рейна [написано в 1970 г. — Прим. Ю.Л.]. Сейчас он исписался совершенно. Процитирую самого себя: «Начались волнения студентов из-за того, что с каких-то пор семинары для студентов стала вести Надька. Она честно привозит на занятия Женю, сажает его в аудитории и вещает сама. Мне не смогли объяснить, в каком он сейчас состоянии, но сама ситуация достаточно наглядна. На что я ей ответил, что это полный сюр, что Надька вытворяет с Рейном. А все от обоюдной жадности. Но она, заметь, серьезно рискует — его может хватить кондрашка прямо по ходу семинара. Героическая кончина, как поэту и положено». Я прислал эту историю Бобышеву, и он мне ответил: «Ну, так на пельмени, видимо, не хватает, как всегда. А вот тебе питерский курьез — Нева замерзла. Такого не случалось с 1970-х годов, когда тот же Рейн провалился напротив Петропавловки по пояс и примчался ко мне сушиться. В процессе сушки выпил мою водку. Галя [Рубинштейн] свидетельница».
Дмитрий Бобышев
Когда Бродского посадили, Дима проявил себя самым лучшим образом. Он написал письмо в Союз писателей, где доказал, что те стихи, которые приписываются Бродскому, не его стихи на самом деле.
Что мне не понравилось, так это то, что, когда Бродский сел, все ему сочувствовали, навещали, я ему послал книги, но Диме объявили неофициальный бойкот. Все бойкотировали, кроме Наймана и меня. Мы с Бобышевым жили недалеко друг от друга, он тогда наконец получил собственную комнату на Петроградской.
— То есть Бродский нормально отнесся к тому, что вы продолжили общение?
— Да, конечно. Мы, когда встретились в Риме в первый раз и я ему рассказал, что Дима осуждает Бродского в стихах — «Кто рвал платочек в истерике среди доцентских дочек?», Бродский ответил: «Митяй все еще переживает за ту историю?» На этом обсуждение и закончилось. У нас были другие темы для разговора — стихи, джаз, Америка. Бродский говорил как-то, что в те годы мы были больше американцы, чем самые американцы. В своем эссе «Трофейное» он развивает эту тему.
— Вам нравится то, что сейчас пишет Бобышев?
— Стихи оставляют равнодушным, а с его прозой у меня сложные отношения, потому что он там привирает много. Он приписывает людям высказывания и приводит прямую речь, которую он физически не мог запомнить. Найман, когда писал свои воспоминания об Ахматовой, писал очень осторожно, избегая прямой речи, в которой он не уверен. У меня с Бобышевым по этому поводу были трения.
Есть небольшой пример. Мы с ним вместе в 1982 году оказались в Милане на конференции «Дель Диссенцио» — сборище русских диссидентов, организованное Владимиром Максимовым. Там были все — от генерала Григоренко до Наташи Горбаневской. Был пиковый момент Холодной войны, роскошный отель, огромная компания. Бобышев был приглашен, а я сам пришел. Они все прилетели одним рейсом из США, и я подумал, что если бы самолет рухнул… Я тогда же познакомился с Парамоновым и Алешковским. Я поставил им пиво с условием, чтобы Алешковский подарил мне доллар с автографом. Бобышев благодаря мне повидал Венецию и Рим. Вот мы на этой конференции, и Бобышев знакомится с Юрием Гальпериным и Михаилом Генделевым. Мы с Бобышевым собирались уже идти на поезд и ехать в Венецию, но он говорит, что Гальперин предлагает нам вчетвером ехать на его машине, если мы скинемся на бензин. У меня были сомнения на этот счет, потому что я знаю, что им в Венеции негде ночевать и их мы не можем привести к моим итальянским друзьям. Так вот, в итоге они ночевали в машине. А у Бобышева в воспоминаниях описано это так, что, мол, мой друг Славинский говорит, что он только что договорился с Генеделевым и Гальпериным и т.д. Вот так по мелочам присочиняет.
На этой конференции Бродского не было. Это было заметно — так же, как и отсутствие Синявского.
— А что в кулуарах говорили о Бродском?
— Кто-то его любил, а кто-то нет. История вражды Бродского и Бобышева хорошо документирована. Меня она никогда не интересовала, и никого бы не интересовала, если бы Бобышев ее не раздувал.
Я писал кому-то про Бобышева: «По линии гражданской чести он проявился безупречно сразу после фельетона в Ленправде, в котором приводились три цитаты из его стихов, выдаваемые за стихи ИБ. Очень неряшливая стряпня Лернера и гэбухи. Бобышев направил в Ленотделение Союза писателей суровое письмо протеста. Впрочем, перечитай лучше ту часть его мемуаров, которая в 11 номере октября за 2000 год. Если бы не арест, суд и ссылка, все бы устаканилось. Вся эта история с Басмановой не превратилась бы в роман века. Не могу я всерьез отнестись к этому конфликту взбесившихся самцов. Подумаешь, бабу не поделили. В этих делах выбирают женщины, не правда ли? Кстати, Ахматова, до которой успели дойти пересуды, высказывала недоумение, почему это все говорят Дима, Ося, Ося, Дима, а где же Марина? Что она себе думает? А она ничего не думала. От нее не осталось ни единого слова и один посредственный снимок в сети».
Ахматова к этому треугольнику века относилась скептически.
Дима подвел Бродского… Чушь все это! А как себя вел Бродский? Резал театрально вены и ходил по всем домам жаловаться на судьбу в засаленных бинтах.
На обломке капители римской колонны. Фото И. Бродского. Январь 1975Предоставлено Юрием Левингом
Анатолий Найман
У Иосифа были периоды [дружбы с разными людьми]. Например, был период до ареста в году в 1962, когда у них с Найманом была просто любовь: они встречались каждый день, при этом оставались на «вы».
Найман невероятно на меня повлиял. Мы познакомились в 1958-м, а в 1974-м я уехал (меня удерживало то, что я был полтора года отказником по еврейскому вызову). Он меня разочаровал, но это никак не повлияло на мое отношение к его прозе. Самую лучшую книгу он написал о Берлине, это роман «Сэр». Тридцать лет он был моим третьим по счету гуру, вторым был Фима Барбан. Он был моим гуру с 1954-го по 1956-й. Гуру — это не друг, а наставник, тот, кто вне критики. Фима живет в Лондоне, в трех остановках метро от меня, он работал на ВВС.
Америка Бродского
Я был один раз в Америке в 1979 году с Анной Дони. Мы пошли тогда к Бродскому в гости на Мортон-стрит, и он повел нас в сычуаньский ресторан. Потом он посадил нас в свой «Форд Матадор» и повез на Бруклин Хайтс, откуда хорошо видно Нью-Йорк.
— Он любил Нью-Йорк?
— Да, он кое-что понимал в Америке. По давности знакомства мы были друзьями, по регулярности — знакомыми. Мы виделись редко, но всякий раз интенсивно. Лифшиц (Лев Лосев), наверное, был его другом.
В мою последнюю встречу с Бродским, я его спросил, кого бы он посоветовал из молодых поэтов. Но он перевел разговор. Я только по слухам знаю, что он ценил Гандельсмана, но таких поэтов десятки. Мне нравятся стихи Марии Ватутиной. Это явное подражание одному стихотворению Бродского, но сами стихи классные: «С чужими не разговаривай, жизнь у тебя одна…».
— Но в Америку в итоге вы жить так и не переехали?
— Меня не пускали в США, потому что у меня была судимость по наркотической статье в России, и я не стал об этом врать в анкетах. У меня были безумные идеи: я собирался приплыть туда нелегально в качестве кочегара в порт Гальвестон в Техасе. Меня отговаривали от этой глупости. В письме от 1 августа 1975 года Бродский писал мне, что «нанят адвокат, который роет землю во всех возможных направлениях», и добавлял: «На той неделе увижусь с сенатором Бакли, постараюсь на него нажать. Насчет башлей — заткнись раз и навсегда. Я думаю, что удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Второе — где-то там в ваших краях обитает Нэнси Шилли. Ее можно найти через Ирину Керк и сказать при этом такие слова: „пускай приезжает в Энн Арбор, а башли мы найдем“. Стишки для тебя новые и старые подошлю, как только руки дойдут. Дай Марамзину телефон Джанни Буттафавы и введи его в контакт с Сильваной [де Видович], которой — поцелуй».
Славинский у себя дома в Лондоне. 2018 Фото Ю. Левинга
— Кто такая Нэнси Шилли?
— Это моя коллега. Я работал в ХИАСе — это еврейская контора, помогающая перебираться в США. Нэнси прекрасно говорила по-русски. В письме от 27 февраля 1975 года Бродский предупреждал меня не рыпаться пока в Госдепартаменте хлопочут насчет моих дел. Если ты совершил одну ошибку, то это не значит, что надо совершить другую, говорил Бродский. Планировалось, что сначала я приеду в Канаду. «И ради Бога, не переходи границу пешком. Ее надо переезжать на автомобиле», пытался вразумить меня Иосиф и добавлял, что в марте в Италию «поедут две Мичиганские чувихи. Одна из них — Нэнси Бэверэдж — совершенная прелесть, и я дал ей твой адрес, если ты еще будешь там. Их водить по Риму тебе будет приятнее, чем пожилых израильтянок или даже Раису Львовну. Кроме того, Максимов обещал подкинуть тебе работенку. Пошлю тебе завтра башли. И не откладывай их для братана, так как не известно, когда он ими сможет воспользоваться».
Как я писал в свое время Мейлаху, в Англии я нашел работу и втайне радовался, что буду жить в Европе, и после восьми недель в Штатах понял, что правильно вышло: «Ю Эс Эй для молодого, полного сил человека. А чтобы в Манхэттене жить, так надо быть титаном духовно и физически. Потом, в гражданском смысле я европеец».
— Между прочим, живя в одном европейском городе с Валентиной Полухиной, вы почему-то так и не дали ей интервью.
— Никогда, хотя я ее давно знаю по Лондону. Как-то не приходило в голову. Однажды мы с Найманом поехали к ней в гости, когда она еще преподавала в университете на севере Англии. Она замечательно принимает, угощает, и вот мы все время говорим про Бродского да про Бродского, а Наймана это корежит. И вдруг она спрашивает нас: «Когда вы впервые поняли, что перед вами гений?» Я расхохотался, а Найман говорит: «Вблизи невозможно понять, гений перед тобой или нет». Он прав абсолютно. Тут аберрация близости. Скажем, ясно, что Данте — гений, но это ясно сейчас, через пятьсот лет. Или Пушкин — он гений, а насчет Блока я уже не уверен. Гений — это нечто потустороннее, не от мира сего. Я видел гениев, дважды у меня было ощущение гениальности человека. Это был Стас Красовицкий — когда я впервые прочел его стихи в Ленинграде примерно в 1960 году, то понял, что он гений, да и все почувствовали этот сквознячок потустороннего. И второй раз — это была Лена Шварц. Ей было пятнадцать лет, когда я с ней познакомился. А Бродский? Ну, какой же он гений, мы с ним пиво выпивали на днях.
— Похожий эффект описывала Татьяна Яковлева, жена Алекса Либермана, когда утверждала, что встречала в жизни двух гениев — Маяковского и Бродского.
— Ну Маяковский разве гений? Он, пожалуй, в третьем ряду.
— Что-то ваш «гамбургский коврик» слишком узок. И где же располагается по прошествии лет Бродский?
— Бродский — в первом ряду.
Послесловие Юрия Левинга
Со Славинским мы познакомились, когда я собирал материалы для книги «Иосиф Бродский в Риме» (готовится к печати петербургским издательством Perlov Design Center), поэтому мы довольно подробно говорили именно о римском периоде Бродского. Сначала я звонил Ефиму по телефону, потом навестил его в Лондоне. Переписываться ему было трудно, но и письменный, и устный стиль изложения «главного битника» Ленинграда шестидесятых годов прошлого века был неизменно узнаваемым («Я только что вернулся из больницы, накачанный стероидами, от которых дрожат руки и физически тяжело печатать, а то бы я вам написал все, что помню о встречах с И.Б. в Риме. Если вам интересно, позвонИте мне на халяву, если получится, или reverse charge’м, в любой из ближайших дней, когда вам удобно, но не позднее 11 вечера по лондонскому времени»). Во время нашей лондонской встречи Славинский говорил сначала с сильной одышкой, потом разошелся, и под конец никак не хотел меня отпускать. Метро, к сожалению, закрывалось, и нужно было возвращаться в центр. На пороге, прощаясь, хозяин вручил мне книгу о Бродском Дэвида Бетеи с памятной надписью — по дате сейчас вижу, что это было 12 апреля 2018 года — а также папочку с ксероксами писем к нему Бродского, копиями нескольких автографов стихотворений и оригинальными фотографиями из Рима. Еще вдруг неожиданно выяснилось, что в годы далекой киевской юности Фима был одноклассником Омри Ронена, его «первого гуру». Уже в преклонном возрасте они наладили переписку, и о Славинском есть косвенные упоминания в «Из города Энн». Мы собирались посвятить отдельный диалог памяти выдающегося филолога, письма которого он мне также переслал, а я ему — свой текст о Ронене из подборки In Memoriam в Toronto Slavic Quarterly, вызвавший у него эмоциональную реакцию: «За некролог большущее спасибо! Нет, правда! Это первый класс! Как это я проморгал!? Зато теперь подписываюсь под ним обеими руками». Мне жаль, что публикуемая здесь беседа ретроспективно оказывается своеобразным автонекрологом самого Фимы. Благодаря цепкой памяти Славинского и практической помощи их общей с Бродским итальянской подруги Сильваны де Видович, неоднократно упоминаемой в интервью, позже удалось обнаружить тот самый автограф Бродского, оставленный им в книге посетителей знаменитого римского Кафе Греко, где за полтора десятилетия до него расписалась Анна Ахматова.
«Бродский. Стихи. Любовь» – новая глава театрально-поэтического проекта
Перформанс «Бродский. Стихи. Любовь», сыгранный в стенах арт-кафе «Море внутри», – одно из проявлений популярности, которую русско-американский поэт обрел в последнее время среди молодежи. Сегодня рок-музыканты превращают стихи Иосифа Бродского в тексты песен («Конец прекрасной эпохи» группы «Сплин»), а паблики в социальных сетях разобрали строчки поэта для статусов и демотиваторов.
Подобная популярность чаще всего не становится причиной должного интереса к творчеству автора. Но театральный проект «Бродский. Стихи», существующий уже около двух лет, стал счастливым исключением. Актеры московских театров «Практика», «Мастерская Петра Фоменко», Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой совместно с фондом создания музея Иосифа Бродского и музыкальным издательством Kota Records сталкивают публику с самыми разными творениями поэта.
В одном из последних перформансов каждый из чтецов (Ксения Орлова, Наташа Горбас, Елена Махова, Валерий Караваев, Артем Цуканов, Павел Михайлов) играл роль «своего» Бродского. Вся палитра любовных чувств пролилась в этот вечер на публику. Одиночество – «Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе». Боль – «Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существованье…» Сарказм – «Мари, шотландцы все-таки скоты». Предчувствие смерти – «Смерть придет, у нее будут твои глаза». Присутствовал и намек на драматургию – от легкого юмора через кульминацию, где любовные страдания полупропевались, – к дуэту, скандирующему в унисон заклинание о смерти.
Музыка вживлялась между строк, звучала фоном. Глеб Глонти и Михаил Мясоедов использовали возможности электроники, гитары, клавиш и колокольчика, переходя от вечернего стрекотания цикад и мяуканья кота в пустой квартире к минимализму и элементам рока. Музыка отражала ту самую эмоциональную растерзанность, которая долгие годы мучила Иосифа Бродского и выливалась на бумаге. Она же осталась внутри после спектакля.
Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках: Книги: Культура: Lenta.ru
Глин Максвелл — выпускник Оксфордского и Бостонского университетов, поэт, прозаик, драматург, младший товарищ, английский ученик и переводчик Иосифа Бродского — приехал в Москву, а потом отбыл в «Ясную Поляну» на семинар «Британская литература сегодня», организованный отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве. С Глином Максвеллом встретилась обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.
Я буду не оригинальна: давайте поговорим о Бродском.
(Смеется) Давайте!
Как пересеклись ваши пути?
Если говорить о нашей первой встрече, то я учился у Дерека Уолкотта в Бостонском университете, и в конце 1987 года он познакомил меня с Иосифом Бродским. Я немного знал его поэзию и читал эссе из сборника «Меньше единицы», потому что это было учебное задание, которое нам дал Дерек.
Мне невероятно повезло, потому что Дерек жил в Бостоне, Иосиф в Массачусетсе, а Шеймас Хини — в Гарварде, тоже в Бостоне. Я их часто видел втроем, причем не только в Бостоне, но и в Лондоне, в Нью-Йорке. Они все время шутили какие-то сальности, и шутки Дерека и Иосифа были самыми ужасными. Они выглядели как банда. И я — настоящий счастливчик, потому что первые поэты, с которыми я лично познакомился, были эти трое — Шеймас, Иосиф и Дерек. (Все трое позднее стали лауреатами Нобелевской премии по литературе — прим. «Ленты.ру».)
Я точно не помню, в каком городе Дерек представил меня Иосифу, но помню, что он сказал: «У меня есть студент, очень многообещающий», — подразумевая меня. И потом Иосиф подошел ко мне. Я не знал, читал ли он что-то из моих текстов. Он сказал: «Я точно знаю, что мне не нравится в английской поэзии, — и начал перечислять имена поэтов, которые ему не нравятся. — Но ты мне нравишься». И я был потрясен и польщен.
Иосиф Бродский на вручении Нобелевской премии
Фото: Borje Thuresson / AP
Многие литературоведы, да и читатели придерживаются мнения, что английские стихи Иосифа Бродского существенно уступают его русскоязычным текстам, что он не стал таким же выдающимся английским поэтом, как русским. Каково ваше мнение?
Сложный вопрос, непросто на него ответить. Я сейчас не буду перечислять названия, но помню, что есть русские стихи, которые были переведены на английский без его участия; есть стихи, которые он написал на русском и сам же перевел их на английский; и есть корпус текстов, изначально написанных на английском языке. И мне кажется, что эти последние уступают предыдущим. Им, может быть, не хватает какой-то химии.
Бродский очень хотел писать по-английски, он хотел звучать как Оден — это была его мечта. Он много усилий на это потратил, работал с переводчиками, которые помогали ему. К сожалению, быть как Оден не вышло. Не знаю, почему. Я немного стесняюсь это произносить, но поздние вещи Бродского я не люблю так, как ранние. Мне кажется, что в поздних текстах Иосифа стихает музыка.
Если говорить о моих переводах, то я работал с текстами Иосифа советского периода. И мне кажется, в этих стихах есть безудержность молодого поэта, как будто он во весь голос поет песню, и она сразу ложится на память. И размах мышления Иосифа беспрецедентен. Нет в современной поэзии никого, кто был бы этому масштабу равен. В поздней поэзии на английском языке появилась рассудочность, и она как будто заменила музыку.
Я правильно понимаю, что вы переводили стихи с подстрочника — вы не читаете по-русски?
Во время работы над переводом я держал перед собой распечатанный оригинал: мне было важно видеть форму стихотворения, его рифмы. Также я пользовался подстрочником, составленным несколькими литературоведами, — там было указано, что означает каждое слово. Еще я пользовался версиями переводов на английский язык, если они были. Когда я работал с ранними стихами Бродского, то читал уже существующие американские переводы, сделанные верлибром. Я понимал, что это неудачная форма для перевода стихов Иосифа, — для его текстов характерна музыка, песня, рисунок стиха. Мне казалось важным это сохранить. При работе я обращался и к знакомым Иосифа, к людям, которые близко его знали. Еще я консультировался с теми, кто знал Петербург той эпохи, фон его биографии и мог рассказать мне то, чего не знал я. И самое важное: в моей голове звучал голос Иосифа.
Помню, что когда я только познакомился с Бродским, в манере стеснительного молодого поэта я сказал ему: «Мистер Бродский, кажется, вы очень любите Одена». Он ответил: «Нет, я и есть он». И я знал, как много для него значит эта фраза.
К вопросу о голосе в голове: после работы над переводами стихов Бродского вам, как оригинальному поэту, не было сложно избавиться от его влияния?
Надо помнить, что для меня был важен не только голос Иосифа Бродского, но и голос Дерека Уолкотта, моего непосредственного педагога. Иосиф никогда не был моим университетским преподавателем. Встречи с ним всегда проходили в неформальной обстановке распития алкогольных напитков. Всегда было много водки и пива, поэтому воспоминания об этих встречах у меня остались не очень ясные. Они вели себя как альфа-самцы. Иногда это даже раздражало, но такова была мужская культура того времени. В то время как в поэтической жизни Иосифа царила абсолютная серьезность.
Если говорить про мой собственный поэтический голос, то, возможно, на него даже большее влияние оказали те люди, которых мне Дерек и Иосиф советовали прочитать: Оден, Фрост, Эдвард Томас. Их голоса гораздо более навязчиво звучали в моей голове. С другой стороны, и Дерек, и Иосиф говорили, что чужое мощное влияние — это прекрасно. Важно уметь полностью отдаться звуку чужого голоса и научиться всему, чему можно, у другого поэта.
Сейчас в ходу другая позиция: многие поэты нервничают из-за этого, боятся звучать вторично. А мои учителя, наоборот, считали, что влияние — это здорово, важно взять то, что нужно, и идти дальше. Именно так поступил Иосиф: он взял все, что нужно, у Одена. И я многому научился у Одена. Вообще, Иосиф и Дерек были первоклассными учителями, они владели тем, что мне было важно узнать в том возрасте.
Дерек Уолкотт
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Вы наверняка это знаете: в русской литературе манера Бродского породила массу подражателей, но никто из них не стал великим поэтом.
(Хитро прищуривается и хохочет) Это очень интересный феномен! Вообще, каждый поэт — это уникальное сочетание разных влияний. Когда я думаю про влияния, я представляю себе огромное дерево, в прохладной тени которого могут побыть начинающие поэты. Но очень важно иметь возможность выйти из нее. То, что вы сказали о последователях Бродского, — в Америке сложилась очень похожая ситуация с последователями поэта Джона Эшбери. Возможно, это связано с тем, что перенять напрямую поэтический язык великого человека нельзя.
Для меня таким большим деревом был Оден. Меня к нему подвели Дерек и Иосиф. Я тоже пережил период графомании и научился звучать как Оден, но я не могу быть Оденом. Его характеризовал не только голос, но и уверенное знание философии, психологии. Я научился звучать как он, но если бы я продолжил в том же духе, мои стихи превратились бы в пустышку. Я пошел дальше, проделал все то же самое с Робертом Фростом. У Одена я научился технике стихосложения, а у Фроста — особому тону голоса, чтобы стихотворение звучало как повседневный разговор. Кстати, это то, что Иосиф высоко ценил у Фроста.
Мне кажется, чтобы стать поэтом, необходимо химическое соединение скромности и самонадеянности. Мне повезло. По природе мне присуща скромность. Когда я знакомился с Иосифом, Дереком, Шеймасом, я видел, что они — большие деревья. Но мне потребовалась определенная самонадеянность, чтобы выйти из их тени и вырасти в отдельное дерево.
Хитрый прищур Глина Максвелла выглядит так
Фото: @glynofwelwyn
Обычное дело для ученика — вырасти, отдалиться, а то и низвергнуть наставника. Вы помните тот момент, когда это произошло с вами?
(Еще один хитрый прищур и смех) Дерек говорил почти то же, что и вы — слово в слово. И хотя у нас были безупречные отношения, со временем стало складываться ощущение, будто он ждал этого разрыва. Разрыв и правда произошел, но не так драматично, как можно было бы ожидать: я просто потерял контакт с ним и с Иосифом. Не знаю, почему и как это произошло. Возможно, они были слишком слепящими яркими огнями, а мне нужно было отойти в сторону, чтобы найти свой голос.
Когда Иосиф умер, и я узнал об этом, к тому моменту я уже пару лет с ним не общался. То же произошло и с нашими отношениями с Дереком, хотя я постоянно думал: надо бы ему позвонить. Но не поднимал трубку. В последние семь лет жизни Дерек критически относился к моим новым стихам, но я понимал, что даже если я с ним не согласен, его комментарии помогали мне переосмыслить собственный текст.
Вообще, отношения учитель — ученик, если они тесные, выстроенные, такими остаются практически на всю жизнь. Для Дерека даже в конце его жизни я по-прежнему был молодым поэтом 24-х лет. Так что в определенном смысле я против него восстал. Я понял, что я не такой поэт, как Дерек, как Иосиф. Но быть как Иосиф вообще невозможно. С ним, кстати, я прошел тот же путь, что и с Оденом: я научился звучать как Иосиф, а потом понял, что без его наполнения это просто пустая оболочка.
А проза и сценарии как в вашей жизни появились? В России за романы, а уж тем более сценарии просто больше платят.
Я не ушел от поэзии — я замедлился. Когда ты молод, поэтические сборники выходят один за другим, а потом темп замедляется, потому что личный порог самокритики становится выше. В юности стихи рождались проще и быстрее, и я их оценивал как нормальные. Я не ушел от поэзии — скорее пустил ветки. Одной из таких ветвей стал театр, написание либретто для опер. Кстати, сейчас снимают фильм в Голливуде по моей книге «Time’s Fool», но сценарий для него пишу не я.
Это правда, что другие жанры приносят больше денег, чем поэзия. Если говорить о прозе, то я вдохновлялся эссеистикой Бродского и критикой Джеймса Вуда. Пожалуй, именно их тексты оказали на меня гигантское влияние. Сейчас я пишу много критики, несмотря на то, что я не получил второго образования и формально не литературовед, но мне интересно писать эссе. Если говорить об эссеистике Бродского, то это очень плотный текст, богатый на логические связи.
Но я никогда не отвернусь от поэзии. В следующем году выходит мой новый поэтический сборник.
Шеймас Хини
Фото: Martin Pope / Globallookpress.com
Как себя чувствует современная поэзия в Британии в социальном, финансовом смысле? Какой тираж у вашего сборника? Потому что в России она чувствует себя так себе. Есть примерно 10-20 хороших современных поэтов, но их книги выходят страшно редко, маленькими тиражами, и создается впечатление, что кроме критиков, литературоведов и имеющих отношение к поэтическому цеху про них никто не знает.
Очень печально то, что вы говорите.
Я не знаю своего тиража — я знаю, сколько отчислений получу, и они невероятно малы. (Смеется)
С другой стороны, книга о поэзии, которую я написал, продавалась очень хорошо. Мне кажется, что в современной культуре институт критики схлопнулся. С одной стороны, повсеместная демократизация общества кажется мне положительным феноменом. С другой — когда эта демократизация переносится в мир искусства, становится все сложнее сказать, где лучший образец. Люди боятся устанавливать иерархии в культуре, полагают, что иерархия — дело прошлого, и в ней нет никакой ценности.
В Великобритании, как и в России, есть 10-20 хороших поэтов, но есть и популярные поэты, и это уже совсем другая история. Они пишут свои тексты в Instagram, их читают тысячи подписчиков, потом выходит их книга и продается гигантскими тиражами. Для меня это не поэзия. С другой стороны, коммерческий успех таких текстов оплачивает мое творчество и творчество других поэтов, которые не продаются. Но так, наверное, было всегда. Мне кажется, если бы Иосиф Бродский был нашим современником и писал сейчас, намного меньшее число людей отважились бы сказать, что он большой художник.
Сейчас на оценку произведения искусства влияет множество факторов, и они далеко не всегда художественные. В этом смысле я чувствую себя динозавром, потому что по-прежнему верю в необходимость консенсуса в оценке качества искусства. С другой стороны, я не против выйти из бизнеса некачественных текстов. Мне не хочется принадлежать к этому сообществу. Думаю, что время нас рассудит — оно лучший критик.
Глин Максвелл приехал в Россию в рамках программы Года музыки Великобритании и России
О Иосифе Бродском | Академия американских поэтов
Иосиф Бродский родился в Ленинграде 24 мая 1940 года. Он бросил школу в пятнадцать лет, устроившись работать в морг, мельницу, судовую котельную, в геологическую экспедицию. За это время Бродский выучил английский и польский и начал писать стихи.
Бродский был выслан из Советского Союза в 1972 году после того, как отбыл 18 месяцев пятилетнего заключения в трудовом лагере на севере России. По словам Бродского, литература перевернула его жизнь.«Я был нормальным советским мальчиком», — сказал он. «Я мог бы стать человеком системы. Но что-то перевернуло меня с ног на голову: [Федор Достоевский] Записки из подполья . Я понял, кто я такой. Что я плохой».
Перед отъездом из Советского Союза Бродский учился у любимой русской поэтессы Анны Ахматовой. После изгнания он переехал в Америку, где поселился в Бруклине и Массачусетсе. Там, по словам товарища поэтессы Симуса Хини, он жил «экономно, прилежно и в некоторой степени уединенно.»
Прославленный как величайший русский поэт своего поколения, Бродский написал девять томов стихов, а также несколько сборников эссе и получил Нобелевскую премию по литературе в 1987 году. Его первая книга стихов в английском переводе появилась в 1973 году.
В дополнение к преподавательской работе в Колумбийском университете и колледже Маунт-Холиок, где он преподавал в течение пятнадцати лет, Бродский был лауреатом поэт-лауреатов в Соединенных Штатах с 1991 по 1992 год. В 1993 году он вместе с Эндрю Кэрроллом основал American Poetry & Literacy Project, некоммерческая организация, цель которой — сделать поэзию более центральной частью американской культуры, «такой же повсеместной», по словам Бродского, «как природа, которая нас окружает, и из которой поэзия черпает многие из своих сравнений; или столь же повсеместно, как заправочные станции, если не как сами автомобили.»Иосиф Бродский умер 28 января 1996 года от сердечного приступа в своей бруклинской квартире.
Избранная библиография
Поэзия
Часть речи (1980)
Сборник стихов на английском языке ( 2000)
Элегия для Джона Донна и других стихотворений (1967)
Избранные стихотворения (1992)
So Forth (1996)
To Urania (1988)
Prose
Less Than One (1986)
О горе и разуме (1995)
Водяной знак (1992)
Драма
Шарики (1989)
Любовное письмо Иосифу Бродскому
Меньше одного — Иосиф Бродский
В последнее время я много говорила с одним из моих друзей-писателей о том, чтобы не бояться писать.Быть бесстрашным не обязательно означает заниматься трудными или болезненными темами (хотя это может быть), а скорее означает готовность поиграть на странице и посмотреть, куда вас приведет проза.
Для кого-то вроде меня, который преуспевает на слиянии аналитического и творческого, иногда может быть проблемой повернуть левую часть моего мозга на ступень ниже и позволить правому увести меня.
Что-то я заметил у почти каждого писателя, который приехал в Колумбийский колледж в Чикаго, чтобы любезно уделить свое время на сессиях вопросов и ответов с нашими аспирантами и / или на публичных чтениях, так это то, что каждый из них подчеркивает тот факт, что чем больше вы пишете и чем больше вы узнаете о своем ремесле, тем сложнее оно станет.Похоже, должно быть наоборот, правда? Послушайте меня — чем больше вы узнаете о писательском ремесле, обо всех мастерах, которые предшествовали вам, сидя за столом и печатая / сочиняя это первое слово, тем больше вы узнаете о великих традициях литературы в этой стране, тем больше больше вы узнаете о литературных традициях мира , вы узнаете, как мало вы действительно знаете.
Чтобы расширить свой мир, сначала вы должны сжать его до размеров.
Одним из величайших подарков моей магистерской программы (до сих пор) должен был быть просто тот факт, что мне был назначен такой широкий круг писателей, которые охватывают жанр, время и место — писателей, которых у меня никогда не было возможности читал, а в некоторых случаях даже не слышал.
Мир в белом
Последние четыре недели я читаю прозу Иосифа Бродского. Один из моих одноклассников прекрасно описал опыт чтения Бродского: «Я не знал, насколько я голоден».
В нашем нынешнем литературном ландшафте и среде MFA, я думаю, ужасно легко попасть в зависимость от чтения определенных типов писателей. Бродский, обычно известный как поэт, — писатель, прозу которого я, вероятно, не нашел бы сам (огромное спасибо Авии Кушнер и ее классу «Модели прозы от поэтов!»), Но тот, который, как мне кажется, стал неотъемлемой частью моего мышления, поскольку писатель.
Бродский обладает смелостью, бесстрашием и щедростью в своих произведениях, которых я даже не осознавал. Он охватывает темы, которые варьируются от его юности в Санкт-Петербурге до великих русских поэтов Анны Ахматовой и Марины Цветаевой до писателей других стран, включая В. Оден, Дерек Уолкотт и Константин Кавафи. Его эссе очень щедры по отношению к писателям, которыми он восхищается, демонстрируя не только восхищение их работами, но и его сильную любовь к литературе и языку. Благодаря тому, как Бродский делится своими идеями по широкому кругу универсальных тем, таких как природа угнетения, поэзии и любви, мы узнаем, кем он является как писатель и как человек.
В «1 сентября 1939 г.» У. Х. Одена он пишет:
«Неуверенный и испуганный» [ссылка на текст стихотворения Одена] означает что? — сомнение. И именно здесь это стихотворение — да и вообще поэзия, искусство вообще — начинается по-настоящему: с сомнением или с сомнением.
Бродский не боится бесконечного, но стремится отдать ему должное, составляя любовные письма в форме эссе писателям, их произведениям и самим писателям. Вместо того чтобы сомневаться, способен ли он писать о бесконечном, смело высказывать свое мнение на универсальные и вневременные темы, он стремится к бесконечности, чтобы делиться и, что более важно, сохранять.
«Поскольку цивилизации конечны, в жизни каждой из них наступает момент, когда центры перестают удерживаться. В такие времена их от распада удерживают не легионы, а языки ».
NYTimes
SO FORTH
Стихи.
По Иосифа Бродского .
132 стр.Нью-Йорк:
Фаррар, Страус и Жиру. 18 долларов.
Текст:
ИОЗЕФ БРОДСКИЙ был героем нашего времени, великим русским поэтом, отстаивавшим свободу и индивидуальность в Советском Союзе, и который, когда вышел из тюрьмы, был достаточно храбрым, чтобы попытаться стать американским и европейским поэтом, поэтом- гражданин
мира.Это была задача героического преувеличения в старом новаторском стиле иммигрантов, которые превратились в американцев, говорящих на новом языке по-своему.
Но для Бродского как поэта это было не только подвигом — это было невозможно, и это, должно быть, плохие новости. Муза неумолима. Она вынуждена отказаться от самых великих усилий, если они полностью не исчезнут. В его чудесном стихотворении о смерть Йейтса, Оден написал тогда: «Поклоняется языку и прощает / Всем, кем он живет.И продолжает жить. Русский голос Бродского бессмертен, как и голос Пушкина или Ахматовой. Он продолжал строить для себя идиому на английском языке и манеру говорить как американский поэт, но время вряд ли будет уважать их истинный поэтический авторитет.
На этот раз претензия на обложку книги кажется не только дипломатически привлекательной, но и правильной. Бродский, как говорит его издатель, «был признан одним из великих поэтов своего родного языка; но после 24 лет в США Состояния .. . он также стал мастером своего приемного языка ». Это очень хорошо сказано, даже если« хозяин »преувеличивает. Но Муза не впечатлила. Бродский — не великий английский поэт, но великий русский поэт.
Он принял голос В. Х. Одена, чьи стихи страстно восхищались. Конечно, это не мог быть настоящий голос Одена, хотя он общался с Оденом в восхитительной товарищеской ассоциации.Но поэт — последний человек, способный чревовещать настоящий голос. Без Одена Бродский, возможно, никогда бы не превратился в поэта, пишущего на английском языке, потому что его русский голос и русская поэзия были уже знакомы с Оденом и могли разговаривать с ним, так сказать, по-человечески. Но ученичество на поэтическом языке никогда не годится. Сам Оден начинал как вдохновенный подражатель и пародист современных поэтических голосов; затем, однако, он нашел свое, и оно было полностью авторитетным.
Конечно, в некотором смысле у прозы тоже есть голос, но голос в прозе имеет меньшее значение, чем то, что она говорит. И Конрад, и Набоков научились писать свою собственную безошибочную английскую прозу; но это было потому, что они могли сказать то, что хотели сказать через эту новую, но уже знакомую им среду. У Набокова как у русского писателя не больше абсолютного авторитета, чем у американского писателя. Два режима языка и дискурса слились воедино и стали фактически одним целым.Но как поэт, Бродский имеет полный авторитет только на своем родном языке.
Многие стихотворения в «So Forth», написанные за 10 лет до смерти Бродского, написаны в том стиле, в котором он озвучивал свой приемный голос, но далеко не все. Иногда загадочный акцент бывает у русского поэта. и бродяга в английских словах. Это происходит в неторопливом стихотворении под названием «Вертумн», в котором есть простор — русская широкость — и атмосфера медитации, которая раньше была характерной чертой Бродского. стихи на русском языке.Слишком часто после этого ему хотелось использовать неподходящие рифмы и разговорные выражения — у него не было ни слуха, ни инстинкта для этого в английском языке — которые болезненно подчеркивали уверенность и превосходство Одена в обращение с явно одноразовым поэтическим языком. Бродский склонен бросаться своими английскими словами в стихотворение с фатальной беззаботностью, как в претенциозно оденианском «Портрете трагедии».
Давай засунем пальцы ей в скрежет
разъеденные цингой клавиатуры, воспламененные вольфрамовыми вспышками
показывая ее богатое слюной небо с метелями пепла родственников.
Давай дернем ее за подол, посмотрим, не покраснеет ли она.
Что ж, трагедия, если хотите, удивите нас.
Покажите нам преданное тело или его гибель, устройства
за потерянную невинность, внутренний кризис.
В этом есть врожденная неуклюжесть, как у медведя, играющего на флейте, что смущает.Ни дюжина кропотливых строф не может нас удивить или развить аргумент. У русской поэзии есть инстинктивное приличие, которое никогда не предпринимайте не очень убедительных попыток Бродского против американской простодушия.
Посмотри на нее, она хмурится! Она говорит: «Добрый вечер,
позвольте мне начать. В этом деле, ребята, начало
имеет значение больше, чем конец.Дай мне человека
а начну с несчастья, так поставь наручные часы на скорбь ».
Та же неуверенность в прикосновении портит «Сказку», которая должна быть бодрой аллегорией глупостей современной войны в духе несравненной сказки Пушкина «Золотой петушок». Но Пушкин. плохо сочетается с Оденом, баллады которого столь же беззаботны, но гораздо более искусны, чем версии Бродского в том же метре.
Император говорит: « Думаю, ты догадываешься
для чего вы здесь.
Генералы встают и лают: «О да,
Сир! Чтобы начать войну ».
Фальшивая наивность сантиментов и ритма получается не лучше, чем образы.
На закате все выглядит довольно красиво.
Понижается температура.
Мир лежит неподвижно, как договор
без подписи.
Вот и все плохие новости о So Forth.Но есть и хорошие новости, на которые всегда можно надеяться, что они будут в случае с поэтом, столь оживленным и трогательным, каким может быть Бродский на английском языке в своих лучших проявлениях. В своём свободном интересе и непосредственности Стихотворение типа «Песня о любви» русское так же, как и английское — как будто в музыке ноты кажутся важнее слов.
Если бы вы были китайцем, я бы выучил язык,
жги много ладана, носи забавную одежду.
Если бы ты был зеркалом, я бы штурмовал дам,
Дай тебе мою красную помаду и надуй нос.
Если бы вы любили вулканы, я был бы лавой,
безжалостно извергающийся из моего скрытого источника.
И если бы ты была моей женой, я был бы твоим любовником,
потому что Церковь категорически против развода.
Двойной взгляд на последние две строчки типичен для невинного веселья Бродского, чем-то напоминая те замечательные прозаические эссе, одинаково хорошие на русском или английском языках, в которых он когда-то воздал должное привязанностям и сладостям своего Ленинграда. детство, где его отец был хранителем Русского военно-морского музея. Старый русский военно-морской флаг с бело-голубым Андреевским крестом был для Бродского самым романтичным флагом в мире, и он никогда не боялся сказать: так в эпоху ссср и красного флага.
Я упоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, насколько «церемония невиновности», как говорил о ней Йейтс, значила для Бродского. В «So Forth» есть трогательные стихи о его новой американской семье; один, написанный в 1994 году его молодому дочь, которая трогательно сочетает в себе осознание отца, что ему осталось недолго жить, с обнадеживающим празднованием того, что она сама может помнить и любить.
Так что следите за ними всегда, потому что они, без сомнения, осудят вас.
Все равно любите эти вещи, встречу или нет.
Кроме того, вы можете еще вспомнить силуэт, контур,
а я потеряю даже это вместе с другим багажом.
Отсюда эти несколько деревянных линий в нашем общем языке.
Не часто хороший поэт производит впечатление законченного и, прежде всего, знакомого человека. Можно надеяться, что помимо своего статуса поэта, Бродский является предзнаменованием для будущего того, что его предшественник Осип Мандельштам однажды назвал «надеждами общества». Мировая культура ».
литературных сокровищ: Иосиф Бродский читает свои стихи в Библиотеке Конгресса, 1992
Ниже приводится гостевой пост Джойс Хида, летнего стажера в Центре поэзии и литературы.Он является частью нашей ежемесячной серии «Литературные сокровища», в которой освещаются аудио- и видеозаписи, взятые из обширных онлайн-коллекций библиотеки, включая Архив записанных стихов и литературы. Демонстрируя произведения и мысли некоторых из величайших поэтов и писателей за последние 75 лет, серия развивает миссию Библиотеки по «дальнейшему развитию знаний и творчества на благо американского народа».
Иосиф Бродский, 1940–1996.
Как стажер Центра поэзии и литературы, я слушаю стихи по восемь часов в день.Хотя объем этой задачи может показаться устрашающим, он, без сомнения, прямо пропорционален ее важности. Просеивая Архив записанных стихотворений и литературы, я работал над тем, чтобы поставить метку времени для каждого отдельного стихотворения в длинных поэтических чтениях. Я надеюсь и надеюсь на ПЛК, что это повысит доступность аудиоархива, так что любой сможет тратить время на сканирование по сайту, как мне, к счастью, удалось.
Что мне искренне нравится в прослушивании аудиоархива, так это то, насколько это честно — когда я слышу стихотворение собственным голосом поэта, с его интонациями, отвлекающими факторами и объяснениями, текст стихотворения становится недостижимым с помощью одного текста.Современные события, новая мудрость, приобретенная с возрастом, аудитория этого конкретного чтения — все это отражается на чтении стихотворения вслух и формирует отдельную культуру для каждого чтения. Они ставят метку времени на стихотворение так, как я не могу.
Чтение Иосифом Бродским своих стихов в зале «Монпелье» Библиотеки Конгресса в 1992 году является особенно мощным упражнением в чтении, а не декламации. Бродский, бывший гражданин Советского Союза, сосланный после заключения в трудовом лагере по обвинению в «тунеядстве», стал поэтом-лауреатом Соединенных Штатов в 1991–1992 годах.Именно под этим заголовком он читает в зале «Монпелье» в 1992 году. Завершает это конкретное чтение своей работы чтением «В гостях!» Роберта Фроста (2:51), Бродский вылепляет среду, в которой он хочет, чтобы его стихи жили. Со строфами типа «Забудьте миф. / Нет никого, с кем я / Меня отталкивает / Или отталкивает », Frost’s« В гостях! » Текстуры собственных стихов Бродского об изгнании и перемещении. В записи есть даже момент, когда — когда аудитория смеется над вторым стихотворением Фроста, которое следует схожей теме, «Входите» (3:58), — Бродский беззаботно отвечает: «Забавно, что вы нашли это таким забавным. .”(4:49)
Бродский продолжает формировать культуру именно этого чтения, читая стихи, которых еще нет ни в одной из его книг, в том числе одну «Fin de Siècle» (8:07), которую он никогда раньше не читал вслух. Таким образом, слушатель зависит от Бродского. Неспособность замедлиться, неспособность найти время, чтобы обработать и переварить каждую сложную строчку, добавляет впечатлений. Стихам Бродского суждено быть приостановлено в песенной какофонии, и слушатели должны воспринимать его стихи в том же темпе, в каком Бродский пережил события, которые их вдохновили.
Зависимость, однако, устанавливается в качестве темы для чтения еще до того, как будут представлены какие-либо стихотворения. Бродский начинает чтение с признания: «Я не очень хорошо читаю по-английски». Большинство стихотворений Бродского — это самопереводы его оригинальных русских стихов. Это оставляет слушающую аудиторию на перепутье, сталкиваясь как с предполагаемой подлинностью чтения Бродского в реальном времени, так и с давним представлением о том, что они не могут знать всю правду о том, что он читает. Это усугубляется тем фактом, что в своих переводах Бродский, как известно, подчеркивает, что рифма и стихотворная форма важнее смысла.Когда кто-то слушает Бродского по-английски, он приходит к компромиссу. Компромисс здесь — ясность смысла звуковых качеств русской поэзии. И все же Бродский не оставляет без внимания этот компромисс. Когда он читает «Звезду Рождества» на английском (40:29) и оригинальном русском (41:26), он предваряет чтение словами: «Я прочитаю это стихотворение на русском и английском языках. Что ж, вы можете думать что угодно об английском, но я думаю, что это хорошо », — и зрители приветствуют его облегченным смехом.Это особенно честный момент, когда он подчеркивает, что Бродский ценит форму, и поэтому аудитория должна ценить это превыше всего. Он просит публику доверять Бродскому и не опасаться своей зависимости.
Это то, что выводит чтение Бродского за рамки декламации. Он пользуется возможностью, чтобы обратить внимание на свои слабости и бросить им вызов, и уверенно переходит от признания «Я не очень хорошо читаю по-английски» до «Я думаю, что это хорошо». Это отчасти причина того, почему, когда он приехал в Штаты в 1970-е годы, когда в американскую поэзию бросили вызов рифмам и формальным стихам, Бродский смог существовать и преуспевать.Некоторые рассматривали его строгое соблюдение формы как лингвистический ответ на его культурное происхождение. Формальный стих не стеснял слов Бродского; это закрепило их в самых основах его работы — ни один народ не мог их изгнать. Даже когда он читает стихотворение «Сноска к прогнозу погоды» (42:50), Бродский признает, что «это стихотворение написано в свободном стихе на английском и русском языках, поэтому не ищите здесь рифмы, они практически несуществующий »(42:39). Особо указывая на тот случай, когда нет схемы рифм, Бродский констатирует его как необычное исключение и создает в культуре этого чтения общее понимание обычной важности рифмы в его стихах.
Возможно, именно эта зависимость от его голоса и его переводов открывает Бродскому путь к формированию культуры чтения его стихов — культуры, которая выходит за рамки простого чтения и вместо этого ведет постоянный разговор с предысторией Бродского и его литературным выбором.
{mediaObjectId: '1079A22D268106CEE0538C93F02806CE', метаданные: [«Иосиф Бродский читает свои стихи в зале Монпелье в Библиотеке Конгресса, 14 мая 1992 г.»], mediaType: 'A', playerSize: 'mediumStandard '3} 9
Вот полный индекс записи Бродского с отметками времени:
- «В гостях» Роберт Фрост (2:51)
- «Заходи» Роберта Фроста (3:58)
- «Трансатлантический» (5:14)
- «Песня» (6:35)
- «Fin de Siecle» (8:07)
- «Очередь на зимние каникулы» (15:48)
- «Эпитафия для Кентавра» (18:01)
- «Песнь приветствия» (19:27)
- «Новая жизнь» (22:22)
- «Письма из династии Мин» (на английском языке) (29:04)
- «Письма из династии Мин» (31:07)
- «Совет путешественнику» (34:29)
- «Звезда Рождества» (на английском языке) (40:29)
- «Звезда Рождества» (41:26)
- «Сноска к прогнозам погоды» (42:50)
- «Бриз Марин» (47:09)
- «24 мая 1980 г.» (на английском языке) (49:37)
- «24 мая 1980 г.» (51:18)
- «В гостях» Роберт Фрост (53:10)
Иосиф Бродский, Темнее и ярче
Квартира, где Иосиф Бродский жил со своими родителями, ныне музей в Санкт-Петербурге.Петербург, Россия. (24 мая, 2015) (AP)
Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц! Спасибо за регистрацию. Чтобы узнать больше о The Nation , ознакомьтесь с нашим последним выпуском.Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц!Поддержка прогрессивной журналистики
Nation поддерживает читателя: чип в 10 долларов или больше, чтобы помочь нам продолжать писать о важных проблемах.Поддержка прогрессивной журналистики
Nation поддерживает читателя: чип в 10 долларов или больше, чтобы помочь нам продолжать писать о важных проблемах.Зарегистрируйтесь в нашем винном клубе сегодня.
Знаете ли вы, что можно поддержать The Nation , выпив вина?В июне 1972 года молодой поэт из Ленинграда сошел с самолета в Детройте и вступил в новую жизнь. Его изгнание из Советского Союза принесло ему международную известность; однако он не знал, как водить машину, как открыть счет в банке или выписать чек, или как пользоваться тостером.Его английский, в основном самоучка, был почти непонятен. Он бросил школу в 15 лет. Тем не менее, в 32 года он вскоре приступил к своей первой настоящей работе, причем в учреждении мирового класса: он был новым поэтом в резиденции в Мичиганском университете в Анн-Арборе. Через несколько лет Иосиф Бродский станет колоссом на литературной сцене Нью-Йорка. Через 15 лет ему будет присуждена Нобелевская премия.
ОБЗОРНЫХ КНИГ
Однако в момент приземления самолета Бродский стал олицетворением советских преследований: другими словами, «жертвой» и, следовательно, клише.Он не был клише, но огласка мгновенно дала бы ему власть и престиж на его избранной земле. Внезапно раздающиеся вокруг него американские голоса не могли понять сил, которые сформировали его: арест КГБ, тюрьма, психиатрические больницы, судебный процесс и приговор к каторжным работам и ссылке за Полярным кругом. Это было легендой, и это способствовало шквалу освещения в СМИ. «Станции Креста времен холодной войны» было легче упаковать для массового потребления, чем учитывать музыкальность, метафорическую изобретательность, сжатость и грубый интеллект стихов Бродского, которые почти не появлялись на английском языке и только в самых избранных публикациях.
Эллендеа Проффер Тизли в своих новых коротких воспоминаниях « Brodskij sredi nas » ( Бродский среди нас, ) предлагает иной взгляд на поэта. Это иконоборческий и завораживающий портрет, отчасти откровенный. Бродский Тизли и темнее, и ярче, чем тот, который, как мы думали, мы знали, и он сильнее для этого как поэт и как человек. Сам прием книги поучителен. С момента публикации в Corpus Books весной 2015 года книга Brodsky Among Us произвела фурор в бывшей стране поэта, быстро став бестселлером, который сейчас переходит в шестой тираж.Прошлой весной Тизли совершил триумфальное издательское турне, выступая на закрытых конференциях в Москве и Санкт-Петербурге; Тбилиси, Грузия; и ряд других городов. Книга получила сотни отзывов. По словам ведущего критика Анны Наринской, написавшей в газете Коммерсант , мемуары Тизли были написаны «без слезливого восторга и злобной мести, без мелкого сведения счетов с покойным или живыми — и в то же время демонстрирующих полное осознание масштабности и необычности своего героя.’»Галина Юзевофич в интернет-издании« Медуза »похвалила Тизли за« точность взгляда и абсолютную честность », в результате чего получился портрет« мудрости, спокойствия и удивительной невозмутимости ». Тем не менее, книга еще не нашла издателя на английском языке, на котором она была написана.
Аэропорт Детройта не был первоначальным пунктом назначения Бродского. Советы намеревались отправить его в Израиль, место, которое не интересовало поэта, светского еврея. На остановке в Вене Бродского встретил Карл Проффер, профессор славянских языков и литературы из Мичиганского университета, который ждал в аэропорту с намерением отвезти его в Анн-Арбор.Проффер, муж Тизли, не имел права предлагать Бродскому место в университете. Тем не менее, он успешно обманул дипломатов, посольства и различные бюрократические органы.
Бродский не знал, чего ожидать в Анн-Арборе, где Профферы какое-то время жили на грани. Карл был исследователем Набокова и Гоголя; Эллендея писала о Булгакове. В 1971 году после нескольких визитов в Советский Союз пара основала новаторский издательский дом под названием «Ардис». Ардис издавал литературу, которая не увидела бы свет на ее родине, в русском и английском переводе.Предприятие было начато с банковских ссуд, кредитных карт и ссуд денег у благотворительных, если это озадачено, родителей. В конце концов, пара приобрела бывший загородный клуб, в котором разместился Ардис, Трехквартальный журнал русской литературы (журнал, который они запустили в 1971 году), и их растущая семья. Гараж использовался для инвентаря, а за пиццей друзья помогали с рассылкой. Ардис бежал без средств к существованию.
Надежда Мандельштам, вдова поэта Осипа Мандельштама, была carte d’entrée Proffers в литературном мире, у которого были основания не доверять иностранным посетителям.В конце концов, она привела их к Бродскому. Профферы опасались за безопасность поэта с самого начала их дружбы: Тизли пишет, что «нам трудно думать о нем, не прибегая к словам судьба и судьба , потому что эти слова, кажется, витают в воздухе. вокруг него.» О своей первой встрече с Карлом с Бродским в Ленинграде в 1969 году она говорит: «Поэт сразу говорит, что он не диссидент — он не хочет, чтобы его каким-либо образом определяли как оппозицию советскому правительству; он предпочитает действовать так, как будто советской власти не существует.Она добавляет: «Он говорит, что мы ничто перед лицом смерти, но он излучает, что я победлю».
Профферы узнают о его нежности и уязвимости, а также об их противоположностях: его дерзости, высокомерии, хамстве. Тизли пишет: «Мне вспоминается то, что друзья Маяковского говорили о нем — что у него не было кожи». Бродский жил в мире абсолютов, и его неприязнь могла быть непоколебимой. В Ленинграде, говоря об Америке, он настаивал на том, чтобы движение Black Power было подавлено, протестующих студентов избила полиция, а Вьетнам превратился в парковку.Время изменило бы эти суждения, но не устранило бы стоящее за ними мышление: Бродский прибыл на Запад с советским шаблоном и продолжал применять его к окружающему миру. У него было опасное кредо и притягательная сила. «Самым замечательным в Иосифе Бродском является его решимость жить так, как если бы он был свободен в тюрьме одиннадцати часовых поясов, то есть в Советском Союзе», — пишет Тизли. «В восстании против культуры« мы »он будет ничем, если не личностью. Его кодекс поведения основан на его опыте тоталитарного правления: человек, который не думает самостоятельно, человек, который идет вместе с группой, является частью самой злой структуры.Следовательно, он отказался считать себя диссидентом — ярлык, который определил бы его с точки зрения правительства, которое он ненавидел. «Если у вас была слава, у вас была сила повлиять на культуру; если у вас была слава, вы показывали Советам то, что они потеряли », — пишет Тизли. Бродский был уверен, что они знают, что потеряли.
* * *
НРАВИТСЯ? ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ НАШЕЙ ЛУЧШЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗА
В 1984 году Карл Проффер умер от рака в возрасте 46 лет, оставив Тизли вдовой с четырьмя детьми.Она переехала в Южную Калифорнию, получила стипендию «гения» Макартура в 1989 году и в конце концов снова вышла замуж. Но Карл оставил ее с обещанием сдержать: когда он умирал, Тизли дал ей слово, что она позаботится о том, чтобы его незаконченные мемуары, состоящие примерно из 20 страниц, которые резко обрезались, были опубликованы.
Накануне публикации позволила Бродскому посмотреть. «Он прочитал это и пришел в ужас, несмотря на то, что в нем выражалась наша любовь и восхищение им», — пишет Тизли в книге « Бродский среди нас ».«Он был расстроен объективностью Карла; друг не должен так писать. На самом деле Джозеф воображал, что может контролировать то, что о нем пишут ». В письме он угрожал подать на нее в суд, если оно будет опубликовано; она сдалась и вытащила мемуары из посмертного сборника эссе. Спустя годы Сьюзен Зонтаг спросила Тизли, как дружба пережила синяк. «Я должна была принять решение простить Джозефа, — сказал ей Тизли. «Теперь я думаю, что правильнее было бы сказать, что я не мог потерять другого человека из своей жизни.Тем не менее, ее предсмертное обещание выполнено с помощью книги Brodsky Among Us , которая восстанавливает голос очевидца, который иначе был бы потерян для нас. Тизли органично вплетает отрывки из мемуаров покойного мужа в свои собственные.
Ее книга — особенно приятная новость для россиян, желающих услышать об Ардисе, поскольку ее история — это тоже их история, и история их литературы. Они видели свое отражение, которого не узнали, например сказочную принцессу, впервые смотрящую в зеркало, — и образ, который они увидели, взволновал их.У них были свои собственные клише, которым нужно было противостоять: Бродского изображали мучеником, что, по словам Тизли, он счел бы невыносимым.
Были и другие причины для восторженного приема книги: Тизли — знаменитость в России, а переводчик ее книги, известный Виктор Голышев, был другом поэта. Более того, россияне мало что знали об американской жизни Бродского, поэтому книга стала для них откровением. Но определенно отчасти его успех связан с нынешним моментом в путинской России: с правительственной цензурой и репрессиями некоторые россияне опасаются, что страна времен Бродского вернулась.
Когда, во многом с помощью Карла Проффера, Бродский покинул один мир ради другого, он не осознавал — и не мог — понять, насколько полным будет отречение. Он никогда больше не увидит своих родителей, несмотря на его отчаянные попытки получить для них визу. Телефон стал спасательным кругом. Марина Басманова — давняя любовница Бродского, от которой у него был сын, — издали читала стихи, которые он ей посвящал. Когда в 1983 году Ардис опубликовал русское издание новых строф к Августе , ему позвонила его муза.«Я полагаю, — писал Карл, — что в мировой литературе было немного случаев, когда Муза, особенно такая трудная, внезапно материализовалась таким образом, чтобы вознаградить поэта, который ее спел».
На выступлении в Санкт-Петербурге десять лет назад Тизли сказала своей аудитории, что она «никогда не знала никого, кто хотел бы покинуть Советский Союз больше, чем Джозеф»; он говорил об уходе с того дня, как она впервые встретила его. Один из его друзей бросил ей вызов: возможно, поэт хотел уйти, он наконец признал, но, безусловно, он хотел иметь возможность вернуться.»А он?» она ответила. «Я был одним из многих, кто пытался убедить его приехать в Россию после 1989 года».
Бродский отказался вернуться. Хотя было выдвинуто множество причин — его здоровье, его нежелание быть туристом в России или отвечать на «официальное» приглашение, даже одно или два безумных суеверия — они могли просто рационализировать суровую реальность: домой не было. Бродский не мог разделить атом.
«Он говорил разные вещи в зависимости от своего времени и настроения, поэтому все, чему можно действительно доверять, — это его действиям», — пишет Тизли.«Он не вернулся в родную страну, когда мог. Я знаю несколько его причин: одна из них заключалась в железной убежденности в том, что возвращение будет формой прощения. Он не мог поверить, что новые мастера действительно так сильно отличаются от старых мастеров, которые отказались выпустить его родителей. Изгнание было настолько трудным, что трудно было поверить, что можно просто вернуться назад, как если бы оно вам ничего не стоило ». Тизли заключает, что «иногда вы любите свою страну, но она не любит вас в ответ. Эта потеря становится частью вашей новой личности.”
* * *
Надежда Мандельштам особо подчеркнула, что наставник Бродского, легендарная поэтесса Анна Ахматова, оказала на него большое влияние, в частности, на то, как он вел себя как поэт. «Какую биографию они делают для нашего рыжеволосого мальчика», — кричала Ахматова после суда над ним в 1964 году по обвинению в социальном паразитизме.
Значит, она научила его, как себя занять; она была экспертом в таком самодействии. Однако Ахматова, поэт из высшего общества, достигшая совершеннолетия при царях, была дома в Европе, где у нее была возможность практиковать свою версию себя.Ее краткая поездка за границу в 1965 году для получения почетной степени Оксфордского университета усилила ее загадочность, и она приправила свои разговоры разговорами о Бродском.
Возникает вопрос, не была ли Ахматова первой, кто научил его изобретать самого себя, маскировать его периодическое жалость к себе жестким стоицизмом в его стихах и прозе. Бродский сказал одному другу, что сделает изгнание своим личным мифом, что он и сделал. Но миф мог завести его только до сих пор. Ничто не могло подготовить его к требованиям интервью, статей, обзоров, выступлений, эссе и рекомендательных писем.Он не мог отказать друзьям и соратникам-эмигрантам. Казалось, всем нужен совет, чтение, лекция, справочник, фотография. Ему нужен был панцирь, причем толстый. И все же у него не было кожи.
Нобелевская премия дезориентировала его. Он получил почти все почести, которые мог предложить Запад. Призовые деньги тратились, часто щедро, на друзей, и он не был склонен ни воспитанием, ни природой к инвестиционным портфелям. Но его мир изменился, и он не мог сориентироваться. Враги больше не имели значения, и это было проблемой.«Ему были нужны его враги; сопротивление им — и государству — сформировало его личность », — пишет Тизли. Он больше не был неудачником, а стал постоянным аутсайдером. Он показал Советам, что они потеряли, но система, которая его угнетала, исчезла. Его победа оказалась бессмысленной. Возможно, он не хотел верить, что в СССР что-то изменилось, потому что это изменило бы смысл его жизни.
Смерть преследовала Бродского — болезненное сердце в его груди, повторяющиеся и все более сложные операции, которые нужно было преодолеть еще несколько лет, — пока он, наконец, не скончался в возрасте 55 лет.Это был еще один факт, который подпитывал романтический миф, когда действительность была намного мрачнее и суровее, чем предполагала его публика. Бродский боялся смерти, несмотря на его протесты, несмотря на то, что закурил еще одну сигарету почти сразу после завершения операции на открытом сердце. Тизли пишет, что «боролся со страхом смерти поэзией, любовью, сексом, кофе и сигаретами — и пытался отрицать значение смерти, почти никогда не мог ее забыть».
Майкл Грегори Стивенс в статье « Plowshares » в 2008 году описал встречу с Бродским в захудалом баре для стариков воскресным утром, когда поэт был уже воинственно пьян.Я подумал, что Стивенс, должно быть, ошибается, поэтому несколько лет назад связался с ним, чтобы спросить. Он сказал мне, что подтвердил другим, что это не единичный инцидент. Однако, похоже, это произошло где-то в течение полутора лет, когда Бродский потерял отца, мать и Карла Проффера, человека, которого он когда-то назвал «воплощением всего лучшего, что человечество и американец» представлять.» Без контекста, предоставленного книгой Тизли, этот эпизод был бы нелепым и унизительным, и его трудно было бы согласовать с эстетическим поэтом.Бродский достиг всего, превзойдя свои самые смелые мечты, но он потерял мир, в котором он мог наслаждаться этими успехами, и людьми, дорогими ему, которые знали бы, чего стоили победы.
* * *
Если бы не Америка, Бродскому не было бы Нобелевской премии. В его принятой стране высокая напряженность и скорость его поэзии вдохновляли множество писателей, художников и мыслителей. «Он приземлился среди нас, как ракета», — сказала Зонтаг. Тем не менее, англоязычные читатели знают, что они получают тень оригинала, эхо — как хороший винтаж, который слишком долго хранился в подвале.Иногда пробка попадала в вино, как тогда, когда Бродский настаивал на самопереводе.
«Он с фантастической скоростью совершенствовал свой английский и начал изучать рифмующиеся словари и словари сленга», — пишет Тизли. «Однако, и в этом нет ничего странного, он не мог почувствовать уместность слова, учитывая его нормальное и историческое использование, он ограничивался тем, что словарь приводил в качестве примеров». Более того, он продолжал слышать в голове русские интонации, поэтому писал по-английски со своим русским акцентом и ударениями.Тизли пишет:
Со временем он стал лучше переводить свои стихи, но не раньше, чем разочаровал серьезных читателей поэзии. Мои друзья — американские поэты или русские ученые — звонили мне и садистски читали последний перевод Бродского (или английский оригинал), и я очень устал защищаться, говоря, что он был великим поэтом на русском языке.
Люди спрашивают, почему его переводы не подвергались серьезной критике до его смерти. Ответ заключается в том, что он был одновременно влиятельным и мстительным, поэтому некоторые считали, что цена честной оценки слишком высока.Что касается его друзей, поэтов и других людей, они любили его и не хотели задеть его чувства. Вдобавок — и это всегда касается Бродского — его поэтическая биография преследований тоталитарным государством давала ему иммунитет от нормального литературного процесса как в Америке, так и в Великобритании, по крайней мере, в печатном виде.
Тизли сомневается в мудрости перевода своих стихов с точностью до метра и рифмы. Однако работы Энтони Хехта, Ричарда Уилбура, а иногда и самого Бродского доказывают обратное, хотя нельзя было ожидать, что переводчик воссоздает все сложные образцы ритма и рифмы, которые появляются в его русских стихах.(Тизли справедливо указал бы, что Бродский вмешивался даже в Гехта и Уилбура.) Тем не менее, в поэтической культуре, где доминировал свободный стих, это возлагало на него дополнительное бремя доказательства.
Как отсутствие новых переводов, так и существующие проблемные переводы способствовали подрыву репутации Бродского в Соединенных Штатах. По обе стороны Атлантики недоброжелатели ставят под сомнение его высокое положение, как будто поэтов, которые его защищали — Чеслава Милоша, Шеймуса Хини, Дерека Уолкотта и Томаса Венцловы — каким-то образом обманули.Около двух третей его стихов остаются непереведенными, и это досадно.
Некоторые российские читатели отметили, что есть еще одна книга между строками Бродский среди нас . Тизли сказала аудитории в России, что она рассказывала только четверть того, что знала. Она не хотела, чтобы личность Бродского подавляла его стихи, поэтому многое о его жизни оставила недосказанным. «Единственным богом, которому он служил, был бог поэзии, и этому богу он был верным слугой. Что заставило его поверить в высшую силу, так это сам факт его чудесного дара.И, как она пишет, «он был поэтом каждую минуту каждого дня».
Есть опасность, что Бродский «станет его поклонником», как писал Оден о Йейтсе. Он сентиментален и китчифицируется. Русские жаловались на побеленные воспоминания; в Америке шероховатая поверхность и острые края также были обработаны, чтобы оставить улыбающегося публичного человека, патрицианского артиста, дающего мудрость. Публичные поминки были столь же банальными. Организаторы Олимпиады 2014 года в Сочи, не обращая внимания на иронию, представили образ и работы Бродского среди других известных российских писателей на церемонии закрытия.Кажется, после его смерти каждый может представить, что получил бы его поцелуи, а не презрение. Тизли документирует эту коммодификацию поэта в «Бродский лайт»:
В Америке стоит марка Бродского, а его именем назван самолет Аэрофлота. Я не хочу, чтобы был музей Джозефа, я не хочу видеть его на марке или его имя на борту самолета — эти вещи означают, что он мертв, мертв, мертв, мертв, и никого больше не было. живой.
Я протестую: притягательный и непростой человек из плоти находится в процессе пожирания памятником — чудовищное явление, учитывая, каким человеком был Иосиф.
Иосиф Бродский был лучшим из людей и худшим из людей. Он не был памятником справедливости или терпимости. Он был бы таким милым, что через день по нему было бы скучать; он мог быть настолько высокомерным и оскорбительным, что вам хотелось бы, чтобы канализация открылась под его ногами и засосала его вниз. Он был личностью.
Бродский среди нас , похоже, было записано на одном выдохе памяти; это откровенный, личный, любящий и захватывающий: незначительный шедевр мемуаров и важный всемирно-исторический рекорд.Сможем ли мы когда-нибудь прочитать это по-английски?
Иосиф Бродский: любить, уходить и жить
На мосту прачки, где мы с вами,
, стояли, как две стрелки полуночных часов
, обнимаясь, скоро расстанемся, не на день
, а на все дни — сегодня утром на нашем мосту
самовлюбленный рыбак,
забыл свою пробку плывет, вытаращенными глазами смотрит
на свой зыбкий образ реки.
…
Так пусть он смотрит
в наши воды, спокойно, на себя,
и даже познает себя.Река
сегодня принадлежит ему по праву. Это как дом
, в котором новые жильцы поставили зеркало
, но еще не въехали. *
Эти строки можно найти во многих антологиях поэзии Иосифа Бродского. А над этим стихом мы находим инициалы F.W., инициалы Фейт Вигзелл. За пятнадцать лет после смерти поэта она ничего не опубликовала о своей дружбе с ним, не дала никаких интервью на эту тему и не опубликовала их переписку.Она также воздержалась от комментариев к стихам, которые он ей посвятил.
* * *
— Как вы познакомились с Бродским? Какое первое впечатление он произвел на вас?
— Кажется, это был март 1968 года. Я приехал в Ленинград с шестинедельной исследовательской поездкой, связанной с моей докторской степенью в Лондонском университете.
— А в чем заключалась эта работа?
— Я изучал раннюю русскую литературу.
— Действительно!
— Ничего подобного! Попробуйте спросить меня, чем я сейчас занимаюсь.
— А вы чем занимаетесь?
— Сейчас я пишу о коммерческой магии в России сегодня.
— даже не знаю, что это…
— Ну, это ведьмы, гадалки, волшебники и астрологи…
— Отлично, но вернемся к Бродскому.
— Хорошо.Я приехал в Ленинград и сразу позвонил своим старым друзьям Ромасу и Элии Катилиусу. В 1963-64 годах я учился в Ленинграде, и именно тогда я познакомился с Катилиусами и Дианой Абаевой, позже ставшей Дайаной Майерс и работавшей со мной в Лондонском университете. Но это будет позже.
Тогда, в начале 1960-х, мы познакомились и подружились. Это были замечательные люди — добрые, обаятельные, любящие поэзию и искусство, они видели Советскую власть такой, какой она стоит. Это были ученые: Ромас был физиком-теоретиком в Институте полупроводников.Диана же занималась гуманитарными науками.
Итак, короче, я позвал Катилиусов; они были очень довольны и пригласили меня в тот вечер. Я пошел, конечно, в их огромную комнату в коммуналке на улице Чайковского … Но кроме друзей я там нашел молодого человека, которого раньше не встречал. Он сразу привлек мое внимание.
— Почему?
— Во-первых, у него была очень необычная улыбка.
— Что вы имеете в виду под необычным?
— Как бы это сказать? Это была застенчивая, точнее, робкая улыбка.Да-да, робкий. И его голос…
— Его голос?
— Ну, это было что-то особенное… С тех пор я не встречал такого голоса. Когда он читал свои стихи, его голос производил поразительное впечатление…
— А это был Бродский?
— И это был Бродский. Оказалось, что он давно дружил с Катилиусами, да и с Дианой тоже. У Катилиусов был маленький ребенок, поэтому гости не могли задержаться с их приемом.Поздно вечером мы с Иосифом вышли на улицу Чайковского, и он проводил меня до гостиницы. Так все и началось.
— А о литературе вы, конечно, говорили?
— Не только, не только… (Вера смеется) Оказывается, у нас с Джозефом был еще один общий друг — Толя Найман. Узнав об этом, я решил сделать им обоим подарок. Я привез из Лондона большую бутылку, кажется, литр виски. В то время в России виски нельзя было найти в обычных магазинах.Они были более чем рады принять предложение, но то, что произошло потом, показалось мне совершенно ужасным: они вдвоем выпили всю бутылку в течение вечера. Я был совершенно ошеломлен. Я спросил: зачем ты всю бутылку выпил? Они просто пожали плечами.
* * *
Когда ее шесть недель в Ленинграде подошли к концу и ей нужно было ехать домой, в Лондон, оказалось, что помимо новых впечатлений, исследовательского материала и привлекательных сувениров она собрала кое-что гораздо более серьезное: сердечное предложение. и рука поэта Иосифа Бродского.
* * *
Она вернулась в Лондон и четыре года спустя вышла замуж за американца, жившего в Англии. В 1972 году, когда Бродский был выслан из СССР, он прилетел в Лондон вместе с великим В. Одена для международного поэтического фестиваля. Вера ожидала первого ребенка. Увидеть ее беременную было для Бродского шоком. Впоследствии она пыталась свести их встречи к минимуму, чтобы не причинять ему беспокойства.
* * *
— В 1978 году мы с мужем расстались.Время от времени я виделся с Иосифом, но всегда оставлял инициативу ему … Однажды он появился с Марией, своей женой. Они приехали в Лондон из Швеции, где только что поженились. Он хотел, чтобы я с ней познакомился.
Он подошел ко мне во время приема в Британской академии, где сказал, что хотел бы, чтобы я встретился с ней, и что она немного похожа на меня, когда я был моложе (это я воспринял как большой комплимент). Насколько я помню, мы с Марией обменялись рукопожатием, но не более того, так много людей умирают от желания поговорить с ними.
Мы также виделись после того, как было объявлено, что он получил Нобелевскую премию. Он был в Лондоне. Я думаю, он останавливался у Дайаны Майерс в Хэмпстеде. Когда он узнал, что ему вручили приз, Диана запланировала праздничный обед, и он пригласил меня. Это был действительно счастливый случай — я должен добавить, что Диана — отличный повар…
— Как вы относитесь к стихотворениям, которые он вам посвятил: это просто стихи Бродского или это поэтические письма Фейт Вигзелл?
— Я не могу рассматривать их как просто стихи Бродского.Я сам их читал.
— Вам вообще нравятся его стихи?
— Больше всего мне нравятся стихи, которые он написал в России, в Ленинграде и на Норенской. Период, когда он начал переводить Джона Донна.
— Какие из его сочинений вам нравятся?
— То, что он написал в Венеции. Водяной знак.
— Вы видели его могилу на острове Сан-Микеле в Венеции?
— Нет.На самом деле, я был в его любимой Венеции всего один раз, когда был молод.
— Однажды мне довелось побывать на Сан-Микеле, когда Венеция была осаждена метелью и надгробие Бродского было покрыто большой грудой снега, как в его любимом Ленинграде…
— Да-да, очень любил снег, особенно большие сугробы…
* * *
Еще немного постояли молча: вспомнил заснеженный Сан-Микеле.Я не могу сказать, о чем она думала. За гостеприимным домом, где мы встретились, был лондонский поздний осенний вечер. Честно говоря, меня переполняло чувство благодарности к Фейт Вигзелл… за то, что Бродский был счастлив с ней, и за то, что она отзывалась о нем с такой теплотой и любовью.
Теперь я думаю, что, прежде всего, это история о судьбе, о судьбе, положившей конец их короткому времени вместе на этой земле. И, возможно, по этой причине такие строки останутся в живых навсегда:
Вот и место нашей встречи.Грот
за туманом. Беседка в облаках.
Теплый и гостеприимный заповедник.
Вид; и один из лучших в этом.
…
Итак, это то, что нам дали.
На время. Навсегда. До могилы.
Невидимы друг для друга, но
оттуда видны оба… **
Юрий Лепский
Российская газета
* Мост прачки (), 1968, перевод Джорджа Клайна (несколько строк опущены)
** Отрывки из «Песни без музыки» (), 1969
Поэзия Иосифа Бродского
В красноречивой дань уважения Иосифу Бродскому, опубликованной почти ровно через месяц после его преждевременной и широко оплакиваемой смерти, Татьяна Толстая в The New York Review of Books цитирует некоторые строки из раннего произведения поэта:
В темноте не найду твой темно-синий фасад
Я упаду на асфальт между пересеченными линиями
Далее она высказывает предположение: «Я думаю, что причина, по которой он не хотел возвращаться в Россию даже на один день, заключалась в том, что это неосторожное пророчество не сбылось.Ученик, в том числе Ахматовой и Цветаевой (он знал их поэтическое суеверие), знал, какой разговор они имели во время их единственной встречи. «Как ты мог это написать. . . . Разве вы не знаете, что слова поэта всегда сбываются? — упрекнул один из них. «А как ты мог это написать? . . ? »Другой был поражен. И то, что они предсказывали, действительно сбылось ».
Не желая казаться мистическим, я думаю, что что-то пророческое можно назвать пророческим в стихах Бродского или, по крайней мере, в двух деталях, одна маленькая, другая большая и призрачная.Первый взят из стихотворения под названием «Пророчество», адресованного неназванной возлюбленной и содержащего следующие строки:
—А если
делаем ребенка, назовем мальчика Андреем,
Анна девочка, так что наша русская речь,
отпечатано на морщинистом личике,
никогда не будет забыт.
Иосиф (так как всем, кто когда-либо знал его, было позволено ласково называть его) был отцом двоих детей, мальчика, родившегося в России, все еще живущего там, с которой он был разлучен из-за вынужденного изгнания, и дочери, родившейся в Америке в его семье. Жена русско-итальянского происхождения Мария.Детей зовут Андрей и Анна.
Более крупное, обширное и важное пророчество воплощено в большом стихотворении «Осенний крик ястреба» (напечатано здесь полностью), к которому Толстая в той же дани замечает: «У него есть стихотворение о ястребе. . . на холмах Массачусетса, который летает так высоко, что поток поднимающегося воздуха не позволяет ему спуститься обратно на землю, и ястреб погибает там, на тех высотах, где нет ни птиц, ни людей, ни воздуха, которым можно дышать ».
К этому краткому комментарию я хотел бы добавить свои собственные.Ветер, с которого начинается стихотворение, — это ветер духа (Иоанна 3: 8), а также ветер вдохновения, необходимый (и разрушительный) элемент, в котором поэт пытается обитать. Птица, находящаяся на пике своего полета, угадывает правду об этом : это конец . Призываются сами Erínyes (Фурии), как если бы
стремление к великим высотам обязательно должно повлечь за собой кара, примером которой является греческая трагедия. И, вторя другой древней традиции, агония и жертва птицы / поэта осаждают нечто прекрасное, первые снежинки зимы, стихи души, выдержавшей суровый климат архангельской России.Блеск, который радует земных детей, был куплен ценой невыносимых страданий и смерти. Должен ли ветер Бродского чем-либо уничтожающему «западному ветру» Перси Биши Шелли, является ли ястреб русского поэта родственником сокола Джерарда Мэнли Хопкинса, темного дрозда Томаса Харди или его слепой птицы — каждый читатель должен определить сам. И неужели это утверждение Райнера Марии Рильке сыграло какую-то роль в мысли Бродского: «Кто не посвятил себя полностью искусству со всеми своими желаниями и ценностями, никогда не достигнет высшей цели.”
В своем сборнике эссе « Less Than One » Бродский так трогательно написал о своей ранней жизни, что я приведу здесь лишь самые скудные биографические подробности. Он родился Иосиф Александрович Бродский 24 мая 1940 года в Ленинграде, единственный ребенок обожаемых и обожаемых родителей, настолько стесненных обстоятельствами, что мальчик бросил школу после девятого класса, чтобы поддержать семью. Он занимал более десятка должностей, включая фрезерного станка, помощника в морге (когда-то он думал, что может захотеть стать врачом), фотографа (одно время работа его отца) и участника геологических экспедиций.Несмотря на ограниченное формальное образование, любовь к поэзии привела его к изучению польского, английского, немецкого, испанского, итальянского и французского языков, а также латыни в стремлении познакомиться со всеми великими поэтическими произведениями мира. Он начал писать собственные стихи в подростковом возрасте и зарабатывал деньги, переводя сербохорватские и испанские стихи на русский язык. Он также перевел стихи Джона Донна и других метафизических поэтов и две пьесы: The Quare Fellow и Розенкранц и Гильденстерн мертвы .В 1964 году он был помещен в «психиатрическую больницу», а затем предстал перед показательным судом по обвинению в «тунеядстве» и написании «антисоветских стихов, развращающих молодежь». На самом деле это означало абсолютное государственное неодобрение поэтического кредо Бродского, выраженного в его Нобелевской лекции: «Произведение искусства, особенно литературное, и стихотворение в частности, обращается к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямую: без посредников — отношений ». Бродский, конечно, имеет в виду не только необходимое отсутствие цензоров, но и потребность в литературе, освобожденной от скрытых (то есть политических) мотивов.Его приговорили к пяти годам унизительных каторжных работ, но после того, как приговор вызвал недвусмысленно осуждающие крики со всего мира, а также в советских интеллектуальных кругах, его «заменили» ссылкой. Он оставил все, что любил: родителей, язык, сына, дом, и, с помощью У.Х. Одена и Академии американских поэтов, под бдительным присмотром начал свою первую преподавательскую работу в Америке, в Мичиганском университете. забота о Карле и Эллендеи Проффер.
Условия изгнания редко бывают легкими, но Бродский, подкрепленный темпераментом, одновременно веселым и язвительно-язвительным, взяв теперь в качестве своей области глобальный ландшафт, холодную галактическую пустоту, весь спектр человеческой истории, яростно приступил к своей поэтической задаче. и неутешительная промышленность.Всего за несколько лет он приобрел международную аудиторию восхищенных читателей, в том числе членов Шведской академии. Это признание сопровождалось блаженным браком с красивой женщиной, наполовину русской, наполовину итальянкой, и рождением дочери по имени Анна, вероятно, в честь «первооткрывателя» и поэтической героини Бродского Ахматовой и во исполнение приносить присягу. Но эти благословения были кратковременными, прерванными его смертью в возрасте 55 лет.
Его стихи не из легких; они также не сложны в привычной манере, скажем, Джона Донна или Уильяма Эмпсона.В своем родном русском языке они соблюдают строгие формальные шаблоны в сочетании с неформальной манерой дикции, которая может быть остроумной и непочтительной и обычно наполнена неожиданными, почти балетными скачками воображения. Русский язык также вызывает игривость, которую ни одна английская версия не может передать так изящно. Так богато обставлены печальные и комедийные аспекты его творчества, его ирония и бравада, что любознательный читатель найдет огромные удовольствия, завидные дары, большие периоды творческой жизни, которые не были потеряны при переводе.За отведенное ему время, отрезанное от вызывающего привыкание курения, которое поставило под угрозу сердце, уже сильно поврежденное каторгой (и в связи с чем он перенес две операции шунтирования и был назначен на третью), он каким-то образом сумел познакомиться как близкий друг с другом. величайших поэтов всех периодов, чтобы чувствовать себя как дома (если, в изгнании, нигде больше), по крайней мере в их требовательной компании, и быть способными поддерживать совместную работу с их лучшими произведениями в том, что следует рассматривать как широко всеобъемлющую многоязычную антологию он был склонен почти точно наизусть.
* * * * * *
Письмо археологу
Гражданин, враг, маменькин сынок, лох
мусор, попрошайка, свинья, refujew , verrucht ;
кожа головы, которую часто ошпаривают кипятком
, что этот маленький мозг чувствует себя полностью приготовленным.
Да, мы здесь поселились: в этом бетоне, кирпиче, дереве
щебня, который вы сейчас приедете просеивать.
Все наши провода были скрещены, зазубрены, запутаны или переплетены.
Также: мы не любили своих женщин, но они зачали.
Sharp — это звук кирки, которая ранит мертвое железо;
, тем не менее, это мягче, чем то, что нам сказали или сказали сами.
Незнакомец! двигайтесь осторожно через нашу падаль:
то, что вам кажется падалью, — это свобода для наших клеток.
Оставьте наши имена в покое. Не восстанавливайте эти гласные,
согласных и так далее: они не будут похожи на жаворонков
, но сумасшедший ищейка, пожирающий пасть
его собственные следы, фекалии, и кора, и кора.
О любви
Дважды я просыпался сегодня вечером и бродил по
окно. И огни на улице,
вроде бледные точки упущения, пытался завершить
фрагмент предложения, произнесенного через
спят, но тоже растворились в темноте.
Приснилось, что ты беременна, а хоть
прожить столько лет друг от друга
Я все еще чувствовал себя виноватым, и моя воодушевленная ладонь
ласкал твой живот, как у постели
нащупал мои брюки и свет —
выключатель на стене.И с включенной лампочкой
Я знал, что оставлю тебя одну
там, в темноте, во сне, где спокойно
вы ждали, когда я вернусь,
не пытается меня упрекнуть или ругать
за неестественный перерыв. Для
тьма восстанавливает то, что не может исправить свет.
Вот и поженились, блаженствовали, еще раз делаем
зверь двоякий и дети ярмарка
оправдание того, для чего мы голые.
Когда-нибудь в грядущую ночь ты снова появится.
Ты придешь ко мне, измученный и худой, после
вещей между ними, и я увижу сына или дочь
пока не назван. На этот раз сдержу
Моя рука не нащупывает выключатель, боюсь
и ощущение, что не имею права
, чтобы оставить вас обоих, как тени от этого сервера —
забор дней, которые закрывают глаза,
безмолвный, отрицаемый настоящим светом
, который навсегда делает меня недостижимым.
Одиссей — Телемах
Мой дорогой Телемах,
Троянская война
закончился; Не помню, кто его выиграл.
Греки, несомненно, потому что только они оставят
столько погибших так далеко от своей родины.
Но все же мой путь домой оказался слишком долгим.
Пока мы там теряли время, старый Посейдон,
это почти кажется, растянутое и расширенное пространство.
Я не знаю, где я и что это за место
может быть. Казалось бы какой-то грязный остров,
с кустами, зданиями и большими хрюкающими свиньями.
Сад, заросший сорняками; та или иная королева.
Трава и огромные камни. . . Телемах, сын мой!
Страннику лица всех островов
похожи друг на друга. И разум
поездки, нумерация волн; глаза, больные от морских горизонтов,
пробега; и плоть воды набивает уши.
Не могу вспомнить, как закончилась война;
даже сколько тебе лет — не помню.
Расти, мой Телемах, крепни.
Только боги знают, увидимся ли мы
снова. Вы давно перестали быть этой малышкой
, перед которым я сдерживал пашню быков.
Если бы не уловка Паламеда
мы двое по-прежнему будем жить в одном доме.
Но, может быть, он был прав; подальше от меня
вы вполне защищены от всех эдиповых страстей,
и твои мечты, мой Телемах, безупречны.
Ястребиный крик осенью
Ветер северо-западного квартала поднимает его высоко над
голубовато-серый, малиновый, умбра, коричневый
Долина Коннектикута. Далеко внизу,
цыплят изящно останавливаются и двигаются
невидимый во дворе ветхого дома
усадьба; бурундуки сливаются с пустошью.
Сейчас дрейфует в воздушном потоке, развернут, один,
все, что он видит — холмы высокие, неровные
хребтов, серебряный ручей, пронизывающий
дрожит, как живая кость
стальной, с сильными выемками с порогами,
поселки, похожие на бусы
разбросаны по Новой Англии.Спустившись до нуля
термометра — эти домашние боги в нишах —
замораживание, препятствуя тем самым возгоранию
листьев и шпилей церквей. Тем не менее,
церквей для него нет. На ветреных просторах,
, о котором не мог мечтать праведнейший хор,
он парит в кобальтово-синем океане с зажатым клювом,
его когти крепко вцепились в живот
— когти сжаты, как затонувший кулак —
обнаружение в каждом пучке нисходящей тяги
снизу, блестящая ягода
его глазного яблока, направляясь на юг-юго-восток
до Рио-Гранде, Дельты, буковых рощ и еще дальше:
в гнездо, спрятанное в могучем колодце
травы, краям которой не верят пальцы,
затонуло среди запахов леса, залито
с осколками красной яичной скорлупы,
с призраком брата или сестры.
Сердце, заросшее плотью, пух, перо, крыло,
пульсирует с лихорадочной частотой, безостановочно,
приводится в движение внутренним теплом и чувством,
птица идет резать и резать ножницами
осенняя голубизна, но тем же быстрым знаком,
увеличивая за счет
его коричневатого пятнышка, едва заметного на глазу,
точка, скользящая далеко над возвышенным
сосна; за счет пустого вида
ребенка, выгибающегося к небу,
та пара, которая вышла из машины и подняла
их головы, та женщина на крыльце.
Но порыв воздуха все еще поднимает его
выше и выше. Его перья на животе
чувствую покусывающий холод. Взгляд вниз,
он видит, что горизонт тускнеет,
он как бы видит черты
из первых тринадцати колоний, в которых
Из всех трубдым выходит. Тем не менее, их общее количество в пределах его поля зрения
., который сообщает птице о его высоте,
высоты, на которой он достиг этого путешествия.
Что я делаю на такой высоте?
Он чувствует смесь беспокойства
и гордость. Крен над кончиком
крыла, он резко падает. Но упругий воздух
отбрасывает его назад, взлетая к славе,
к бесцветному ледяному самолету.
Его желтый зрачок внезапно бросает взгляд
ярости, то есть смесь ярости
и террор. Итак, еще раз
он поворачивается и падает.Но как стены возвращаются
резиновых мяча, как грехи приводят грешника к вере или приближению,
, на этот раз он тоже взлетел!
Он! чьи внутренности еще такие теплые!
Еще выше! В какую-то проклятую ионосферу!
Этот астрономически объективный ад
птиц, которым не хватает кислорода, и где мелькают звезды
Пшено пластовое подается из тарелки или полумесяца.
Что для двуногих всегда означало
Высота, для пернатых — реверс.
Не с его маленьким мозгом, а со сморщенными воздушными мешочками
он догадывается: это конец.
И тут он кричит. Из крючковидного клюва
там рвет и летает ad luminem
звук, который Erínyes издает, чтобы раздирать
душ: механический невыносимый вопль,
визг стали, пожирающей алюминий;
«механический», так как это означало
.никому, ни живым ушам:
не мужская, не лающая лиса,
Белки не спешат на землю
из филиалов; не для крошечных полевых мышей, слезы которых
нельзя отомстить таким образом, что вынуждает
их в свои норы.И только гончих
поднимают морды. Пронзительный пронзительный визг,
кошмарнее, чем заточка D-диез
алмазного стекла,
рассекает все небо. И мир, кажется, наматывает
на мгновение, содрогаясь от этого разрыва.
Для тепла горит пространство на высшем уровне
плохо, как здесь какой-то железный забор
брендов неосторожных пальцев без перчаток.
Мы, стоя на месте, восклицаем
«Вот!» и смотри выше слезы
, то есть ястреб, и слышите звук, который затягивается
вейвлетами, моток паука
раздувающиеся банкноты в виде ряби на синем своде космоса
, отсутствие эхо-заклинаний, особенно в октябре
апофеоз чистого звука.
И пойманный в этом кружеве с небесным узором,
звездчатый, усыпанный инеем,
в серебре, в кристаллах,
птица плывет в зенит, на синюю высоту
лазурного.В бинокль мы предсказали
его, сверкающая точка, жемчужина.
Мы слышим, как что-то звенит в небе,
, как будто сломалась какая-то семейная посуда,
медленно падающая вихрь,
, но его осколки, когда они достигают наших ладоней, не повреждают
, но тает при обращении. И в мгновение ока
еще раз разглядывают завитки, петельки, завязки,
радужный, разноцветный, размытый
запятые, эллипсы, спирали, связывающие
головки ячменя, концентрических колец —
яркий рисунок, которым когда-то обладало перо,
карта, теперь просто куча летающих
светлые хлопья, из-за которых появляется зеленый склон
белый.И дети, смеющиеся и ярко одетые,
рой на улицу, чтобы поймать их, плача
с громким криком на английском: «Зима здесь!»
.