Чем менее история правдива тем больше она доставляет удовольствия эссе: «Чем менее история правдива, тем больше она доставляет удовольствия» Объясните получше это
Дело не только в красоте: почему нас привлекает искусство
Искусство доставляет эстетическое удовольствие, повышает настроение, однако это лишь малая часть положительного эффекта. Влияние художественных произведений на самом деле гораздо сильнее: они способны повысить уровень эмпатии, помогают понимать собственные эмоции, учат работать с негативными переживаниями и не только. В своем эссе профессор психологии Бостонского колледжа и автор книги «Как работают произведения искусства: психологическое исследование» Эллен Виннер отвечает на два вопроса: почему нас тянет к искусству и как на нас влияет творчество. Сделали адаптированный перевод, из которого вы узнаете, почему люди не принимают точные копии шедевров, зачем необходимо испытывать негативные эмоции и смотреть на страдающих персонажей и как благодаря искусству меняется наше поведение.
Почему мы не принимаем копии художественных произведений
Предположим, вы внимательно разглядываете «Автопортрет» Рембрандта, который висит в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. А позже вам говорят, что эта картина была выполнена машиной. Вы сразу почувствуете, что картина что-то утратила. Или представим другую ситуацию. Недавно в тропических лесах Амазонки были найдены тысячи картин, примерный возраст которых составляет 12 500 лет. На них изображены танцующие люди, лошади и гигантские ленивцы. Если бы картины оказались подделкой, мы бы не испытывали тех острых ощущений, которые возникают, когда мы представляем доисторических людей, делавших эти рисунки.
А позже вам говорят, что эта картина была выполнена машиной. Вы сразу почувствуете, что картина что-то утратила. Или представим другую ситуацию. Недавно в тропических лесах Амазонки были найдены тысячи картин, примерный возраст которых составляет 12 500 лет. На них изображены танцующие люди, лошади и гигантские ленивцы. Если бы картины оказались подделкой, мы бы не испытывали тех острых ощущений, которые возникают, когда мы представляем доисторических людей, делавших эти рисунки.
Для меня как психолога с опытом работы в области искусства страсть к нему поднимает два фундаментальных вопроса. Во-первых, почему нас так тянет к произведениям искусства? Ведь дело, на самом деле, не только в красоте. И, во-вторых, как на нас влияет занятие искусством?
У меня есть несколько предположений. Нас привлекают произведения искусства, потому что они напрямую связывают нас с воображением художника. Мы автоматически вкладываем в произведение искусства тайный смысл. Когда мы смотрим на Рембрандта, нам кажется, что мы читаем его послание. Мазки кистью подсказывают, как двигалась его рука, когда он рисовал, по ним можно узнать, в каком ментальном состоянии находился художник, когда создавал этот образ. Аналогичная реакция возникает у нас, когда мы смотрим на наскальные рисунки и пытаемся представить, что эти доисторические художники думали и чувствовали при создании этих изображений.
Мазки кистью подсказывают, как двигалась его рука, когда он рисовал, по ним можно узнать, в каком ментальном состоянии находился художник, когда создавал этот образ. Аналогичная реакция возникает у нас, когда мы смотрим на наскальные рисунки и пытаемся представить, что эти доисторические художники думали и чувствовали при создании этих изображений.
Безусловно, люди не любят подделки. Два документальных фильма, «Driven to Abstraction» (2019) и «Повеселись! Подлинная история поддельных произведений искусства: сведения» (2020), исследуют самый крупный скандал в истории искусства. За более чем 10 лет, начиная с 1994 года, женщина, которая сказала, что она представляет богатого коллекционера, принесла не менее 40 картин в престижную галерею Кнедлер в Нью-Йорке. Картины были написаны самыми известными художниками XX века — Марком Ротко, Джексоном Поллоком, Робертом Мазервеллом, Францем Клайном, Клиффордом Стиллом и другими. Галеристка сообщила, что была поражена красотой этих работ. Она купила их все по низким ценам, а затем Кнедлер продал их на аукционе за многие миллионы.
Галерея просмотрела или скрыла тот факт, что картины не имели никаких доказательств того, что они были собственностью анонимного коллекционера. Хотя некоторые искусствоведы заявляли, что работы выглядят аутентичными, другие с ними не соглашались. Тем не менее картины были проданы на аукционе за 70 миллионов долларов, и большая часть мира элитного искусства оказалась обманута. Мало-помалу правда вышла наружу, закончившись признанием женщины в суде: она сообщила, что картины были подделками, сделанными Пей-Шен Цянем, художником из Китая.
Обманутые коллекционеры были возмущены. Но если они приобрели картины и сочли их захватывающими, то какая разница? Конечно, дело в стоимости работ. А также в том, что красивая картина перестает быть привлекательной, когда мы знаем, что это подделка, и тем самым придаем ей оттенок фальсификации и аморальности. Однако есть еще одна причина нашей неприязни к подделкам.
Репродукции и подделки картин, независимо от их качества, не позволяют нам почувствовать, что мы напрямую общаемся с художником посредством его работы
Моя исследовательская группа провела эксперимент. Нам нужно было выяснить, как можно спасти подделку от потери денежной ценности. Мы предположили, что прекрасная копия, сделанная помощником художника, но подписанная им самим, будет привлекать людей. Мы сказали участникам, что использование ассистентов является обычной практикой в мире искусства, а также показали копию оригинала, сделанную художником. Ключевой вопрос заключался в том, обесценивалась ли работа, созданная помощником, в сравнении с копией, выполненной художником. В результате дубликат художника участники оценили выше, чем копию, сделанную ассистентом.
Нам нужно было выяснить, как можно спасти подделку от потери денежной ценности. Мы предположили, что прекрасная копия, сделанная помощником художника, но подписанная им самим, будет привлекать людей. Мы сказали участникам, что использование ассистентов является обычной практикой в мире искусства, а также показали копию оригинала, сделанную художником. Ключевой вопрос заключался в том, обесценивалась ли работа, созданная помощником, в сравнении с копией, выполненной художником. В результате дубликат художника участники оценили выше, чем копию, сделанную ассистентом.
Люди верят в то, что в момент их создания художники наполняют свои работы собственной сущностью — даже если речь идет о копиях оригинала. Психолог Пол Блум писал об этой иррациональной вере: наше предпочтение объектов с определенной историей объясняется магическим мышлением эссенциализма. Вера в то, что определенные предметы обладают какой-то силой в связи с их сентиментальной ценностью, объясняет наше предпочтение оригиналов их идеальным копиям. Если вы потеряете обручальное кольцо, вы не будете удовлетворены его точной заменой. Если ребенку взамен потертого плюшевого мишки дадут нового, его не утешит такой подарок.
Если вы потеряете обручальное кольцо, вы не будете удовлетворены его точной заменой. Если ребенку взамен потертого плюшевого мишки дадут нового, его не утешит такой подарок.
В случае с произведением искусства вера в сущность художника — это то, что позволяет нам почувствовать, что мы связаны с его воображением и духом. Страсть к оригиналам порой становится абсурдной. Например, из-за повального увлечения NFT (невзаимозаменяемыми токенами)❓Вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном. коллекционеры тратили огромные суммы на уникальное «владение» цифровым произведением искусства, которое каждый может скачать бесплатно. Поскольку оригиналов среди дигитальных файлов не существует, художник может сертифицировать определенный файл как единственную «оригинальную копию» и заработать на этом состояние.
Однако на Востоке к оригиналам относятся иначе. Например, в Китае и Японии допустимо создавать точные копии, и они ценятся так же, как и оригинал.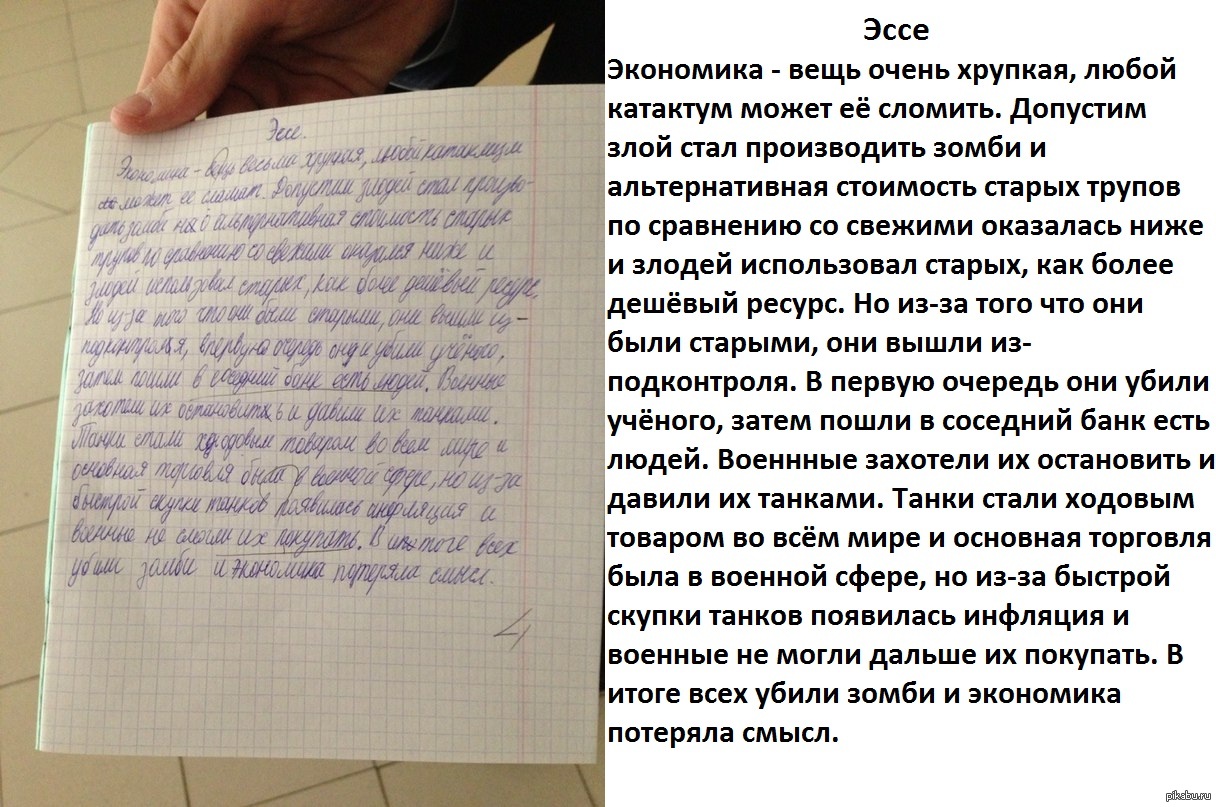 Тем более что старая работа может со временем разрушиться, а ее дубликат покажет первоначальный вид во всей красе.
Тем более что старая работа может со временем разрушиться, а ее дубликат покажет первоначальный вид во всей красе.
Как на нас воздействует искусство
Обратимся ко второму вопросу. Как на нас влияет искусство? Очевидно, оно положительно воздействует на наше психическое здоровье, делает нас более чуткими, повышает уровень эмпатии.
Несмотря на то что восприятие искусства не является биологической потребностью, оно важно для развития и процветания человека. Во-первых, искусство может рассматриваться как способ абстрагироваться от неприятных событий. Аристотель считал, что трагедии действуют на нас через катарсис — они вызывают боль и страх, после чего наступает облегчение, — а арт-терапевты используют искусство, чтобы помочь людям справиться с различными травмами. Но есть противоположный способ воздействия на нас искусства — побег. Когда искусство позволяет нам убежать от действительности, оно переносит нас из повседневного мира в другую реальность. Вот почему многие из нас не могут заснуть, не перейдя в вымышленный мир, будь то мир романа или сериала.
Благоприятные эмоциональные эффекты искусства были продемонстрированы в работе психолога Дженнифер Дрейк, профессора Бруклинского колледжа. Когда взрослых и детей просили вспомнить травмирующий опыт, а затем нарисовать рисунок, они сообщали о положительном изменении настроения, потому что, во-первых, искусство помогает отвлечься от печальных мыслей.
Во-вторых, искусство позволяет понять отрицательные эмоции. Философы давно задавались вопросом, почему нам нравятся произведения, изображающее страдание, в то время как мы стараемся избежать их в реальной жизни. Почему нас привлекает «Автопортрет» Рембрандта, где изображен задумчивый обеспокоенный старик? Наслаждаемся ли мы грустью, которую провоцирует в нас эта работа?
Талия Голдштейн, доцент Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии, пыталась выявить разницу между переживанием личной печали и переживанием грусти, возникшей при взаимодействии с произведением искусства. Она попросила людей оценить свои чувства, когда они думали о собственном травмирующем опыте и когда смотрели трагические кинокартины. Респонденты одинаково грустили как от фильмов, так и от личных воспоминаний, однако отличие заключалось в том, что печаль, возникшая при просмотре фильмов, не сопровождалась чувством тревоги.
Респонденты одинаково грустили как от фильмов, так и от личных воспоминаний, однако отличие заключалось в том, что печаль, возникшая при просмотре фильмов, не сопровождалась чувством тревоги.
Искусство заставляет нас испытывать негативные эмоции в безопасной обстановке. Их переживания не имеют последствий в реальной жизни
Психолог Пол Розин назвал это явление «доброкачественным мазохизмом». Принимая отрицательные эмоции, мы лучше их понимаем, но тогда можно задаться следующим вопросом: если искусство связывает нас с разумом Cоздателя, разве это не форма сочувствия? Ведь в результате подключения к ментальным состояниям других мы становимся более эмпатичными.
Философ Марта Нуссбаум твердо убеждена в том, что литература тренирует нашу способность представлять себя на месте других и это делает нас более чуткими. В радиоинтервью нейробиолог Джамил Заки, исследователь эмпатии из Стэнфордского университета в Калифорнии, сказал, что он считает «множество различных форм искусства учебным лагерем по эмпатии» и, если вы видите картину, на которой кого-то бьют, «вы принимаете это состояние». Чтение литературы и просмотр фильмов, театральных постановок, картин заставляет нас проявлять сочувствие: мы ставим себя на место другого персонажа и становимся более человечными.
Чтение литературы и просмотр фильмов, театральных постановок, картин заставляет нас проявлять сочувствие: мы ставим себя на место другого персонажа и становимся более человечными.
Следующий вопрос заключается в том, может ли искусство в корне изменить наше поведение после того, как мы закроем страницы романа или уйдем из галереи. Зависит от регулярности чтения, прослушивания музыки, просмотра театральных постановок, фильмов и так далее. Безусловно, одна книга не сделает нас более эмпатичными.
Сочувствие может заставить нас быть более сострадательными. Но может быть и наоборот. Знание того, что чувствует другой человек, также помогает понять, как можно заставить его страдать. И, конечно же, нам довольно часто напоминают о том, что многие преступники любили искусство, литературу и музыку. Так что, хотя занятие искусством может повысить уровень эмпатии, нет никакой гарантии, что в будущем мы не нанесем вред другим людям.
Итак, нас тянет к искусству по многим причинам, но одна из наиболее веских — это ощущение, что мы взаимодействуем с воображением великого художника. Что касается искусства, то оно положительно влияет на наше настроение, позволяет нам понимать отрицательные эмоции, повышает уровень эмпатии. Но независимо от того, проявляем ли мы сочувствие к художнику или персонажам, подлинное искусство меняет наше поведение, даже когда мы покидаем музей, театр или закрываем книгу.
Что касается искусства, то оно положительно влияет на наше настроение, позволяет нам понимать отрицательные эмоции, повышает уровень эмпатии. Но независимо от того, проявляем ли мы сочувствие к художнику или персонажам, подлинное искусство меняет наше поведение, даже когда мы покидаем музей, театр или закрываем книгу.
Уроки говорения. Эссе о немецком сказочнике Михаэле Энде / Культура / Независимая газета
Скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» в сквере Репина. Фото агентства «Москва»
Выдающийся немецкий писатель Михаэль Энде (1929–1995) надел костюм сказочника, но в душе – философ, и гораздо более серьезный, чем рядовой размышляющий автор. При этом он умеет вплетать сложные мысли в стремительно развивающийся сюжет. Верхний слой – захватывающая приключенческая история. Вчитаешься, проскользнешь между строк в белизну бумаги и обнаружишь притчу, отголоски которой еще не один год будут всплывать в сознании и помогать советом в трудных ситуациях. «Старомодным» писателя не назовешь, но и слово «современный» с ним как-то не вяжется. И все же то, о чем говорит Энде «вечным» языком аллегорий и метафор, – очень важные вопросы именно для нашей эпохи. Это тоже веская причина читать его произведения. И не только детям – читать их в одиночестве, «для себя» не менее интересно. Это эссе – размышление о судьбе сказочника, его философии и, пожалуй, двух главных книгах – «Момо» и «Бесконечная история». Но, конечно, не только об этом.
«Старомодным» писателя не назовешь, но и слово «современный» с ним как-то не вяжется. И все же то, о чем говорит Энде «вечным» языком аллегорий и метафор, – очень важные вопросы именно для нашей эпохи. Это тоже веская причина читать его произведения. И не только детям – читать их в одиночестве, «для себя» не менее интересно. Это эссе – размышление о судьбе сказочника, его философии и, пожалуй, двух главных книгах – «Момо» и «Бесконечная история». Но, конечно, не только об этом.
Как выглядит настоящий читатель
В начале «Бесконечной истории» нескладный мальчик с каким-то нездешним, слишком музыкальным именем Бастиан Бальтазар Букс, скрываясь в лавке букиниста от постоянно задирающих его одноклассников, находит… эту самую «Бесконечную историю». С ней он прячется от скучных уроков, отстраненного отца и извечных обидчиков на школьный чердак, где неотрывно читает, постепенно проваливаясь из неприветливой реальности в мир книги. Впрочем, «читает» не самое удачное слово.
Идеальный читатель в представлении сказочника должен быть как раз таким Бастианом – нырнул в книгу и прожил ее от начала до конца, не сдавшись маленьким цепким отвлечениям. Если так, то легко вообразить и его антипода. Он будет равнодушно скользить глазами по тексту, спешить, пропуская детали и каждый раз сверяясь с номером страницы. Разговор получится поверхностным. Слова останутся плоскими и беззначными, а герои, суетясь, будут проноситься по страницам вхолостую. Как пассажиры в автобусе: обменяются двумя-тремя репликами и разойдутся без сожаления – такое себе общение.
Он будет равнодушно скользить глазами по тексту, спешить, пропуская детали и каждый раз сверяясь с номером страницы. Разговор получится поверхностным. Слова останутся плоскими и беззначными, а герои, суетясь, будут проноситься по страницам вхолостую. Как пассажиры в автобусе: обменяются двумя-тремя репликами и разойдутся без сожаления – такое себе общение.
Не знаю, каким читателем были вы, если уже прочли, конечно. Я вот, к сожалению, серединка на половинку. В выходные – да, можно сосредоточиться, но в будни… Читаешь в метро, пересадка – и всё, выпал. Снова попробовал, но через одну уже выходить. Или, допустим, взялся на ночь. 20 страниц – дальше усталость берет верх. Думаю, собеседники вроде Бастиана сейчас редкость. Сложно нырнуть в книгу, когда вокруг так много всего и это всё так быстро меняется…
К теме разговора мы еще вернемся.
Забытый сюрреалист и церковь Святого Николая в Гамбурге
Михаэль Энде родился в 1929 году в небольшом городке на самом юге Баварии, но пожить в горах не успел: семья перебралась в Мюнхен. Отцом писателя был художник-сюрреалист Эдгар Энде. Его имя стало довольно известным в Германии как раз в начале 1930-х. Картины впечатляли критиков и коллекционеров. Некоторые работы даже приобрела Баварская академия изящных искусств – серьезное признание для автора, которому едва перевалило за 30. Вряд ли кто-то мог представить, что этот многообещающий старт обернется катастрофой всего через несколько лет.
Отцом писателя был художник-сюрреалист Эдгар Энде. Его имя стало довольно известным в Германии как раз в начале 1930-х. Картины впечатляли критиков и коллекционеров. Некоторые работы даже приобрела Баварская академия изящных искусств – серьезное признание для автора, которому едва перевалило за 30. Вряд ли кто-то мог представить, что этот многообещающий старт обернется катастрофой всего через несколько лет.
Вскоре после прихода к власти Гитлера началось «очищение» страны от художественного авангарда. Работы живописцев-экспериментаторов конфисковывали из музейных собраний. Их объявляли «дегенеративными» и клеймили на специальных «позорных» выставках с названиями вроде «Искусство, чуждое нашим душам». А потом в лучшем случае продавали за рубеж, в худшем – уничтожали. Такую судьбу разделили и многие картины Эдгара Энде. Ему самому запретили профессионально заниматься живописью и показывать свои произведения. А сохранившаяся часть наследия погибла в 1944-м, во время бомбардировок Мюнхена.
Одно из самых сильных впечатлений от Гамбурга, где родился Эдгар Энде, – неоготическая церковь Святого Николая. Вернее, ее руины – высокая колокольня и фрагменты стен, местами почерневшие от пожара. Остальное летом 1943-го стерли бомбардировки – операция «Гоморра», в ходе которой город был разрушен. Погибло около 45 тысяч человек. Более 100 тысяч получили ранения, примерно миллиону пришлось покинуть Гамбург. Со временем останки церкви превратили в мемориал. Здесь установили скульптуры, посвященные жертвам войны и разместили мозаику Ecce Homo, созданную в 1970-х уже совсем пожилым художником Оскаром Кокошкой – в 1930-е его живопись тоже громили на выставках «дегенеративного искусства»… Но сильнее всего действуют сами руины – обугленный столп колокольни, обломки арок и скелет резного декора в пустых окнах. А вокруг медленно, с усталым спокойствием человека, долго боровшегося за нормальную жизнь и потратившего на эту борьбу все силы, живет возведенный заново Гамбург.
Вещи, которые кажутся безвозвратно утраченными, иногда возвращаются, меняя вид, а порой и значение. Так, руины церкви Святого Николая стали памятником катастрофе и той чудовищной цене, которую людям пришлось заплатить за освобождение от античеловеческой идеологии. Живопись Эдгара Энде сейчас почти забыта. И все же в книгах его сына она живет и продолжается.
Главные события историй Михаэля Энде происходят в промежутке между героем и окружающим его пространством – в области восприятия. Внешний мир у сказочника – вовсе не молчаливый, «плотный» пейзаж, необходимый лишь для того, чтобы герою было где действовать. Скорее, тонкая пленка знакомых предметов – город, машины, прохожие, – а сквозь нее постоянно проглядывает почти не поддающаяся языку живая неизвестность, которая оказывается гораздо существеннее видимого.
Но при чем тут полотна отца? На рубеже XIX-XX веков многие художники, писатели и мыслители остро ощутили, что прагматичное повседневное сознание подменяет подлинную реальность упрощенной «механической» картинкой. А она, в свою очередь, искажает взаимодействие людей с миром и друг с другом. Создавая в своих работах образы бессознательного, сюрреалисты, и вместе с ними старший Энде, пытались освободиться от диктатуры повседневного сознания и таким образом прорваться к собственному, ускользающему от оформления и понимания психологическому миру. Этот прорыв «к себе» одновременно оказывался выходом и к сложной, почти неизвестной реальности, отделенной от человека лишь рамкой его самоощущения.
В детстве Михаэль много разговаривал с отцом. Возможно даже, в этих беседах он и получил настоящее образование, потому что со школой отношения не сложились. Учился Энде крайне плохо, оставался на второй год, и только когда оказался в вальдорфской школе, дело пошло на лад. С отцом Михаэль смотрел и обсуждал картины. Вместе они читали немецких литераторов и мыслителей, в основном романтического и мистического толка, общались с близкими по духу философами. Конечно, это образование не было систематическим. Но оно давало самое главное – осознанный и глубокий взгляд, восприимчивость и привычку самостоятельного мышления.
Еще один «учитель» – мюнхенский сосед, художник Фанти. И здесь вновь вспоминается переродившаяся церковь Святого Николая. Картины Фанти, если они и вправду существовали, потерялись. Остались только имя, всплывающее в рассказах о детстве сказочника, и красивая легенда. Художник – фантазер и маргинал, изрисовавший стены своего дома выдуманными персонажами. Дети такого, разумеется, обожали. Фанти развлекал юных гостей фантастическими историями, которые изобретал на ходу. И разумеется, живость и энергия его воображения остались в памяти Энде. Не отсюда ли вырос сказитель Джиги-Гид из книжки «Момо»?
И здесь вновь вспоминается переродившаяся церковь Святого Николая. Картины Фанти, если они и вправду существовали, потерялись. Остались только имя, всплывающее в рассказах о детстве сказочника, и красивая легенда. Художник – фантазер и маргинал, изрисовавший стены своего дома выдуманными персонажами. Дети такого, разумеется, обожали. Фанти развлекал юных гостей фантастическими историями, которые изобретал на ходу. И разумеется, живость и энергия его воображения остались в памяти Энде. Не отсюда ли вырос сказитель Джиги-Гид из книжки «Момо»?
Завоеватели и собеседники
В «Момо» загадочные Серые господа в роскошных автомобилях и обязательно с сигарами, воруют у людей время. Серьезные, отстраненные, словно рекламные плакаты, внушающие холодноватое восхищение – а как еще нужно выглядеть, если хочешь завлечь человека в сомнительную авантюру? Серые господа убеждают людей «ускориться» и начать экономить время своей жизни. Время – деньги, как говаривал Бенджамин Франклин. Чем быстрее добьешься успеха, тем дольше сможешь наслаждаться счастливой глянцевой жизнью. А Серые господа сэкономленное якобы сохранят в своей Сберкассе. Вот только на самом деле они питаются временем.
Чем быстрее добьешься успеха, тем дольше сможешь наслаждаться счастливой глянцевой жизнью. А Серые господа сэкономленное якобы сохранят в своей Сберкассе. Вот только на самом деле они питаются временем.
В «Бесконечной истории» беда происходит в стране Фантазии. Таинственное Ничто постепенно поглощает ее. Только мальчик из нашего мира, тот самый читатель Бастиан, может стать спасителем. Потому что Фантазия разрушается из-за отсутствия гостей, то есть из-за нас с вами, которые почему-то совсем перестали в нее заглядывать. Эти разные катастрофы, в сущности, очень похожи. Энде пишет о каком-то глубинном нарушении в восприятии современного человека и тех отношениях, которые он выстраивает с реальностью. А герои обеих книг ищут способы это нарушение преодолеть. Но в чем особенность этих персонажей? Почему сказочник возлагает столь ответственную миссию именно на них?
Бастиан – идеальный читатель. Это еще в самом начале выяснили. Момо – девочка-сирота, живущая в руинах старинного амфитеатра и неожиданно нашедшая множество друзей. А все потому что ее дар – умение слушать. Разговаривая с ней, люди вдруг становятся умнее и находят правильные решения для своих житейских трудностей, хотя сама она не говорит им ничего особенного – просто оказывается внимательной (и это уже совсем не «просто»!). Что же касается игр с юными визитерами, то здесь фантазии Момо нет равных. Она умеет изобрести такое приключение, что игроки и разразившуюся над ними грозу не заметят. А что, собственно, отличает ее, идеального слушателя, от идеального читателя Бастиана? Если присмотреться, эти герои очень похожи. Хороший слушатель, как и настоящий читатель, тоже превращает чужие слова в свои – переводит на личный язык, переосмысляет и проживает их, превращаясь в соавтора-собеседника. Он настроен на внутренний диалог со всем окружающим, которое, раз уж с ним можно разговаривать, неизбежно оказывается одушевленным.
А все потому что ее дар – умение слушать. Разговаривая с ней, люди вдруг становятся умнее и находят правильные решения для своих житейских трудностей, хотя сама она не говорит им ничего особенного – просто оказывается внимательной (и это уже совсем не «просто»!). Что же касается игр с юными визитерами, то здесь фантазии Момо нет равных. Она умеет изобрести такое приключение, что игроки и разразившуюся над ними грозу не заметят. А что, собственно, отличает ее, идеального слушателя, от идеального читателя Бастиана? Если присмотреться, эти герои очень похожи. Хороший слушатель, как и настоящий читатель, тоже превращает чужие слова в свои – переводит на личный язык, переосмысляет и проживает их, превращаясь в соавтора-собеседника. Он настроен на внутренний диалог со всем окружающим, которое, раз уж с ним можно разговаривать, неизбежно оказывается одушевленным.
«Момо терпеливо выслушивала всех: собак и кошек, цикад и жаб. Она умела прислушиваться к шуму дождя и шороху ветра в листве.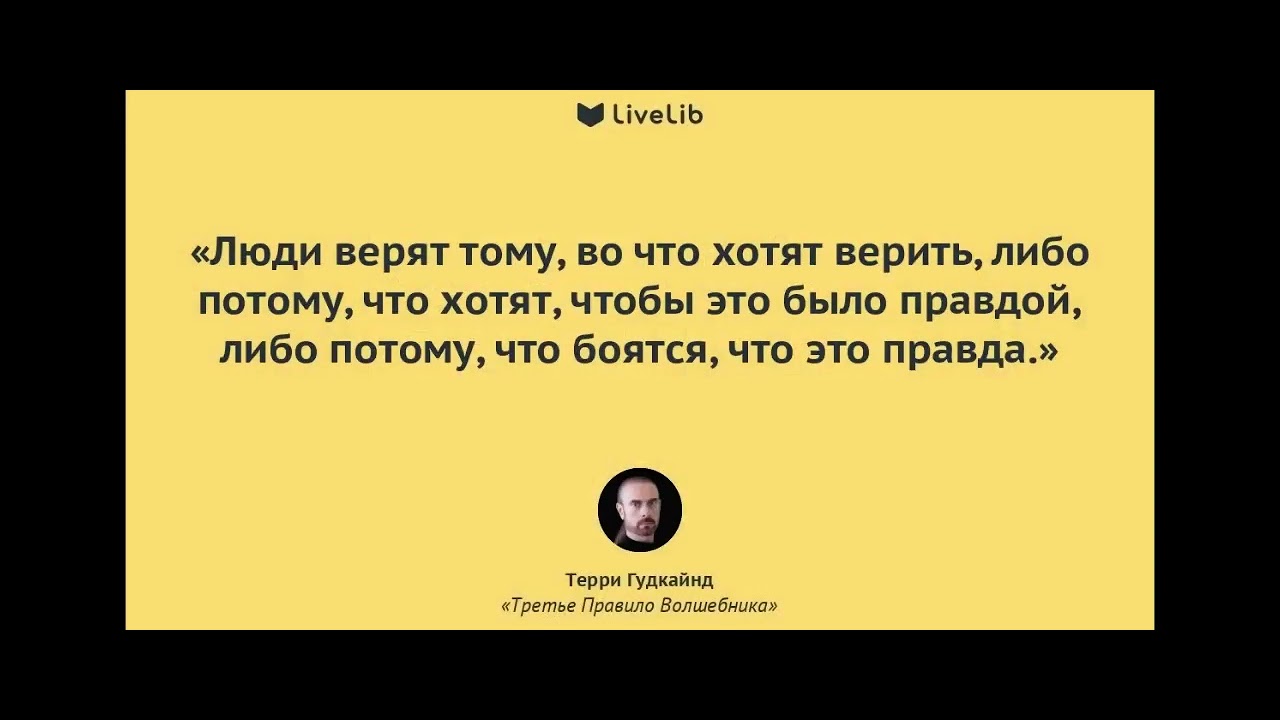 И всяк рассказывал ей о чем-нибудь на свой лад. Вечерами, когда ее друзья расходились по домам, Момо еще долго сидела в середине амфитеатра, над которым простирался мерцающий звездами купол неба, и просто слушала тишину. Ей представлялось, что сидит она в середине огромной ушной раковины, внимающей музыке звезд. И казалось ей тогда, что она слышит тихую, но мощную музыку, доходящую до сердца». (Цитата из «Момо».)
И всяк рассказывал ей о чем-нибудь на свой лад. Вечерами, когда ее друзья расходились по домам, Момо еще долго сидела в середине амфитеатра, над которым простирался мерцающий звездами купол неба, и просто слушала тишину. Ей представлялось, что сидит она в середине огромной ушной раковины, внимающей музыке звезд. И казалось ей тогда, что она слышит тихую, но мощную музыку, доходящую до сердца». (Цитата из «Момо».)
Еще одна особенность Бастиана, Момо и ее друзей – их отношения со временем. Вечно спешащие и высчитывающие выгоды каждого спешного шага Серые господа наверняка были бы возмущены, узнав, что некий Бастиан из совсем другой сказки просидел весь день с бесполезной книгой на школьном чердаке. Момо и ее странная команда – пожилой и мудрый подметальщик Беппо и уже упоминавшийся фантазер-сказитель Джиги-Гид – тоже никуда не торопятся. Да и живут они как будто бесцельно. Момо веселит и утешает гостей, Беппо метет улицы, а Джиги-Гид травит байки заезжим туристам. Но что дальше? Никакого плана действий и настоящей цели в конце.
Но что дальше? Никакого плана действий и настоящей цели в конце.
Объяснение можно найти в размышлениях подметальщика Беппо:
«Вот ты видишь перед собой очень длинную улицу. И думаешь: какая же она длинная! Никогда ее не одолеть, думаешь ты… И тогда ты начинаешь спешить. И спешить все сильнее. А поглядев вперед, ты видишь, что путь перед тобой совсем не уменьшился. И тогда ты еще больше напрягаешься – от страха, и под конец ты совсем без сил и не можешь шагу ступить. А улица все еще простирается впереди. Но так делать нельзя… Никогда нельзя думать сразу обо всей улице, понимаешь? Надо думать о следующем шаге, о следующем вздохе, о следующем взмахе метлой. Все время только о следующем… Тогда это доставляет радость; это важно, тогда дело идет хорошо… Вдруг ты замечаешь, что шаг за шагом одолел всю улицу».
Момо и ее друзья сосредоточены на процессе – на жизни как таковой и собственном присутствии в ней. Они живут моментом – возделывают каждый конкретный момент, не позволяя себе и окружающему высохнуть от невнимания. Именно это позволяет им быть чуткими собеседниками реальности.
Именно это позволяет им быть чуткими собеседниками реальности.
Третье испытание Атрейо в «Бесконечной истории» – Ворота Без Ключа. Открыть их сможет только тот, кто отказался от всяких намерений, – иными словами, идущий без какой-либо выгоды для себя. Серые господа и их обманутые жертвы придерживаются иного мнения о времени и цели. Они вечно спешат, отбрасывая все ненужное для достижения результата. Происходящее вокруг них – декорации, фон спектакля, где каждому отведена роль марафонца. Игры, созерцание, дружеское общение – непозволительные глупости, пустая трата жизни, которую, если существовать по уму, хорошо бы отдать на достижение цели – того мнимого благополучия, для которого, собственно, время и экономится. Мир Серых господ предельно утилитарен, и каждое действие в нем должно быть захватом, выгрызанием выгоды.
«Его работа больше не приносила ему удовольствия, да это и не имело уже никакого значения. Он нанял еще двоих учеников и строго следил за тем, чтобы они не теряли ни секунды времени. Каждое движение было рассчитано… Фрейлейн Дарии написал он короткое, деловое письмо – что из-за недостатка времени больше к ней не придет. Попугайчика он продал в зоомагазин. Мать он поместил в дешевый дом для престарелых и посещал ее там раз в месяц». (Цитата из «Момо».)
Каждое движение было рассчитано… Фрейлейн Дарии написал он короткое, деловое письмо – что из-за недостатка времени больше к ней не придет. Попугайчика он продал в зоомагазин. Мать он поместил в дешевый дом для престарелых и посещал ее там раз в месяц». (Цитата из «Момо».)
«Последователи» Серых господ – а они своей рекламной магией захватили едва ли не весь город – перестают размышлять о «бесполезном», радоваться и как будто вообще испытывать чувства. Это вполне точный образ. Реальность XX-XXI веков расколдована – ощущение сакрального или просто «живого», самоценного мира выветривается, уступая место утилитарному отношению. «Венец творения» становится единственным действующим лицом планетарной истории – ее «расчетливым» хозяином, который, правда, нередко выглядит неразумным и жестоким узурпатором. Человек-собеседник, настоящие читатель и слушатель – редкость. Реальность сама по себе, если честно, уже мало кого интересует. Она – не участник разговора, но допрашиваемый, из которого любыми средствами нужно вытянуть ответ. Антагонист Энде – человек-завоеватель. Завоевание вместо разговора.
Антагонист Энде – человек-завоеватель. Завоевание вместо разговора.
Как-то раз, гуляя по центру Москвы и забредя на Болотную площадь, я наткнулся на странный памятник. Уже после узнал, что это работа Михаила Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых». Памятник, в общем-то, очень простой. Говорит как есть, в лоб, с прямотой ребенка. Вот две маленькие фигурки играют с завязанными глазами. А сзади полукольцом подступают чудовища, каждое из которых олицетворяет какой-то порок.
Центральный – главный, конечно, – отвернувшаяся фигура с маской на затылке и двумя парами рук. Удобно – пока одни скрещены на груди, другими можно заткнуть уши. Ее зовут Равнодушие. Игнорирование живого и жизни как самоценности. Отсутствие переживания. «Паралич души, преждевременная смерть» – как когда-то сказал Чехов. Ведь там, где нет переживания, нет и сочувствия, чуткого отношения к другому. Говоря проще, равнодушие позволяет чужой беде произойти и само с легкостью становится причиной беды. Именно поэтому Шемякин поместил его в центр. Если будете проходить мимо или просто соберетесь погулять в тех местах, присмотритесь к этой фигуре. Она очень похожа на Серого господина.
Именно поэтому Шемякин поместил его в центр. Если будете проходить мимо или просто соберетесь погулять в тех местах, присмотритесь к этой фигуре. Она очень похожа на Серого господина.
Встреча двух реальностей
Мир Энде спасают совсем другие герои – хорошие слушатели, читатели, собеседники. И конечно, защитить живое восприятие реальности можно, только отправившись во внутреннее путешествие и одолевая внутренних противников на пути. Так Момо познает свое собственное время – «время жизни сердца», которое как будто точнее других измерений. Страна Фантазия, куда переносится Бастиан Бальтазар Букс, существует, разумеется, не в книжке. Она – из области внутренней жизни и состоит из непостижимых переплетений осознанного и бессознательного. У Момо есть иллюзия внешнего противника – специфическое миропонимание материализовалось в Серых господ. В «Бесконечной истории» отрицательные персонажи бессильны, неубедительны и исчезают при малейшем дуновении ветерка сюжета. Реальную опасность для Бастиана представляют только его личные ощущения, глупые и невзвешенные поступки.
Реальную опасность для Бастиана представляют только его личные ощущения, глупые и невзвешенные поступки.
В самом конце… нет, вернее, в промежуточном, не окончательном, – откуда у «Бесконечной истории» возьмется завершение – одна из героинь рассказывает Бастиану о предсказании: «Когда-нибудь, в далеком будущем, люди принесут в Фантазию любовь. Тогда оба мира сольются и станут единым». Может, это и есть смысл всей книги: утопия взаимопроникновения реальностей – видимой и скрытой, их встречи в сочувствующем взгляде наблюдателя-собеседника. Именно поэтому те, кто навсегда уходит из нашего мира в Фантазию, в «Бесконечной истории» становятся безумцами, утратившими в сновидениях самих себя. Поэтому же Бастиан должен вернуться назад с новым, преображенным Фантазией восприятием, способным прозревать за видимыми формами скрытое движение и переживать его, на языке Энде – «любить».
А что это, если не продолжение того настоящего общения, в котором и читатель, и слушатель, подобно автору, превращают чужие слова в свои? Книги Михаэля Энде многослойны и порой туманны, но в итоге всё возвращается к существованию как разговору с действительностью – живой, красивой и таинственной, потому что почти неизвестной. Этот разговор хрупок. «Через одну уже выходить» – разрушился. «Время – деньги» – разрушился. Он затихает – исчезли церковь Святого Николая в Гамбурге и фантастические рассказы соседа-художника Фанти, затерялись его картины и многие работы Эдгара Энде. Но потом вдруг появляется сто́ящий слушатель, и вот – разговор. Вновь, каждый раз по-новому.
Этот разговор хрупок. «Через одну уже выходить» – разрушился. «Время – деньги» – разрушился. Он затихает – исчезли церковь Святого Николая в Гамбурге и фантастические рассказы соседа-художника Фанти, затерялись его картины и многие работы Эдгара Энде. Но потом вдруг появляется сто́ящий слушатель, и вот – разговор. Вновь, каждый раз по-новому.
Давайте отбросим опасную идею о том, что жизнь — это история
«Каждый из нас конструирует и проживает «нарратив», — писал британский невролог Оливер Сакс, — этот нарратив — это нас». Точно так же американский когнитивный психолог Джером Брунер: «Я — это постоянно переписываемая история». И: «В конце концов, мы становимся автобиографическими нарративами, с помощью которых мы «рассказываем» о своей жизни». Или другой американский психолог Дэн П. МакАдамс: «Мы все рассказчики, и мы — истории, которые рассказываем». А вот американский философ-моралист Дж. Дэвид Веллеман: «Мы придумываем самих себя… изобретать». И, в довершение всего, другой американский философ, Дэниел Деннетт: «Мы все виртуозные писатели, которые обнаруживают, что вовлечены во все виды поведения… и мы всегда придаем этому лучшее «лицо», какое только можем. Мы стараемся объединить весь наш материал в одну хорошую историю. И эта история — наша автобиография. Главный вымышленный персонаж в центре этой автобиографии — self .’
И, в довершение всего, другой американский философ, Дэниел Деннетт: «Мы все виртуозные писатели, которые обнаруживают, что вовлечены во все виды поведения… и мы всегда придаем этому лучшее «лицо», какое только можем. Мы стараемся объединить весь наш материал в одну хорошую историю. И эта история — наша автобиография. Главный вымышленный персонаж в центре этой автобиографии — self .’
Так говорят нарративисты. Мы рассказываем о себе, и мы — это наши истории. По поводу этого утверждения существует удивительно прочный консенсус не только в гуманитарных науках, но и в психотерапии. Его стандартно связывают с идеей, что саморассказ — это хорошая вещь, необходимая для полноценной человеческой жизни.
Я думаю, что это ложь — ложь, что все рассказывают о себе, и ложь, что это всегда хорошо. Это не универсальные человеческие истины — даже если мы сосредоточим наше внимание на людях, которые считаются психологически нормальными, как я здесь сделаю. Они не являются универсальными человеческими истинами, даже если они верны для некоторых людей, или даже для многих, или для большинства. Нарративисты, в лучшем случае, обобщают свой собственный случай слишком по-человечески. В лучшем случае: я сомневаюсь, что то, что они говорят, является точным описанием даже самих себя.
Нарративисты, в лучшем случае, обобщают свой собственный случай слишком по-человечески. В лучшем случае: я сомневаюсь, что то, что они говорят, является точным описанием даже самих себя.
Что именно они означают? Это крайне непонятно. Тем не менее, кажется, что среди нас есть несколько глубоко нарративных типов, где быть нарративным типом означает (здесь я предлагаю определение) быть естественно предрасположенным переживать или понимать свою жизнь, свое существование во времени, самого себя, нарративным образом, как имеющее форму рассказа или, возможно, сборника рассказов, и – каким-то образом 90 004 – жить в этой концепции и через нее . Популярность нарративистского взгляда — это prima facie доказательство того, что такие люди есть.
Возможно. Но многие из нас не являются Нарративами в этом смысле. Мы естественно — глубоко — ненарративны. Мы против нарратива по фундаментальной конституции. Дело не только в том, что освобождение памяти для нас безнадежно фрагментарно и беспорядочно, даже когда мы пытаемся вспомнить растянутую во времени последовательность событий. Суть более общая. Он касается всех сторон жизни, «великих руин» жизни, по выражению американского романиста Генри Джеймса. Это кажется гораздо лучшей характеристикой крупномасштабной структуры человеческого существования, какой мы ее находим. Жизнь просто никогда не принимает для нас сюжетную форму. Да и не должно, с моральной точки зрения.
Суть более общая. Он касается всех сторон жизни, «великих руин» жизни, по выражению американского романиста Генри Джеймса. Это кажется гораздо лучшей характеристикой крупномасштабной структуры человеческого существования, какой мы ее находим. Жизнь просто никогда не принимает для нас сюжетную форму. Да и не должно, с моральной точки зрения.
Тенденция приписывать самоконтроль является, как говорит американский социальный психолог Дэн Вегнер, чертой личности, которой обладают одни, а не другие. Существует хорошо подтвержденное экспериментально различие между людьми, у которых есть то, что он называет «эмоцией авторства» по отношению к своим мыслям, и теми, у кого, как и у меня, такой эмоции нет, и они чувствуют, что их мысли — это то, что просто происходит. Это могло бы проследить различие между теми, кто считает себя самостоятельным, и теми, кто этого не делает, но независимо от того, делает он это или нет, опыт самоустанавливающегося самоавторства кажется достаточно реальным. Однако когда дело доходит до фактического существования самоавторства — реальности некоторого процесса самоопределения в жизни или посредством жизни как жизнеписания — я отношусь скептически.
Однако когда дело доходит до фактического существования самоавторства — реальности некоторого процесса самоопределения в жизни или посредством жизни как жизнеписания — я отношусь скептически.
За последние 20 лет американский философ Мария Шехтман давала все более изощренные описания того, что значит быть Нарративом и «конституировать свою идентичность» через самоповествование. Теперь она подчеркивает, что саморассказ может быть в значительной степени имплицитное и бессознательное . Это важная уступка. Согласно ее первоначальной точке зрения, человек «должен обладать полным и ясным повествованием [своей жизни], чтобы полностью развиваться как личность». Новая версия кажется более оправданной. И это дает ей возможность сказать, что такие люди, как я, могут быть Нарративами и просто не знать об этом или не признавать этого.
В своей последней книге « Остаться в живых » (2014) Шехтман утверждает, что «люди воспринимают свою жизнь как единое целое» каким-то образом, выходящим далеко за рамки их базового осознания себя как отдельных конечных биологических индивидуумов с определенным биографические данные . Она по-прежнему считает, что «мы конституируем себя как личности… развивая и оперируя (в основном имплицитно) автобиографическим повествованием, которое действует как линза, через которую мы познаем мир».
Она по-прежнему считает, что «мы конституируем себя как личности… развивая и оперируя (в основном имплицитно) автобиографическим повествованием, которое действует как линза, через которую мы познаем мир».
Я все еще сомневаюсь, что это правда. Я сомневаюсь, что это универсальное человеческое состояние — универсальное среди людей, которые считаются нормальными. Я сомневаюсь в этом даже после того, как она пишет, что «иметь автобиографическое повествование» не значит сознательно пересказывать историю своей жизни всегда (или когда-либо) себе или кому-либо еще». Я не думаю, что «автобиографический нарратив» играет какую-либо существенную роль в том, как я воспринимаю мир, хотя я знаю, что мой нынешний общий взгляд и поведение глубоко обусловлены моей генетической наследственностью и социокультурным местом и временем, включая, в частности, мое раннее воспитание. И я также знаю, в меньшем масштабе, что на мое впечатление об этом автобусном путешествии повлиял как разговор, который у меня был с А в Ноттинг-Хилле, так и тот факт, что я еду на встречу с Б в Кентиш-Таун.
Подобно Шехтману, я (согласно определению человека Джона Локка) существо, которое может «рассматривать себя как самого себя, одну и ту же мыслящую вещь в разное время и в разных местах». Подобно Шехтману, я знаю, каково это, когда «ожидаемая беда уже смягчает настоящую радость». Несмотря на мою плохую память, я обладаю вполне приличной степенью осведомленности о многих событиях моей жизни. Я не живу экстатически «в данный момент» каким-либо просветленным или патологическим образом.
Но у меня, как и у американского писателя Джона Апдайка и многих других, «постоянное ощущение в жизни… что я только начинаю». Португальский писатель Фернандо Пессоа, «гетероним» Альберто Каейро (одно из 75 альтер-эго, под которым он писал) — странный человек, но он улавливает общий для многих опыт, когда говорит: «Каждый момент я чувствую, как будто я только что родился / В бесконечно новый мир». Некоторые сразу это поймут. Другие будут озадачены и, возможно, настроены скептически. Общий урок заключается в человеческом различии.
Согласно МакАдамсу, ведущему нарративисту среди социальных психологов, написавшему в The Redemptive Self: Stories Americans Live By (2006):
Начиная с позднего подросткового и юношеского возраста, мы строим интегративные нарративы о себе, которые выборочно вспоминают прошлое и предвосхищают будущее, чтобы придать нашей жизни некоторую видимость. Копье единства, цели и идентичности. Личная идентичность — это интернализованная и развивающаяся история жизни, над которой работает каждый из нас, пока мы движемся по взрослой жизни… Я… на самом деле не знаю, кто я такой, пока не получу хорошее представление о своей нарративной идентичности.
Если это правда, то мы должны беспокоиться не только о нерассказах — если только они не довольны отсутствием личной идентичности — но и о людях, описанных психологом развития Эриком Эриксоном в книге Identity: Youth and Crisis (1968):
различных «я»… составляющих нашу составную Самость.
Между этими «я» происходят постоянные и часто шокирующие переходы… Действительно, требуется здоровая личность, чтобы «я» могло говорить вне всех этих условий таким образом, чтобы в любой момент оно могло свидетельствовать о достаточно связном «Я».
И английский философ-моралист Мэри Мидгли, написавшая в Wickedness (1984):
[Доктор Джекилл] была отчасти права: мы по каждый, не только один, но и многие… чтобы найти Я, способное взяться за это… Мы тратим много времени и изобретательности на разработку способов организации внутренней толпы, обеспечения согласия между ней и организации ее действия как единого целого. Литература показывает, что это состояние не является редким.
Эриксон и Миджли удивительным образом предполагают, что мы все такие, и многие соглашаются с этим — по-видимому, те, кто соответствует шаблону. Это делает меня благодарным Миджли, когда она добавляет, что «другие, конечно, явно не чувствуют ничего подобного, слышат такие описания с изумлением и склонны считать тех, кто их дает, неполноценными». В то же время мы не должны принимать теорию, которая ставит под сомнение заявление этих людей о том, что они настоящие личности. Мы не хотим закрывать глаза на художника Пауля Клее, писавшего в своих дневниках в первые годы ХХ века:
В то же время мы не должны принимать теорию, которая ставит под сомнение заявление этих людей о том, что они настоящие личности. Мы не хотим закрывать глаза на художника Пауля Клее, писавшего в своих дневниках в первые годы ХХ века:
Я… это драматический ансамбль. Здесь появляется пророческий предок. Здесь кричит жестокий герой. Здесь алкоголик бонвиван спорит с ученым профессором. Здесь лирическая муза, хронически влюбленная, поднимает глаза к небу. Тут папа выступает вперед, издавая педантичные протесты. Тут заступается снисходительный дядя. Тут тетя сплетничает. Тут служанка похотливо хихикает. И я смотрю на все это с изумлением, с заточенным пером в руке. Беременная мать хочет присоединиться к веселью. — Тсс! — кричу я. — Тебе здесь не место. Вы делимы». И она исчезает.
Или британский писатель У. Сомерсет Моэм, размышляя в A Writer’s Notebook (1949):
Я осознаю, что состою из нескольких лиц и что человек, который в данный момент имеет преимущество, неизбежно уступит место другому.
Но какой из них настоящий? Все они или никто?
Что делать этим людям, если правы сторонники повествовательного единства? Я думаю, что они должны оставаться такими, какие они есть. Их внутренняя толпа, возможно, может поделиться каким-то бесшабашным рассказом о себе. Но, по-видимому, в ведущих философиях личного единства нашего времени, предложенных (среди прочих) Шехтманом, Гарри Франкфуртом и Кристин Корсгаард, для них нет четких указаний. Я думаю, что американский писатель Ф. Скотт Фицджеральд ошибается, когда говорит в своих Notebooks (1978), что: «Никогда не было хорошей биографии хорошего писателя. Не может быть. Он слишком многолюден, если он хоть немного хорош». Но видно, что он имеет в виду.
Кроме того, существует огромная разница между людьми, которые регулярно и активно помнят свое прошлое, и людьми, которые почти никогда этого не делают. В своей автобиографии « What Little I Remember » (1979) австрийский физик Отто Фриш пишет: «Я всегда очень много жил настоящим, помня только то, что казалось достойным пересказа». И: «Я всегда, как я уже говорил, жил здесь и сейчас и мало видел из более широких взглядов». .
И: «Я всегда, как я уже говорил, жил здесь и сейчас и мало видел из более широких взглядов». .
В более общем плане, если оставить в стороне патологическую потерю памяти, я нахожусь в одном лагере с французским философом Мишелем де Монтенем, когда дело доходит до специфически автобиографической памяти: «Я почти не нахожу в себе следов [памяти], — пишет он в своем эссе «О лжецах» (1580). «Сомневаюсь, чтобы в мире была какая-либо другая память, столь же гротескно ошибочная, как моя!» Монтень знает, что это может привести к непониманию. Он, например, «лучше в дружбе, чем в чем-либо другом, однако сами слова, которыми я признаю, что у меня есть этот недуг [плохая память], воспринимаются как означающие неблагодарность; они судят о моей привязанности по моей памяти» — совершенно ошибочно. «Однако я нахожу утешение в своей немощи» 9.0009
Плохая память защищает его от неприятной формы честолюбия, мешает ему болтать и заставляет думать самостоятельно, потому что он не может вспомнить, что говорили другие. Еще одно преимущество, по его словам, «в том, что… я меньше помню полученных оскорблений».
Еще одно преимущество, по его словам, «в том, что… я меньше помню полученных оскорблений».
К этому можно добавить, что плохая память и отсутствие повествования не являются помехой, когда речь идет об автобиографии в буквальном смысле — о том, чтобы записывать вещи о собственной жизни. Доказательством этого является Монтень, ибо он, пожалуй, величайший автобиограф, величайший самописец среди людей, несмотря на то, что:0009
нет ничего более чуждого моему стилю письма, чем расширенное повествование [ повествование estendue ]. Мне так часто приходится отрываться от одышки, что ни структура моих произведений, ни их развитие вообще ничего не стоят.
Монтень пишет нерассказанную жизнь — единственная жизнь, которая имеет значение, я склонен думать. У него нет «стороны» в разговорном английском смысле этого термина. Его честность, хотя и крайняя, лишена эксгибиционизма или сентиментальности (невыгодно сравнивают св. Августина и Руссо). Он ищет самопознания в радикально непреднамеренном жизнеописании, обращаясь к своей бумаге «точно так же, как я обращаюсь к первому встречному». Он знает, что его память безнадежно ненадежна, и заключает, что фундаментальный урок самопознания — это знание самоневедения.
Он знает, что его память безнадежно ненадежна, и заключает, что фундаментальный урок самопознания — это знание самоневедения.
Когда кто-то ищет комментарии к памяти, он находит их повсюду. Постоянный разлад во мнениях. Я думаю, что британский писатель Джеймс Мик был точен, когда он описал световых года (1975) американского романиста Джеймса Солтера:
Солтер убирает повествовательные переходы, объяснения и контекстуализации, романные связи, которых нет в наших реальных воспоминаниях, чтобы оставить нам набор запомненных фрагментов, некоторые яркие, некоторые уродливые, некоторые сбивающе тривиальные, которые не легко соединиться и не могут быть собраны в единое целое, кроме как в смысле хронологии, и в том смысле, что они — все, что осталось.
Мик считает, что это верно для всех, и это, пожалуй, самый распространенный случай. Солтер в « световых годах » находит соответствующий разрыв в самой жизни: «Нет полной жизни. Есть только фрагменты. Мы рождены, чтобы ничего не иметь, чтобы это выливалось через наши руки».
Есть только фрагменты. Мы рождены, чтобы ничего не иметь, чтобы это выливалось через наши руки».
И это, опять же, обычный опыт:
Исследуйте на мгновение обычный ум в обычный день. Разум получает множество впечатлений — тривиальных, фантастических, мимолетных или высеченных стальной остротой. Они приходят со всех сторон, непрекращающийся дождь из бесчисленных атомов; по мере того, как они падают, по мере того, как они формируются в жизни понедельника или вторника, акцент падает иначе, чем раньше; важный момент наступил не здесь, а там; так что, если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог писать то, что хочет, а не то, что должен, если бы он мог основывать свое произведение на собственном чувстве, а не на условности, не было бы ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовного интереса, ни катастрофы в общепринятом стиле, и, может быть, ни одной пуговицы, пришитой, как у портных с Бонд-стрит. Жизнь — это не ряд симметрично расположенных кабриолетов; жизнь — светящийся ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас от начала сознания до конца.
Трудно понять все последствия этого отрывка из эссе «Современная художественная литература» (1921) Вирджинии Вулф. Несомненно то, что среди нас есть репетиторы и композиторы, люди, которые не только естественным образом рассказывают свои воспоминания, но и свою жизнь так, как она происходит. Но когда английский драматург сэр Генри Тейлор заметил в 1836 году, что «человек с богатым воображением склонен видеть в своей жизни историю своей жизни; и тем самым ведет себя так, чтобы сделать из этого хорошую историю, а не хорошую жизнь», он определяет ошибку, моральную опасность. Это рецепт неподлинности. И если нарративисты правы и такие импульсы саморассказывания на самом деле универсальны, нам следует беспокоиться.
К счастью, они не правы. Есть люди, которые удивительно и трогательно усердно и правдиво понимают свое прошлое. Это древнее мнение, что люди всегда помнят свое прошлое таким образом, чтобы представить его в хорошем свете, но это просто неправда. Голландский психолог Виллем Вагенаар подчеркивает это в своей статье «Является ли память корыстной?» (1994), как и толстовский Иван Ильич на смертном одре.
Голландский психолог Виллем Вагенаар подчеркивает это в своей статье «Является ли память корыстной?» (1994), как и толстовский Иван Ильич на смертном одре.
В своем стихотворении «Продолжая жить» (1954) Филип Ларкин утверждает, что «со временем / Мы наполовину идентифицируем слепой отпечаток / Все наши поступки несут на себе». Нарративисты думают, что это по существу нарратив, по существу нарративное истолкование формы нашей жизни. Но многие из нас не доходят даже до полуотождествления Ларкина, и у нас в лучшем случае есть обрывки, а не история.
Мы поражены дальнейшим заявлением Ларкина о том, что «как только вы пройдете всю длину своего ума, то, что/Вы командуете, ясно, как коносамент», поскольку мы обнаруживаем, что даже в преклонном возрасте мы все еще не имеем четкого представления о том, что мы командуем. У меня, например, нет четкого представления о том, кто или что я такое. Это не потому, что я хочу быть как Монтень, или потому, что я читал Сократа о невежестве или Ницше о шкурах в Untimely Meditations (1876):
Как может человек познать себя? Он темное и завуалированное существо; и в то время как у зайца семь шкур, человек может семь раз сбросить по 70 шкур и все равно не сможет сказать: «Это действительно ты, это уже не внешняя оболочка» (перевод изменен)
Проход продолжается:
Кроме того, это мучительное, опасное занятие — копаться в себе таким образом, пробиваться кратчайшим путем вниз по стволу собственного существа.
Как легко нанести себе вред, который не сможет вылечить ни один врач. И более того, зачем это нужно, ведь все — наша дружба и ненависть, то, как мы выглядим, наши рукопожатия, то, что мы помним и забываем, наши книги, наш почерк — свидетельствует о нашем бытии.
Я не могу, однако, оборвать здесь эту цитату, потому что она продолжается таким образом, что вызывает сомнение в моей позиции:
Но есть средство, с помощью которого можно провести это абсолютно важное исследование. Пусть юная душа оглянется на свою жизнь и спросит себя: что ты до сих пор истинно любил, что увлекало твою душу, что повелевало ей и в то же время делало ее счастливой? Выстройте перед собой эти объекты почитания, и, может быть, по тому, что они собой представляют, и по их последовательности, они дадут вам закон, основной закон вашего истинного я.
«Возможно, благодаря тому, что они есть… они откроют фундаментальный закон вашего истинного я». Это утверждение легко подтвердить. Это величайшее озарение Марселя Пруста. Альбер Камю тоже это видит. Но Ницше более конкретен: «Возможно, по тому, что они представляют собой и по своей последовательности , они дадут… фундаментальный закон вашего истинного я». Здесь, кажется, я должен либо не согласиться с Ницше, либо уступить в чем-то нарративистам: возможную важность понимания последовательности в продвижении к самопониманию.
Это величайшее озарение Марселя Пруста. Альбер Камю тоже это видит. Но Ницше более конкретен: «Возможно, по тому, что они представляют собой и по своей последовательности , они дадут… фундаментальный закон вашего истинного я». Здесь, кажется, я должен либо не согласиться с Ницше, либо уступить в чем-то нарративистам: возможную важность понимания последовательности в продвижении к самопониманию.
Я согласен. Рассмотрение последовательности — «повествования», если хотите, — может быть важно для некоторых людей в некоторых случаях. Однако я думаю, что большинству из нас лучше всего самопознание приходит по крупицам. Эта уступка ничем не уступает той широкой точке зрения, с которой я начал, точке зрения — по словам Сакса — что вся человеческая жизнь — это жизнеописание, что «каждый из нас строит и проживает «нарратив» и что «этот нарратив — это нас».
Это эссе взято из книги «Написание жизни» под редакцией Закари Лидера и опубликовано OUP в сентябре 2015 г.
Настоящее повествовательное эссе — мистер ДвайерМистер. Dwyer
Настоящее повествовательное эссе, помните, это история, основанная на реальных событиях. От вас требуется составить правдивое повествовательное эссе о происшествии, которое вы пережили или наблюдали. Форма истинного повествования не определена; цель рассказа истории состоит в том, чтобы выразить точку зрения или наблюдение. Вы несете ответственность за развитие в своем сочинении одного или нескольких научно-популярных терминов, появившихся на недавнем экзамене (аналогия, сатира, гипербола, метафора, риторика, предзнаменование). В идеале включение разработанных терминов должно быть естественным, а не выглядеть неуклюжим, как нос у утки. Расплывчатая природа повествовательной формы может показаться внушительной для тех из вас, кто требует порядка, поэтому я подумал, что объяснение, данное коллегой ее классу, может просветить вас еще больше. Ваше эссе должно быть напечатано на компьютере, отражать стандарты MLA для композиций и должно быть сдано ДЕНЬ 7 учебной программы.
В типичной подсказке или задании для описательного эссе вас попросят описать событие, которое повлияло на вашу жизнь или изменило ее. Другими словами, в подсказке повествовательного эссе вас просят рассказать историю. Из-за базовой структуры этого задания учащиеся часто обманываются, думая, что истории, происходящие в повествовательном эссе, должны быть правдой, что часто становится источником беспокойства. «Как я могу написать о себе так, чтобы заинтересовать моего профессора?» вы можете спросить себя. «Ведь ничего интересного со мной не случилось. И даже если со мной случилось что-то интересное, я не уверен, что хочу, чтобы мой проф. знать об этом».
Лучший способ решить эту проблему и начать писать повествовательное эссе — забыть говорить «правду» или «факты» истории, если вы уже не считаете эти истины и факты интересными. В конце концов, наряду с рассказом истории, в повествовательном эссе вас также просят написать яркое описание людей и событий. Что, если вы не помните, во что был одет, как выглядел или пахнул один из ваших персонажей в тот судьбоносный день, когда вы решили прогулять школу, сбежать из дома или улизнуть из дома, чтобы встретиться с компанией друзей в незабываемый вечер; украшение становится необходимой маскировкой правды. В конце концов, вы рассказываете историю, а истории, даже автобиографические, постоянно украшены выдуманными деталями, персонажами и событиями.
В конце концов, вы рассказываете историю, а истории, даже автобиографические, постоянно украшены выдуманными деталями, персонажами и событиями.
Обычно к тому времени, когда вы дойдете до того момента, когда вас попросят написать повествовательное эссе, вы уже познакомились по крайней мере с одним известным писателем повествовательных эссе, таким как Эми Тан или Джеймс Тербер. Есть множество других, но важно помнить обо всех них то, что они не обязательно пишут правду, по крайней мере, не объективную правду. Причина, по которой этих писателей учат на уроках литературы, заключается в том, что у них яркое воображение, а это еще один способ сказать, что они хороши в придумывании вещей. Обычно у них также есть цель — защищать природу (в случае с Генри Дэвидом Торо) или рисовать сочувственную картину опыта американских иммигрантов азиатского происхождения в первом и втором поколении (как в случае с Эми Тан) — и эта цель часто является самой сутью повествовательного эссе. Таким образом, цель (или тезис) повествовательного эссе должна быть вашей первой заботой.
Как только вы узнаете точку, которую хотите доказать, вам просто нужно предоставить дополнительные детали, реальные или воображаемые, которые выделяют эту точку зрения. Если эти детали правдоподобны и связаны с целью вашего повествовательного эссе, просто не имеет значения, произошли ли они на самом деле. Уроки английского — это не суд, в конце концов, это ваш шанс расширить свои знания английского языка. Пока это происходит, вы можете чувствовать себя в безопасности практически в любой истории, которую решите написать.
Следующие сочинения являются примерами настоящего повествовательного эссе. Вы также можете просмотреть эссе по ссылке назначенных эссе , которые включают несколько настоящих повествовательных эссе, среди которых « Скотти, который слишком много знал» Джеймса Тербера и Дилана Томаса «Детское Рождество в Уэльсе» .
Счастливый день стал плохим
Это был прекрасный день. Солнце бросало свои сияющие лучи на маленькую деревушку в Китае. Маленькая пыль облаков цвета слоновой кости плыла по небу. В тот день наивная девочка четырех лет сидела в своем лаконичном домике из одной комнаты, размером не больше мини-гаража. Две односпальные кровати среднего размера стояли напротив стены, кровать, которую каждую ночь делили трое. Рядом с кроватью стояла дешевая старомодная печка и шкаф, где лежали три посуды, три тарелки и три пары одежды. Я сидела на холодном каменном полу в маленьком розовом летнем платье и играла со своим ржавым поездом. Все дни были для меня одинаковыми. Мои родители оба работали с восхода солнца до заката, приходя домой только для того, чтобы приготовить ужин. Жизнь для меня была довольно одинокой. Я бегал по деревне, как дикий ребенок, никому до меня не было дела. Я стал независимым в тот день, когда научился ходить.
Маленькая пыль облаков цвета слоновой кости плыла по небу. В тот день наивная девочка четырех лет сидела в своем лаконичном домике из одной комнаты, размером не больше мини-гаража. Две односпальные кровати среднего размера стояли напротив стены, кровать, которую каждую ночь делили трое. Рядом с кроватью стояла дешевая старомодная печка и шкаф, где лежали три посуды, три тарелки и три пары одежды. Я сидела на холодном каменном полу в маленьком розовом летнем платье и играла со своим ржавым поездом. Все дни были для меня одинаковыми. Мои родители оба работали с восхода солнца до заката, приходя домой только для того, чтобы приготовить ужин. Жизнь для меня была довольно одинокой. Я бегал по деревне, как дикий ребенок, никому до меня не было дела. Я стал независимым в тот день, когда научился ходить.
Пока я сидел и играл, дверь внезапно распахнулась. Моя мама стояла в тревоге со страхом в шоколадных глазах. Я знал, что произошло что-то трагическое, потому что она никогда не возвращалась домой рано. Она схватила меня за предплечья и рывком потянула вверх, выхватила из угла пластиковый пакет и запихнула в него всю одежду и игрушки, которые у меня были. Мои карие глаза наполнились слезами, но я не позволила им пролиться. Она потащила меня за собой и, уходя, с грохотом захлопнула дверь. Кто бы мог подумать, что это был последний день, когда я снова увижу этот маленький гаражный дом с одной комнатой.
Она схватила меня за предплечья и рывком потянула вверх, выхватила из угла пластиковый пакет и запихнула в него всю одежду и игрушки, которые у меня были. Мои карие глаза наполнились слезами, но я не позволила им пролиться. Она потащила меня за собой и, уходя, с грохотом захлопнула дверь. Кто бы мог подумать, что это был последний день, когда я снова увижу этот маленький гаражный дом с одной комнатой.
Пока мы шли по незнакомым пыльным улицам, я был тихим, как мог быть четырехлетний ребенок. В голове крутились незаданные вопросы. Что происходит? Что происходило? Куда я иду? Почему моя мама так расстроена? Где мой папа?
Мы сели в переполненный синий автобус. Был ужасный запах сигарет, запах тела и автомобильного газа. Я вцепился в штанину матери, потому что не хотел расставаться с ней. Я уткнулся лицом в ее штанину, не желая привлекать к себе внимание. Моя мама ни разу не посмотрела на меня за всю эту поездку. Автобус летал через города и поселки, делая внешний мир размытым. В конце концов мы сели. Я свернулся вокруг нее, посасывая большой палец. Должно быть, я заснул, потому что в следующий раз я оказался в городе, не таком уж пыльном и бедном.
В конце концов мы сели. Я свернулся вокруг нее, посасывая большой палец. Должно быть, я заснул, потому что в следующий раз я оказался в городе, не таком уж пыльном и бедном.
Мы вышли из автобуса и сели на мотоцикл. Я держался изо всех сил, пока мы мчались из города в город. Мы вышли и сели в такси. Наше последнее транспортное средство перед тем, как моя мама добралась до места назначения. Раньше я никогда не выезжал из своей деревни. Это был мой первый раз. Наконец мы оказались в парке. Она подняла меня и отнесла к деревянной скамье. Деревья раскачивались взад-вперед, как будто ветер мог лишить их жизни. Отбрасывая черные силуэты, которые цеплялись за огромные здания.
«Стой здесь и жди меня. Я скоро вернусь. Я иду только к другу», — сказала мама по-китайски и с этими словами ушла, бросив сумку с моими вещами на землю рядом со мной. Не до свидания. Не объятие. Ни разу не взглянув в последний раз на маленькую девочку, которую она родила четыре года назад. Я смотрел, как она уходит. Когда она исчезла, я сидел на скамейке с опущенной головкой и считал плитки,
Когда она исчезла, я сидел на скамейке с опущенной головкой и считал плитки,
1.…………2.…………..3.………..
Я смотрел, как люди проходят мимо меня. Надеялся, что скоро одним из лиц станет моя мама. Я ждал, ждал, но она так и не вернулась. Мои руки начали потеть. Я почувствовал, как мурашки побежали по моему позвоночнику. Я хотел встать и пойти искать ее, но не стал, потому что думал, что она вернется. Она просто опоздала. Если я уйду, она никогда не сможет найти меня в этом огромном месте. Я знал, что она вернется за мной. Верно?
Наконец наступила ночь. Я уже не был так уверен. Я испугался. Я плакал безмолвными слезами. Я был один в этом огромном мире. Без матери или отца. Просто один.
Проходившая мимо незнакомка со своей семьей увидела меня и уговорила вернуться с ней домой. Я так и сделал, и пока я был там, она позвонила в полицию, приехала полиция и отвезла меня в полицейский участок. Полиция три дня искала мою маму, но так и не нашла, потому что не знала моего имени. Должно быть, я был безымянным ребенком, потому что я даже не знал своего имени. Две недели не разговаривал. Четыре дня спустя полиция отправила меня в детский дом в Гуанчжоу, Китай. К тому времени я считал, что моя биологическая семья бросила меня. Теперь я был сиротой. Детский дом дал все, что у них было, чтобы я почувствовала дар семьи, но я не чувствовала в первые пару лет. Я оставался робким и закрытым в течение месяца, но, в конце концов, я к ним потеплел. Они искали семью, которая, как они знали, могла предложить мне что-то большее, чем они не могли, но ни одна семья не хотела меня.
Должно быть, я был безымянным ребенком, потому что я даже не знал своего имени. Две недели не разговаривал. Четыре дня спустя полиция отправила меня в детский дом в Гуанчжоу, Китай. К тому времени я считал, что моя биологическая семья бросила меня. Теперь я был сиротой. Детский дом дал все, что у них было, чтобы я почувствовала дар семьи, но я не чувствовала в первые пару лет. Я оставался робким и закрытым в течение месяца, но, в конце концов, я к ним потеплел. Они искали семью, которая, как они знали, могла предложить мне что-то большее, чем они не могли, но ни одна семья не хотела меня.
Четыре года спустя они нашли американскую семью, которая хотела меня. Эта семья дала мне имя; Алана. Может быть, я не знаю, почему моя биологическая семья отдала меня, но я знаю, что где-то в глубине души они задаются тем же вопросом. К тому времени я понял, что хотя я и потерял свою первую семью, меня ждала другая семья. Все произошло по какой-то причине.
Где я Из
Я из нового начала,
Из диктаторского Китая и свободной Америки,
Я из хрупких цветков сакуры,
Розово-розовые лепестки, скользящие по ветру,
Я с качелей во дворе,
В окружении роскошной травы,
Зазеленевшей от радостных времен.
Я из китайской лапши и замка Золушки,
От полного ужаса темноты
до мягкого сладкого звука маминого голоса.
Я из сказочников
Наполнен волшебными и страшными сказками
О чарах,
Феи и призрачные чудовища.
Я от прощания со слезами на глазах в детском доме
Привет новой семье.
Я из Альмы и Пьера,
От вязания разноцветных свитеров
До спасения жизней.
Я из «Рождественских каникул» и 12 вечеринок по случаю дня рождения,
Из холодных снежков и фортепианных нот К Элизе.
Я с пыльных улиц с громовым шумом, где
Мама оставила меня возрождаться,
И с Северного полюса Санты,
Через который мне пришлось пересечь
Чтобы получить в подарок новую семью.
В кабинете моей матери
Это папка, в которой
Первые страницы книги моей жизни.
Во сне ко мне возвращаются воспоминания.
Вчера переплетается с сегодня,
Превращаю два родословных
В
Единое
Сильное
Я.
Подарок
«Идет снег, папа, идет снег!»
— Я же говорил, что у нас будет белый Рождественский сын, — объяснил отец, в третий раз проезжая через переполненную парковку, предупрежденный о любых красных задних фонарях, которые обещали желаемое парковочное место. Впереди пожилая женщина погрузила свои пакеты в свою машину. Отец нетерпеливо ждал, глядя в зеркало заднего вида на растущую вереницу машин с водителями. Если бы он не был запрограммирован какой-то бессмысленной властью, которая ставила долг выше соображений, отец мог бы задаться вопросом, не опалил ли дух кого-либо из ожидающих автомобилистов пламя ожидания, но он не обратил внимания и на это соображение. Хотя женщине потребовалось всего несколько мгновений, чтобы закрыть багажник, дойти до места водителя и сесть в «бьюик», прежде чем завести двигатель и осторожно выехать задним ходом со своего завидного парковочного места, отец не мог игнорировать эхо волнения от вторгшегося в него незнакомца, который молча проклинал пожилую женщину за ее задержку. Когда изменилось Рождество; когда же произошло горькое преображение, изменившее сладкий вкус его юности?
Когда изменилось Рождество; когда же произошло горькое преображение, изменившее сладкий вкус его юности?
Когда отец был молод и рос в том же районе, праздники были великим праздником, когда потребление кажущихся бесконечными подносов с едой и посещение семьи организовывались под руководящей рукой молитвы. Рождество, естественно, было пиком волнения. Отец происходил из многодетной семьи, как и все, с четырьмя старшими братьями и младшей сестрой. Рождественское утро всегда напоминало неуправляемый зоопарк, где сразу всех животных выпускают из клеток. Открытие подарков подчеркивало портрет суматошной праздничности. Удивительный союз порядка и бедствия был выкован во многом подобно ревущему ветру, выбирающему огонь в качестве партнера для танца, и он вспомнил, что движение было удивительно гибким в соответствии с воображаемой палочкой, которая колебалась и струилась, исполняя семейную песню.
Припарковав машину, отец остановился, вспомнив, что, хотя он часто завидовал своим старшим братьям и подаркам, которые они получали в те далекие праздники, он впервые осознал, что всегда рад за них. Теперь он отчаянно желал наделить своего ребенка тем же очарованием, которым отмечена его юность.
Теперь он отчаянно желал наделить своего ребенка тем же очарованием, которым отмечена его юность.
Из своих автомобилей покупатели шли впереди, как опавшие листья в ручьях, которые в конце концов сливаются в реку, верховное течение которой определяет путь добровольных, но беспомощных путешественников. Магазин в своем великолепном праздничном наряде поглотил отца и сына вместе с бесчисленным множеством других покупателей. Отец держал маленькую руку своего сына, улыбаясь своему ребенку, когда великолепные шоколадные глаза юноши были очарованы искусно оформленными витринами, украшенными праздничными темами Новой Англии. Сын рассматривал гигантскую голову лося, чьи колоссальные рога простирались далеко за пределы плеч любого человека, висящую на стене перед ними. Он, как мог, изменил направление движения своего отца, опасаясь пройти под существом, чувствуя, что, если животное сможет, оно растопчет любого ребенка, который пересечет его владения.
Поднимаясь по лестнице, сын и отец заметили других чучел диких животных: черного медведя, ищущего пищу, фазана с блестящими отметинами, рыси, готовую выпрыгнуть из бухты, и рыбака, чьи острые зубы казались мальчику понимающе ухмыляющимися. — Что это за животное, папа? — спросил мальчик, сжимая руку отца.
— Что это за животное, папа? — спросил мальчик, сжимая руку отца.
«Это сын рыбака. Они довольно злобны».
«Миссис. Томкинс сказал, что кошку Ноя съел рыбак. Это настоящий папа?»
Отец колебался, чтобы скрыть свое неодобрение неосмотрительности Бетси Томкин: «Может быть, но нам не нужно беспокоиться о них там, где мы живем».
«Потому что они не получат Смоуки, верно, папа?»
«Правильно, сынок, Смоки в целости и сохранности».
Отец и сын добрались до детской секции, где собралась толпа родителей. Несмотря на неустанные усилия вежливого персонала в фирменных рубашках зеленого цвета, след, оставленный этими покупателями, напоминал путь, проторенный мигрирующим стадом бизонов. Свитера были отброшены без раздумий, книги были выброшены, а одно из изданий было осквернено и осквернено на полу скромной женщиной, которая смотрела поверх своих бифокальных очков, просматривая книжки с картинками на самой верхней полке. Ее мокрые дизайнерские сапоги испортили обложку классической книги Роберта Макклоски «9». 0003 Уступи дорогу утятам незаметно под ногами.
0003 Уступи дорогу утятам незаметно под ногами.
Отец просканировал погром, шпионя за областью, где были выставлены зимние пальто, и насильно повел сына за руку, пока воздух, котел невоспитанного желания, кипел над ними, заражая покупателей ядовитым попурри. Предвкушение сына к настоящему времени было побеждено упрямой волной, которая становилась все глубже с осознанием того, что, несмотря на необъятность этой империи продуктов, мало что могло заинтересовать четырехлетнего ребенка, надеющегося найти фигурки мутантов, Лего из «Звездных войн» или джип с дистанционным управлением, чтобы удовлетворить его предвкушение. Отец мгновенно прочитал разочарование на лице сына и неодобрительно посмотрел в темные глаза мальчика, еще один злобный ингредиент, добавленный в котел.
На мгновение отец оторвался от сына, чтобы проверить в списке размер куртки, которая привлекла его внимание. Естественно, нужного стандартного размера не было в наличии, и пламя разочарования продолжало разгораться. Насмешливый хор звучал в его голове с нарастающей настойчивостью: Найди мальчика-подарок, найди мальчика-подарок, найди мальчика…
Насмешливый хор звучал в его голове с нарастающей настойчивостью: Найди мальчика-подарок, найди мальчика-подарок, найди мальчика…
Инстинктивно отец вернул свое сознание ребенку. Вместо того, чтобы видеть разочарованного мальчика, он смотрел на шерстяные лосины, украшенные праздничными украшениями. Его глаза перебежали к лицу женщины, которая была одета в чулки, а она встретила его безумный взгляд натянутой улыбкой. Он посмотрел за озадаченную женщину и увидел еще одну мать и ребенка. Повинуясь рефлексу, отец встал на колени, чтобы получить выгоду от сына, заваленного увиденным — полки, набитые одеждой, и тяжелые тяжелые пальто, извивающиеся в каком-то воображаемом вальсе, а их обитатели лаконично глазели на товар с болтающимися бирками. Отец обыскал окружающие кабинки, надеясь, что его сын играет в зловещую игру в прятки. Когда его внимание вернулось к его прежнему местонахождению всего в нескольких футах от него, женщина проницательно посмотрела на него, когда на лице отца появилось страдальческое выражение, узнаваемое только другим измученным родителем.
Сводящий с ума рефлекс заставил отца вспомнить недавние гнусные подробности чудовищного преступления в Дорчестере, штат Массачусетс, где мальчик был похищен, изнасилован и убит двумя злоумышленниками, которые поехали в Мэн, чтобы сбросить его изуродованное тело в реку Пискатакуа. Отец, естественно, попытался потушить бушующий внутри ад страданий, утверждая, что его сын просто отклонился на небольшое расстояние, отвлекшись на один из декоративных экспонатов, но вера огорченного отца рассыпалась, как ледяной лед, обожженный усиливающимся пламенем отчаяния.
Отец потерпел неудачу в попытке скрыть свое беспокойство от женщины: «Если мой сын вернется — ему четыре года, у него светлые волосы, карие глаза, на нем темно-синяя парка и зелено-красная вязаная шапка — держите его здесь, и я быстро вернусь», — прежде чем испуганная женщина успела услышать отчаянную команду, отец бросился бежать к главному входу, решив добраться до стойки безопасности, прежде чем кто-либо сможет уйти с его ребенком!
Отец не мог не столкнуться плечом с пожилым мужчиной, который отступил на дорожку и увидел полуторсовый манекен в темно-сером кашемировом свитере. Пока задавленный мужчина ждал извинений, отец бросился в сторону широкой лестницы. Он добрался до лестницы, на мгновение остановившись, чтобы осмотреть процессию покупателей, направлявшуюся к входу. Он быстро перепрыгнул через ступеньки и, как в тумане, приземлился на полированный гранитный пол и направился к стойке службы безопасности. Неистовая погоня отца внезапно остановилась.
Пока задавленный мужчина ждал извинений, отец бросился в сторону широкой лестницы. Он добрался до лестницы, на мгновение остановившись, чтобы осмотреть процессию покупателей, направлявшуюся к входу. Он быстро перепрыгнул через ступеньки и, как в тумане, приземлился на полированный гранитный пол и направился к стойке службы безопасности. Неистовая погоня отца внезапно остановилась.
Компас родительской любви обратил внимание отца на пруд с форелью, рукотворный аттракцион, окружавший лестницу. Его сын сидел на большом плоском камне, глядя в спокойную воду, загипнотизированный осторожным движением рыбы, чьи крапчатые отметины, точно нанесенные терпеливой кистью эволюции, украли у него чувство суждения, когда он полировал жемчужину невинности. Из агонизирующей бездны души вздохнул отец, и в мерцающем царстве раздумий погасло его отчаяние. Он приготовился взойти на своего ничего не подозревающего сына, чтобы показать отмеренную часть мучений, вызванных непослушанием ребенка. Смех собственного детства сдерживал его, и, изучая лицо сына, он был благодарен: «О Боже, о Боже, Боже Боже».
Любопытство мальчика было портретом красоты, его удаленность и удивление подтверждали для отца все божественное в жизни. Тревоги ребенка были ему чужды так же непостижимы, как бесчисленные планеты, занимающие вселенную. В тот момент он завидовал своему сыну, но любил его еще больше.
Очарование сына не могло остаться непроницаемым для ответственности, осаждавшей его прекрасную свободу. Его отец, очарованный зритель, засвидетельствовал дискомфорт мальчика по взволнованному тику сознания. Сын больше не был защищен своим плащом безмятежности; он инстинктивно поднял склоненную голову, встревоженный инстинктивной тревогой. Его мгновенно влажные глаза удержали слезы, пока он осматривал пруд, пока его собственная растущая боль, проросшая от его отчаянного осмотра, не была избавлена. Он встретил взгляд отца с приторным стыдом, капавшим на его обнаженную невинность. Отец, однако, нашел подарок. Он улыбнулся своему ребенку, когда тот подошел к камню и сел, любуясь прудом, как и много лет назад.

 Между этими «я» происходят постоянные и часто шокирующие переходы… Действительно, требуется здоровая личность, чтобы «я» могло говорить вне всех этих условий таким образом, чтобы в любой момент оно могло свидетельствовать о достаточно связном «Я».
Между этими «я» происходят постоянные и часто шокирующие переходы… Действительно, требуется здоровая личность, чтобы «я» могло говорить вне всех этих условий таким образом, чтобы в любой момент оно могло свидетельствовать о достаточно связном «Я». Но какой из них настоящий? Все они или никто?
Но какой из них настоящий? Все они или никто?
 Как легко нанести себе вред, который не сможет вылечить ни один врач. И более того, зачем это нужно, ведь все — наша дружба и ненависть, то, как мы выглядим, наши рукопожатия, то, что мы помним и забываем, наши книги, наш почерк — свидетельствует о нашем бытии.
Как легко нанести себе вред, который не сможет вылечить ни один врач. И более того, зачем это нужно, ведь все — наша дружба и ненависть, то, как мы выглядим, наши рукопожатия, то, что мы помним и забываем, наши книги, наш почерк — свидетельствует о нашем бытии.