Жить покоем дорожа губерман: Игорь Миронович Губерман цитата: Жить, покоем дорожа — пресно, тускло, простоквашно; чтоб душа была …
Что человеку в жизни надо губерман. Игорь губерман
Посвящается Юлию Китаевичу – любимому другу, автору многих моих стихов
Утучняется плоть.
Испаряется пыл.
Годы вышли
на медленный ужин.
И приятно подумать,
что все-таки был
и кому-то бывал даже нужен.
1
КАК ПРОСТО ОТНЯТЬ У НАРОДА СВОБОДУ: ЕЕ НАДО ПРОСТО ДОВЕРИТЬ НАРОДУ
* * *
Мне Маркса жаль: его наследство
свалилось в русскую купель:
здесь цель оправдывала средства,
и средства обосрали цель.
* * *
Во благо классу-гегемону,
чтоб неослабно правил он,
во всякий миг доступен шмону
отдельно взятый гегемон.
* * *
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
* * *
Навеки мы воздвигли монумент
безумия, крушений и утрат,
поставив на крови эксперимент,
принесший негативный результат.
* * *
Я молодых, в остатках сопель,
боюсь, трясущих жизнь, как грушу:
в душе темно у них, как в жопе,
а в жопе – зуд потешить душу.
* * *
давя, сминая и дробя,
страх сам себя воспроизводит,
растит и кормит сам себя.
* * *
Когда истории сквозняк
свистит по душам и державам,
один – ползет в нору слизняк,
другой – вздувается удавом.
* * *
Добро, не отвергая средства зла,
по ним и пожинает результаты;
в раю, где применяется смола,
архангелы копытны и рогаты.
* * *
Когда клубится страх кромешный
и тьму пронзает лай погонь,
благословен любой, посмевший
не задувать в себе огонь.
* * *
Расхожей фразой обеспечась,
враждебна жизни и природе,
при несвободе мразь и нечисть
свободней в пастыри выходит.
* * *
Свобода, глядя беспристрастно,
тогда лишь делается нужной,
когда внутри меня пространство
обширней камеры наружной.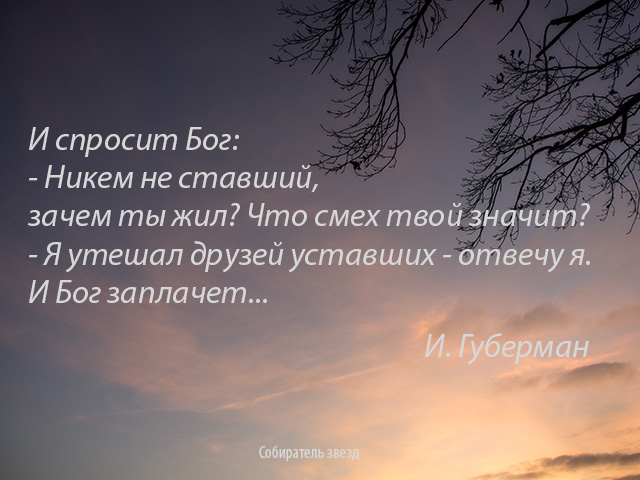
* * *
По крови проникая до корней,
пронизывая воздух небосвода,
неволя растлевает нас сильней,
чем самая беспутная свобода.
* * *
Нам от дедов сегодня досталась
равнодушная тень утомления —
историческая усталость
бесноватого поколения.
* * *
Дух времени хотя и не воинствен,
по-прежнему кровав его прибой;
кончая свою жизнь самоубийством,
утопии нас тянут за собой.
* * *
Перо и глаз держа в союзе,
я не напрасно хлеб свой ем:
Россия – гордиев санузел
острейших нынешних проблем.
* * *
Боюсь я любых завываний трубы,
взирая привычно и трезво:
добро, стервенея в азарте борьбы,
озляется круто и резво.
* * *
Мне повезло: я знал страну,
одну-единственную в мире,
в своем же собственном плену
в своей живущую квартире.
* * *
Где лгут и себе, и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови – по грязи – во тьму.
* * *
Цветут махрово и упрямо
плодов прогресса семена:
снобизм плебея, чванство хама,
высокомерие гавна.
* * *
В года растленья, лжи и страха
узка дозволенная сфера:
запретны шутки ниже паха
и размышленья выше хера.
* * *
С историей не близко, но знаком,
я славу нашу вижу очень ясно:
мы стали негасимым маяком,
сияющим по курсу, где опасно.
* * *
Возглавляя партии и классы,
лидеры вовек не брали в толк,
что идея, брошенная в массы, —
это девка, брошенная в полк.
* * *
Привычные, безмолвствуют народы,
беззвучные горланят петухи;
мы созданы для счастья и свободы,
как рыба – для полета и ухи.
* * *
Все социальные системы —
от иерархии до братства —
стучатся лбами о проблемы
свободы, равенства и блядства.
* * *
Назначенная чашу в срок испить,
Россия – всем в урок и беспокойство —
распята, как Христос, чтоб искупить
всеобщий смертный грех переустройства.
* * *
В кромешных ситуациях любых,
запутанных, тревожных и горячих,
спокойная уверенность слепых
кошмарнее растерянности зрячих.
* * *
Что ни век, нам ясней и слышней
сквозь надрыв либерального воя:
нет опасней и нету вредней,
чем свобода совсем без конвоя.
* * *
Нас книга жизни тьмой раздоров
разъединяет в каждой строчке,
а те, кто знать не знает споров, —
те нас ебут поодиночке.
* * *
В нас пульсом бьется у виска
душевной смуты злая крутость;
в загуле русском есть тоска,
легко клонящаяся в лютость.
* * *
Закрыв глаза, прижавши уши,
считая жизнь за подаяние,
мы перерыв, когда не душат,
смакуем как благодеяние.
* * *
Имея сон, еду и труд,
судьбе и власти не перечат,
а нас безжалостно ебут,
за что потом бесплатно лечат.
* * *
Дороги к русскому ненастью
текли сквозь веру и веселье;
чем коллективней путь ко счастью,
тем горше общее похмелье.
* * *
Года неправедных гонений
сочат незримый сок заразы,
и в дух грядущих поколений
ползут глухие метастазы.
* * *
Лично я и раболепен, и жесток,
и покуда такова моя природа,
демократия – искусственный цветок,
неживучий без охраны и ухода.
* * *
Жить и нетрудно, и занятно,
хотя и мерзостно неслыханно,
когда в эпохе все понятно
и все настолько же безвыходно.
* * *
Есть одна загадочная тема,
к нашим относящаяся душам:
чем безумней дряхлая система,
тем опасней враз ее разрушить.
* * *
Уюта и покоя благодать
простейшим ограничена пределом:
опасно черным черное назвать,
а белое назвать опасно белым.
* * *
Судьбы российской злые чары
с наукой дружат в наши дни,
умней и тоньше янычары
и носят штатское они.
* * *
Российский нрав прославлен в мире,
его исследуют везде,
он так диковинно обширен,
что сам тоскует по узде.
* * *
Зима не переходит сразу в лето,
на реках ледоход весной неистов,
и рушатся мосты, и помнить это
полезно для российских оптимистов.
* * *
Мечты, что лелеяли предки,
до срока питали и нас,
и жаль, что одни лишь объедки
от них остаются сейчас.
* * *
У жизни свой, иной оттенок,
и жизнечувствие свое,
когда участвует застенок
во всех явлениях ее.
* * *
Не в силах нас ни смех, ни грех
свернуть с пути отважного,
мы строим счастье сразу всех,
и нам плевать на каждого.
* * *
Окраины, провинции души,
где мерзость наша, низость и потемки,
годами ждут момента. А потомки
потом гадают, как возник фашизм.
* * *
Я боюсь, что там, где тьма клубиста,
где пружины тайные и входы,
массовый инстинкт самоубийства
поит корни дерева свободы.
* * *
Любую можно кашу моровую
затеять с молодежью горлопанской,
которая Вторую мировую
уже немного путает с Троянской.
2
СРЕДИ НЕМЫСЛИМЫХ ПОБЕД ЦИВИЛИЗАЦИИ МЫ ОДИНОКИ, КАК КАРАСЬ В КАНАЛИЗАЦИИ
* * *
Из нас любой, пока не умер он,
себя слагает по частям
из интеллекта, секса, юмора
и отношения к властям.
* * *
Когда-нибудь, впоследствии, потом,
но даже в буквари поместят строчку,
что сделанное скопом и гуртом
расхлебывает каждый в одиночку.
* * *
С рожденья тягостно раздвоен я,
мечусь из крайности в конец,
родная мать моя – гармония,
а диссонанс – родной отец.
* * *
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
* * *
Кишат стареющие дети,
у всех трагедия и драма,
а я гляжу спектакли эти
и одинок, как хер Адама.
* * *
Не могу эту жизнь продолжать,
а порвать с ней – мучительно сложно;
тяжелее всего уезжать
нам оттуда, где жить невозможно.
* * *
В сердцах кому-нибудь грубя,
ужасно, вероятно,
однажды выйти из себя
и не войти обратно.
* * *
Каждый сам себе – глухие двери,
сам себе преступник и судья,
сам себе и Моцарт, и Сальери,
сам себе и желудь, и свинья.
* * *
У нас пристрастие к словам —
совсем не прихоть и не мания;
слова необходимы нам
для лжи взаимопонимания.
* * *
То наслаждаясь, то скорбя,
держась пути любого,
будь сам собой, не то тебя
посадят за другого.
* * *
По образу и духу своему
Создатель нас лепил, творя истоки,
а мы храним подобие Ему
и, может, потому так одиноки.
* * *
Не прыгай с веком наравне,
будь человеком;
не то окажешься в гавне
совместно с веком.
* * *
Гляжу, не жалуясь, как осенью
повеял век на пряди белые,
и вижу с прежним удовольствием
фортуны ягодицы спелые.
* * *
Вольясь в земного времени поток
стечением случайных совпадений,
любой из нас настолько одинок,
что счастлив от любых соединений.
* * *
Не зря ли знаньем бесполезным
свой дух дремотный мы тревожим?
В тех, кто заглядывает в бездну,
она заглядывает тоже.
* * *
Есть много счастья в ясной вере
с ее тяжелым грузом легким,
да жаль, что в чистой атмосфере
невмочь моим тяжелым легким.
* * *
Хотя и сладостен азарт
по сразу двум идти дорогам,
нельзя одной колодой карт
играть и с дьяволом, и с Богом.
* * *
Непросто – думать о высоком,
паря душой в мирах межзвездных,
когда вокруг под самым боком
сопят, грызут и портят воздух.
* * *
Мы делим время и наличность,
мы делим водку, хлеб, ночлег,
но чем отчетливее личность,
тем одиноче человек.
* * *
И мерзко, и гнусно, и подло,
и страх, что заразишься свинством,
а быдло сбивается в кодло
и счастливо скотским единством.
* * *
Никто из самых близких по неволе
в мои переживания не вхож,
храню свои душевные мозоли
от любящих участливых галош.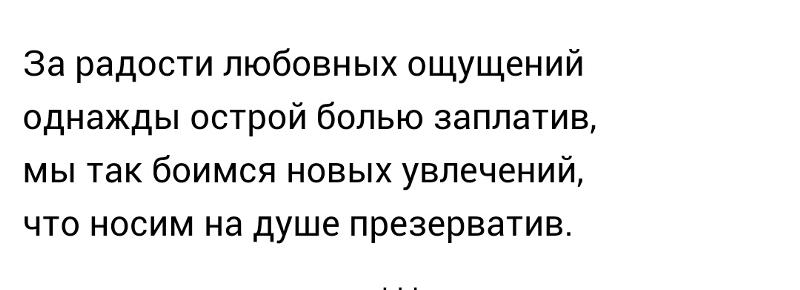
* * *
Разлуки свистят у дверей,
сижу за столом сиротливо,
ребята шампанских кровей
становятся бочками пива.
* * *
Возделывая духа огород,
кряхтит гуманитарная элита,
издерганная болью за народ
и сменами мигрени и колита.
* * *
С успехами наук несообразно,
а ноет – и попробуй заглуши —
моя неоперабельная язва
на дне несуществующей души.
* * *
Эта мысль – украденный цветок,
просто рифма ей не повредит:
человек совсем не одинок!
Кто-нибудь всегда за ним следит.
* * *
С душою, раздвоенной, как копыто,
обеим чужероден я отчизнам —
еврей, где гоношат антисемиты,
и русский, где грешат сионанизмом.
* * *
Теснее круг. Все реже встречи.
Летят утраты и разлуки;
иных уж нет, а те далече,
а кто ослаб, выходит в суки.
* * *
Бог техники – иной, чем бог науки;
искусства бог – иной, чем бог войны;
и Бог любви слабеющие руки
над ними простирает с вышины.
* * *
За столькое приходится платить,
покуда протекает бытие,
что следует судьбу благодарить
за случаи, где платишь за свое.
* * *
В наших джунглях, свирепых и каменных,
не боюсь я злодеев старинных,
а боюсь я невинных и праведных,
бескорыстных, святых и невинных.
* * *
Уходят сыновья, задрав хвосты,
и дочери томятся, дома сидя;
мы садим семена, растим цветы,
а после только ягодицы видим.
* * *
Когда кругом кишит бездарность,
кладя на жизнь свое клише,
в изгойстве скрыта элитарность,
весьма полезная душе.
* * *
Мне жаль небосвод этот синий,
жаль землю и жизни осколки;
мне страшно, что сытые свиньи
страшней, чем голодные волки.
* * *
Друзья всегда чуть привередливы.
И осмеять имеют склонность.
Друзья всегда чуть надоедливы.
Как верность и определенность.
* * *
Господь посеял нас, как огород,
но в зарослях растений, Им растимых,
мы делимся на множество пород,
частично вообще несовместимых.
* * *
Живу я одиноко и сутуло,
друзья поумирали или служат,
а там, где мне гармония блеснула,
другие просто жопу обнаружат.
* * *
С моим отъездом шов протянется,
кромсая прямо по стране
страну, которая останется,
и ту, которая во мне.
* * *
Я вдруг утратил чувство локтя
с толпой кишащего народа,
и худо мне, как ложке дегтя
должно быть худо в бочке меда.
* * *
На дружеской негромкой сидя тризне,
я думал, пепел стряхивая в блюдце,
как часто неудачники по жизни
в столетиях по смерти остаются.
* * *
Где страсти, где ярость и ужасы,
где рать ополчилась на рать,
блажен, в ком достаточно мужества
на дудочке тихо играть.
* * *
Смешно, как люто гонит нас
в толкучку гомона и пира
боязнь остаться лишний раз
в пустыне собственного мира.
* * *
Разлад отцов с детьми – залог
тех постоянных изменений,
в которых что-то ищет Бог,
играя сменой поколений.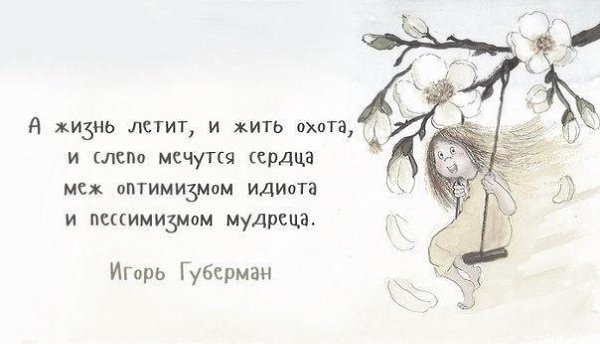
* * *
Свои черты, штрихи и блики
в душе у каждого и всякого,
но непостижно разнолики,
мы одиноки одинаково.
* * *
Меняя цели и названия,
меняя формы, стили, виды, —
покуда теплится сознание,
рабы возводят пирамиды.
* * *
Смешно, когда мужик, цветущий густо,
с родной державой соли съевший пуд,
внезапно обнаруживает грустно,
что, кажется, его давно ебут.
* * *
Блажен, кто в заботе о теле
всю жизнь положил ради хлеба,
но небо светлее над теми,
кто изредка смотрит на небо.
* * *
Свечение души разнообразно,
незримо, ощутимо и пронзительно;
душевная отравленность – заразна,
душевное здоровье – заразительно.
* * *
Уехать. И жить в безопасном тепле.
И помнить. И мучиться ночью.
Примерзла душа к этой стылой земле,
вросла в эту гиблую почву.
* * *
Во всем, что видит или слышит,
предлог для грусти находя,
зануда – нечто вроде крыши,
текущей даже без дождя.
* * *
Друзья мои! Навек вам нежно предан,
я щедростью душевной вашей взыскан;
надеюсь, я не буду вами предан,
и этот долг не будет вами взыскан.
* * *
На нас нисходит с высоты
от вида птичьего полета
то счастье сбывшейся мечты,
то капля жидкого помета.
* * *
Жил человек в эпохе некой,
твердил с упрямостью свое,
она убила человека,
и стал он гордостью ее.
* * *
Нету бедственней в жизни беды,
чем разлука с любимой сумятицей:
человек без привычной среды
очень быстро становится Пятницей.
* * *
Проста нашей психики сложность,
ничуть не сложнее, чем прежде:
надежда – важней, чем возможность
когда-нибудь сбыться надежде.
* * *
Мы – умны, а вы – увы,
что печально, если
жопа выше головы,
если жопа в кресле.
* * *
Звоните поздней ночью мне, друзья,
не бойтесь помешать и разбудить;
кошмарно близок час, когда нельзя
и некуда нам будет позвонить.
3
В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНОЕ ДЕЛО Я БЫЛ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
* * *
В стране рабов, кующих рабство,
среди блядей, поющих блядство,
мудрец живет анахоретом,
по ветру хер держа при этом.
* * *
Как нелегко в один присест,
колеблясь даже, если прав,
свою судьбу – туманный текст —
прочесть, нигде не переврав.
* * *
Себя расточая стихами
и век промотавши, как день,
я дерзко хватаю руками
то эхо, то запах, то тень.
* * *
На все происходящее гляжу
и думаю: огнем оно гори;
но слишком из себя не выхожу,
поскольку царство Божие – внутри.
* * *
Прожив полвека день за днем
и поумнев со дня рождения,
теперь я легок на подъем
лишь для совместного падения.
* * *
Красив, умен, слегка сутул,
набит мировоззрением,
вчера в себя я заглянул
и вышел с омерзением.
* * *
В живую жизнь упрямо верил я,
в простой резон и в мудрость шутки,
а все высокие материи
блядям раздаривал на юбки.
* * *
Толстухи, щепки и хромые,
страшилы, шлюхи и красавицы
как параллельные прямые
в моей душе пересекаются.
* * *
Я не стыжусь, что ярый скептик
и на душе не свет, а тьма;
сомненье – лучший антисептик
от загнивания ума.
* * *
Будущее – вкус не портит мне,
мне дрожать за будущее лень;
думать каждый день о черном дне —
значит делать черным каждый день.
* * *
Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот гавно.
* * *
Я был везунчик и счастливчик,
судил и мыслил просвещенно,
и не один прелестный лифчик
при мне вздымался учащенно.
* * *
Мой небосвод хрустально ясен
и полон радужных картин
не потому, что мир прекрасен,
а потому, что я – кретин.
* * *
На дворе стоит эпоха,
а в углу стоит кровать,
и когда мне с бабой плохо,
на эпоху мне плевать.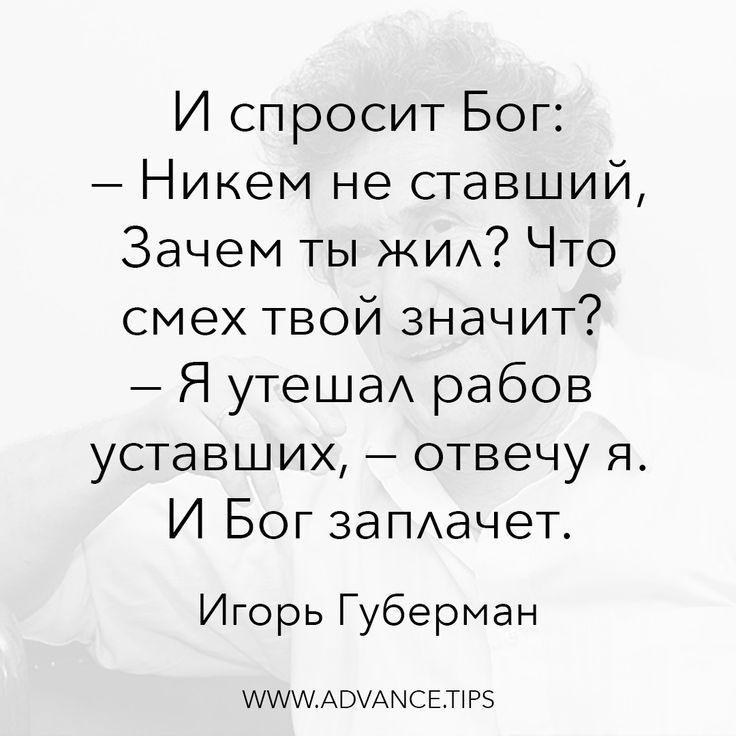
* * *
Я держусь лояльной линии
с нравом времени крутым;
лучше быть растленным циником,
чем подследственным святым.
* * *
В юности ждал я радости
от суеты и свиста,
а превращаюсь к старости
в домосексуалиста.
* * *
Я живу – не придумаешь лучше,
сам себя подпирая плечом,
сам себе одинокий попутчик,
сам с собой не согласный ни в чем.
* * *
Пишу не мерзко, но неровно;
трудиться лень, а праздность злит.
Живу с еврейкой полюбовно,
хотя душой – антисемьит.
* * *
Я оттого люблю лежать
и в потолок плюю,
что не хочу судьбе мешать
кроить судьбу мою.
* * *
Все вечные жиды во мне сидят —
пророки, вольнодумцы, торгаши,
и, всласть жестикулируя, галдят
в потемках неустроенной души.
* * *
Я ни в чем на свете не нуждаюсь,
не хочу ни почестей, ни славы;
я своим покоем наслаждаюсь,
нежным, как в раю после облавы.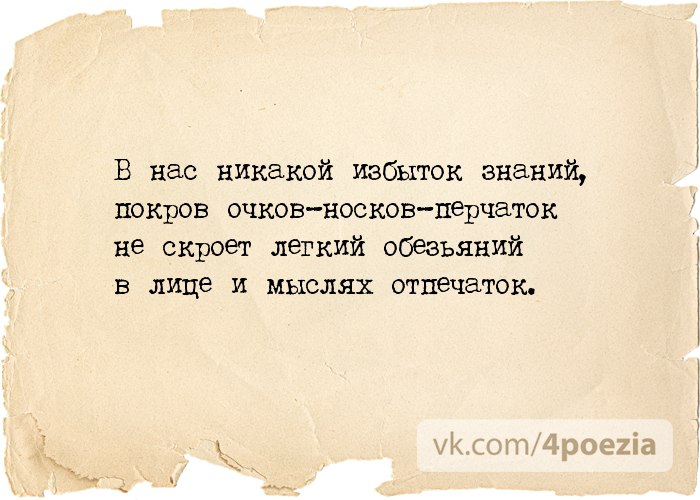
* * *
Пока не поставлена клизма,
я жив и довольно живой;
коза моего оптимизма
питается трын-травой.
* * *
С двух концов я жгу свою свечу,
не жалея плоти и огня,
чтоб, когда навеки замолчу,
близким стало скучно без меня.
* * *
Ничем в герои не гожусь —
ни духом, ни анфасом;
и лишь одним слегка горжусь —
что крест несу с приплясом.
* * *
Я к тем, кто краен и неистов,
утратил прежний интерес:
чем агрессивней прогрессисты,
тем безобразнее прогресс.
* * *
Пусть гоношит базар напрасный
кто видит цель. А я же лично
укрылся в быт настолько частный,
что и лица лишен частично.
* * *
Я понял вдруг, что правильно живу,
что чист и, слава Богу, небездарен,
по чувству, что во сне и наяву
за все, что происходит, благодарен.
* * *
Это счастье – дворец возводить на песке,
не бояться тюрьмы и сумы,
предаваться любви, отдаваться тоске,
пировать в эпицентре чумы.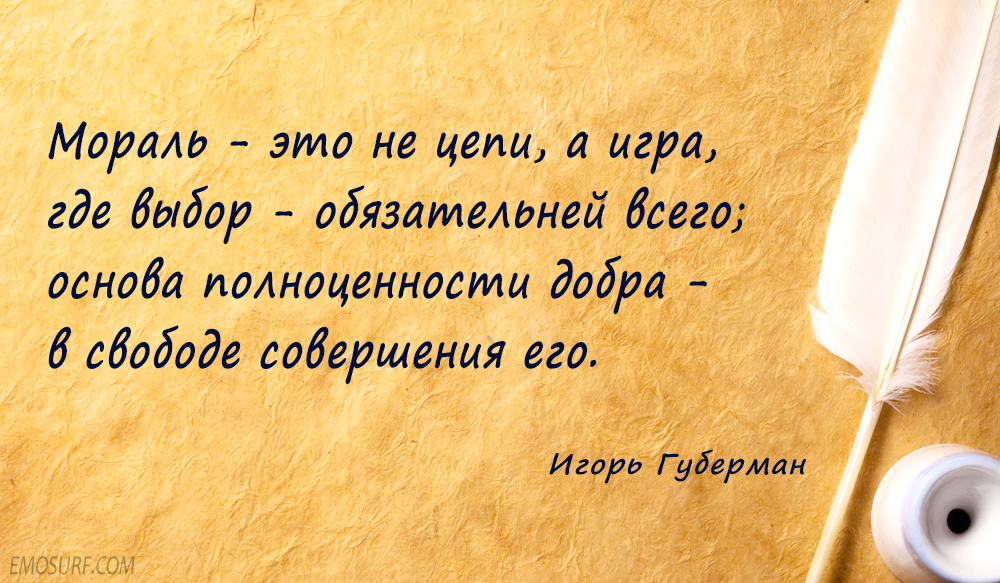
* * *
Мой разум честно сердцу служит,
всегда шепча, что повезло,
что все могло намного хуже,
еще херовей быть могло.
* * *
Живу, ни во что без остатка не веря,
палю, не жалея, шальную свечу,
молчу о находке, молчу о потере,
а пуще всего о надежде молчу.
* * *
Клянусь компотом детства моего
и старческими грелками клянусь,
что я не испугаюсь ничего,
случайно если истины коснусь.
* * *
Что расти с какого-то момента
мы перестаем – большая жалость:
мне, возможно, два лишь сантиметра
до благоразумия осталось.
* * *
В жизненной коллизии любой
жалостью не суживая веки,
трудно, наблюдая за собой,
думать хорошо о человеке.
* * *
Я не верю вранью отпетому
о просвете во мраке мглистом.
Я отчаялся. И поэтому
стал отчаянным оптимистом.
* * *
На всех перепутьях, что пройдены,
держали, желая мне счастья,
стальные объятия родины
и шею мою, и запястья.
* * *
На дереве своей генеалогии
характер мой отыскивая в предках,
догадываюсь грустно я, что многие
качаются в петле на этих ветках.
* * *
Склонен до всего коснуться глазом
разум неглубокий мой, но дошлый,
разве что в политику ни разу
я не влазил глубже, чем подошвой.
* * *
Во всем со всеми наравне,
как капелька в росе,
в одном лишь был иной, чем все, —
я жить не мог в гавне.
* * *
Любому жребий царственный возможен,
достаточна лишь смелость вжиться в роль,
где уничтожен – лучше, чем ничтожен,
унижен – как низложенный король.
* * *
За то, что смех во мне преобладает
над разумом средь жизненных баталий,
фортуна меня щедро награждает
обратной стороной своих медалей.
* * *
Замкнуто, светло и беспечально
я витаю в собственном дыму;
общей цепью скованный случайно,
лишь сосед я веку своему.
* * *
В этом странном окаянстве —
как живу я? Чем дышу?
Шум и хам царят в пространстве,
шумный хам и хамский шум.
* * *
Когда-нибудь я стану знаменит,
по мне окрестят марку папирос,
и выяснит лингвист-антисемит,
что был я прибалтийский эскимос.
* * *
В эту жизнь я пришел не затем,
чтобы въехать в сенат на коне,
я доволен сполна уже тем,
что никто не завидует мне.
* * *
Отнюдь я не был манекен,
однако не был и в балете;
я тот никто, кто был никем,
и очень был доволен этим.
* * *
Есть мечта у меня, беречь
буду крепость ее настоя:
когда вновь будут книги жечь,
пусть мою огня удостоят.
* * *
Что стал я пролетарием – горжусь;
без устали, без отдыха, без фальши
стараюсь, напрягаюсь и тружусь,
как юный лейтенант – на генеральше.
* * *
Средь шумной жизненной пустыни,
где страсть, и гонор, и борение,
во мне достаточно гордыни,
чтобы выдерживать смирение.
* * *
Каков он, идеальный мой читатель?
С отчетливостью вижу я его:
он скептик, неудачник и мечтатель,
и жаль, что не читает ничего.
* * *
Господь – со мной играет ловко,
а я – над Ним слегка шучу,
по вкусу мне моя веревка,
вот я ногами и сучу.
* * *
Всю молодость любил я поезда,
поэтому тот час мне неизвестен,
когда моя счастливая звезда
взошла и не нашла меня на месте.
* * *
Тюрьма была отнюдь не раем,
но часто думал я, куря,
что, как известно, Бог – не фраер,
а значит, я сижу не зря.
* * *
Множеству того, чем грязно время,
тьме событий, мерзостных и гнусных,
я легко отыскиваю семя
в собственных суждениях и чувствах.
* * *
Блуд мировых переустройств
и бред слияния в экстазе —
имеют много общих свойств
со смерчем смыва в унитазе.
* * *
Эпоха, мной за нравственность горда,
чтоб все об этом ведали везде,
напишет мое имя навсегда
на облаке, на ветре, на дожде.
* * *
Куда по смерти душу примут,
я с Богом торга не веду;
в раю намного мягче климат,
но лучше общество в аду.
Губерман Игорь Миронович (псевдонимы И.Миронов, Абрам Хайям и др.) (р. 1936) — российский писатель, поэт.
Родился 7 июля 1936 в Харькове. Детство провел в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). После окончания института работал по специальности. Познакомился с А.Гинзбургом — редактором-составителем «самиздатского» журнала «Синтаксис».
Счастье семьи опирается на благоразумие хотя бы одного из супругов.
Губерман Игорь Миронович
Он также знакомится с группой т.н. «лианозовцев», экспериментировавших в теме бытовой прозы. Губерман становится героем фельетона Р.Карпеля Помойка № 8 («Московский комсомолец», 29 сентября 1960): «…инженер Игорь Губерман, известный тем, что он был одним из вдохновителей и организаторов грязных рукописных листков „Синтаксиса“.
Сей „деятель“, дутый, как пустой бочонок, надменный и самовлюбленный, не умеющий толком связать и двух слов, все еще питает надежду на признание» (см. также ЛИАНОЗОВСКАЯ ШКОЛА).
Какое-то время Губерман сочетал работу инженера с
литературной деятельностью.
Сытые свиньи страшней, чем голодные волки.
Губерман Игорь Миронович
Со временем в «самиздате» начинают появляться стихотворные миниатюры Губермана, позднее получившие название «гарики». (Гарик — его домашнее имя). В 1970-е он активный сотрудник и автор самиздатского журнала «Евреи в СССР».
Люди, делавшие этот журнал, видели свою задачу в распространении среди евреев знаний о религии, об истории и языке своего народа; вопрос же об эмиграции считали личным делом каждого.
В 1978 в Израиле ходившие по рукам «гарики» были собраны и изданы отдельной книгой. В 1979 Губерман был приговорен к 5-ти годам лишения свободы. Художественная гипотеза о причинах ареста — в его книге Штрихи к портрету.
В раю намного мягче климат, но лучше общество в аду.
Губерман Игорь Миронович
В заключении он вел дневник, из которого потом родилась
книга Прогулки вокруг барака (1980, опубликована в 1988).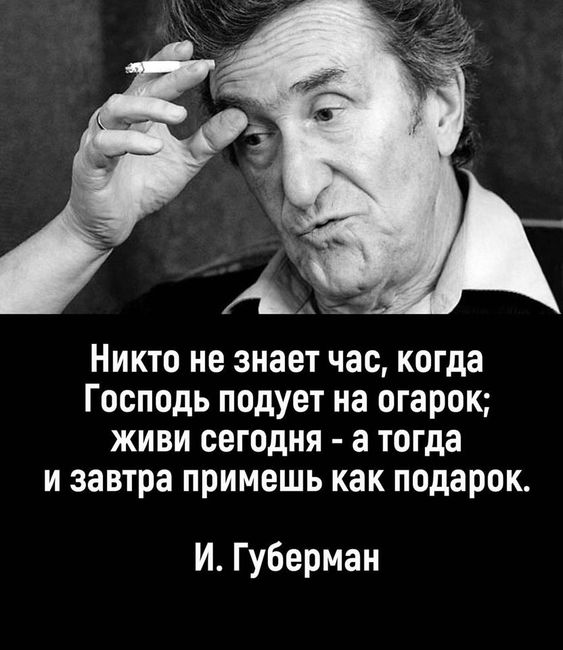 «Пусть только
любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону
эти разрозненные записки, — предупреждает
«Пусть только
любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону
эти разрозненные записки, — предупреждает
Только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение — главное, что я испытал там». Но содержание книги — это история человека, сумевшего остаться Человеком там, где унижением, страхом и скукой / человека низводят в скоты. Помогло четкое сознание: чем век подлей, тем больше чести / тому, кто с ним не заодно. И умение разглядеть человеческое даже в воре, грабителе и убийце.
(Губерман сидел в уголовном лагере). Три героя книги: Писатель, Бездельник и Деляга — три ипостаси автора — помогают сохранить чувство юмора и не поддаться ни унынию, ни гордыне.
Улучшить человека невозможно, и мы великолепны безнадежно.
Губерман Игорь Миронович
Он вернулся из Сибири в 1984. Прописаться не удавалось не
только в Москве, но и в маленьких городках, удаленных от столицы более чем на
100 км. Однако поэт Д.Самойлов прописал его в своем доме в Пярну.
Работал он на Ленинградской студии документальных фильмов. Вскоре Губермана пригласили в ОВИР и сообщили, что считают целесообразным его выезд с семьей в Израиль. Тяжелее всего уезжать нам оттуда, / Где жить невозможно, — написал он впоследствии. С 1988 живет в Иерусалиме.
В Израиле Губерман написал роман Штрихи к портрету (первое издание в России — в 1994). В 1996 в Иерусалиме вышли его мемуары Пожилые записки, в 2001 Книга странствий.
Губерман Игорь Миронович
Но славу ему создали, безусловно, «гарики». Число «гариков»
перевалило за пять тысяч, вместе они образуют некий «гипертекст».
Художественные приемы его стихов типичны для постмодернизма: иронический
перифраз известных выражений (…я мыслил, следователь, но я существую), придание
фразеологизмам прямо противоположного смысла (…был рожден в сорочке, что в
России / всегда вело к смирительной рубашке), центон (есть женщины в русских
селеньях — не по плечу одному), обилие нецензурной («ненормативной») лексики.
Не все критики и не все читатели в восторге от Губермана. Он сам принимает это как должное — «…правы, кто хвалит меня, и правы, кто брызжет хулу»
— (р. 7 июля 1936, Москва), русский писатель. В 1958 окончил Московский институт инженеров транспорта. Автор острых четверостиший («гариков»), в которых часто пренебрегает нормами литературного языка. В 1982 1987 отбывал наказание в исправительно… … Энциклопедический словарь
— (р. 1936), русский писатель. В 196070 х гг. автор научно популярных книг и сценариев для телевидения и кино. В 197984 в заключении и ссылке. С 1988 в Израиле. В афористичных сатирических и иронических стихах миниатюрах… … Большой Энциклопедический словарь
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Губерман. Давид Миронович Губерман … Википедия
Игорь Губерман на обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р. 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия
Игорь Губерман на обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р. 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия
1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия
Игорь Губерман на обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р. 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия
Игорь Миронович (род. 1936), русский писатель. В 1960 1970 х гг. автор научно популярных книг и сценариев для телевидения и кино. В 1979 84 в заключении и ссылке. С 1988 в Израиле. В афористичных сатирических и ироничных стихах миниатюрах… … Русская история
Губерман фамилия. Известные носители: Губерман, Давид Миронович (1929 2011) советский и российский геолог, академик, директор Научно производственного центра «Кольская сверхглубокая» Губерман, Игорь Миронович (р. 1936) советский … Википедия
На обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р.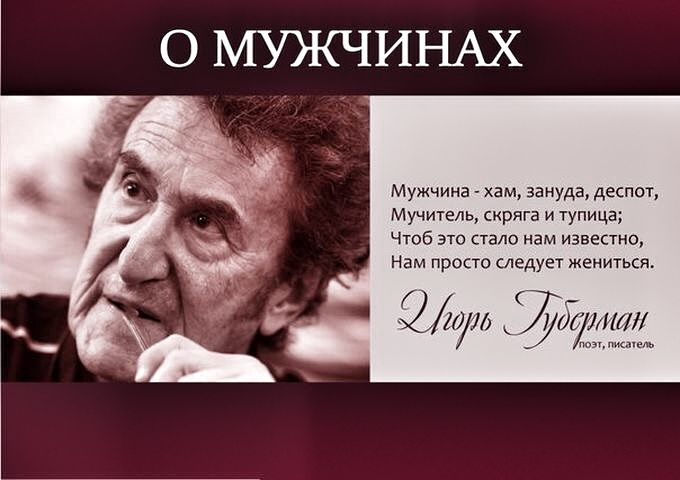 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, «гарикам». Биография… … Википедия
1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, «гарикам». Биография… … Википедия
Книги
- Пустые хлопоты. Гарики и другие произведения , Губерман Игорь Миронович. «Скорей готов ко встрече с вечностью чем к трезвой жизни деловой, я обеспечен лишь беспечностью, зато в избытке и с лихвой. Из нитей солнечного света, азартом творчества томим, я тку манжеты…
- Десятый дневник , Губерман Игорь Миронович. «Вот я и дожил до восьмидесяти лет. Раньше никогда бы не подумал», -пишет Игорь Губерман. Его новая книга.» Десятый дневник»-собрание забавных историй, интереснейших воспоминаний и мудрых…
Губерман Игорь родился в городе Харькове 07.07.1936 года. Прожил он там всего восемь дней от рождения. И, как говорит сам поэт, «поехал покорять Москву». Мама Игоря окончила консерваторию, отец — экономист. В школе сразу приняли во второй класс, так как уже читал и писал. В 1958 году Игорь окончил МИИТ, и ему вручили диплом инженера-электрика.
В 1958 году Игорь окончил МИИТ, и ему вручили диплом инженера-электрика.
Трудовая и литературная деятельность
По специальности работал в течение нескольких лет. Первый трудовой опыт получил в Башкирии, где работал в качестве машиниста электровоза в течение года. Параллельно трудился над научно-популярными книгами. Как-то удавалось сочетать в то время работу с литературной деятельностью, вспоминает Игорь Губерман. Книги:
- «Третий триумвират» — о методах и средствах кибернетики в биологии (1965).
- «Чудеса и трагедии черного ящика» — об исследовании и возможностях мозга (1968).
- «Освобожденное время» — о руководителе организации «Народная воля» (1975).
- «Бехтерев. Страницы жизни» — о русском психологе и неврологе В. Бехтереве (1976).
Губерман Игорь Миронович написал сценарии к нескольким документальным фильмам, регулярно публиковал очерки и статьи в периодических изданиях. В пятидесятых годах знакомится с А. Гинзбургом и другими свободомыслящими людьми.
Арест и ссылка
Активно участвует в издании подпольного журнала «Евреи в СССР» и публикует там свои произведения. Драматическим моментом его жизни стал арест, по сфабрикованному обвинению. Губерман говорит, что это было предопределено, так как в течение года за ним неотступно следовала черная машина.
Отказался дать показания против редактора и его осудили на 5 лет. Отсидел срок он полностью — с 1979 года по 1984. Это «своеобразное времяпрепровождение» добавило ему жизненного опыта, вспоминает Игорь Губерман. «Биография не сложится» и жизнь может подкинуть любой сюрприз. Самое главное, сохранять бодрость духа и быть честным перед собой. В лагере всегда вел дневники, в 1980 году написал «Прогулки вокруг барака», в основу книги легли дневниковые записи (опубликована в 1988 году).
Эмиграция в Израиль
Вернувшись из заключения, долгое время не мог получить прописку в городе и устроиться работать. Спустя год, когда к власти пришел Горбачев, появилась какая-то надежда, что в стране начались изменения. К сожалению, надежды не оправдались. Семья эмигрировала в Израиль. Собственно, решение уехать было принято давно, но помешал отъезду арест Губермана. Поэтому процесс переезда затянулся на долгие годы.
Переехал в Израиль в 1987 году, как рядовой репатриант. Никакого «особого» интереса к себе, как к известной личности, не заметил. Но, оказалось, что в Израиле у него много читателей. Поэтому творческие встречи с читателями и концерты начались очень быстро.
Всегда разными способами зарабатывал на пропитание, вспоминает Игорь Губерман, биография трудовой деятельности широкая — был и инженером, и прорабом, и слесарем. Когда приехал в Израиль, то был готов ко всему и не ожидал, что сможет прокормить свою семью литературным трудом.
Творчество Губермана
Губерман Игорь Миронович активно занимается литературной деятельностью.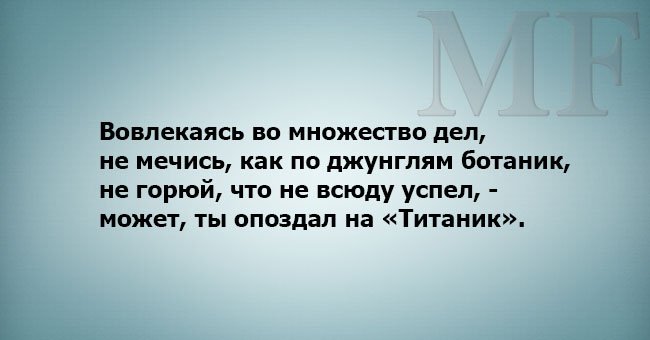 А также пишет свои знаменитые четверостишия. Они отличаются юмором и лаконичностью. Частенько в четверостишиях употребляется ненормативная лексика. Он считает ее естественной частью свободного и великого языка.
А также пишет свои знаменитые четверостишия. Они отличаются юмором и лаконичностью. Частенько в четверостишиях употребляется ненормативная лексика. Он считает ее естественной частью свободного и великого языка.
И это нормально, считает Игорь Губерман, биография многих известных личностей да и лучшие произведения русской литературы не один раз подтверждали, что это вполне естественно. Вот сейчас свободная лексика вернулась в современный литературный язык.
Легендарные «гарики»
Свои четверостишия называет «гариками». Когда-то он называл их «дацзыбао» (пропагандистские листовки во время революции в Китае). В семидесятые годы, когда вышли две его книги, перед арестом Губермана, их все называли «еврейские дацзыбао». Но Губерман говорит, что это глупо и неправильно. Решил, что лучше всего называть их «гариками», так как его дома называли не Игорем, а Гариком.
Он не видит в этом ничего странного или предосудительного. Считает, что это очень органично, так как сейчас многие называют четверостишия своим именем и появилось великое множество «мишиков», «ириков», «мариков». В своих «гариках» Губерман частенько высмеивает российскую действительность. Четверостиший уже более четырех тысяч, несколько изданий пережил сборник «Гарики на каждый день». Игорь Губерман опубликовал и другие сборники стихов:
В своих «гариках» Губерман частенько высмеивает российскую действительность. Четверостиший уже более четырех тысяч, несколько изданий пережил сборник «Гарики на каждый день». Игорь Губерман опубликовал и другие сборники стихов:
Игорь Губерман — автор романа «Штрихи к портрету» (1994). Выступает с чтением стихов, рассказов и воспоминаний в США, России, и других странах. Ведущий ряда программ на русском языке на израильском телевидении. Произведения Губермана переведены на английский, итальянский, немецкий и другие языки.
Супруга Губермана Татьяна по образованию филолог. Ко всему, что пишет ее супруг, относится спокойно. Она прекрасно понимает, что образ героя в стихах и автор — это разные вещи. В его семье даже самые «колючие» стихи все воспринимают нормально. Игорь Миронович говорит, что его стихи пытались перевести на другие языки, но из этого ничего не выходит. «Видимо, реалии нашей жизни выразить другим языком довольно трудно», — шутит Губерман.
Игорь Миронович Губерман (евр.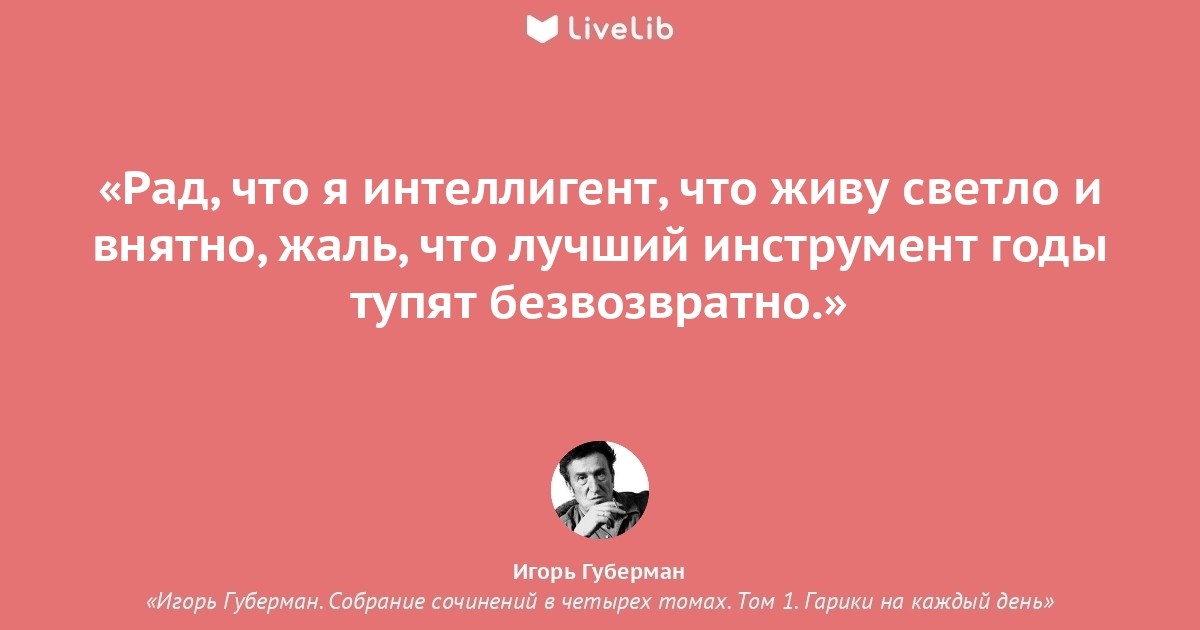 יְהוּדָה בֵן מֵאִיר גוּברמן). Родился 7 июля 1936 года в Харькове. Советский и израильский поэт, прозаик. Известен четверостишиями под названием «гарики».
יְהוּדָה בֵן מֵאִיר גוּברמן). Родился 7 июля 1936 года в Харькове. Советский и израильский поэт, прозаик. Известен четверостишиями под названием «гарики».
Отец — Мирон Давыдович Губерман.
Мать — Эмилия Абрамовна Губерман.
Старший брат — Давид Миронович Губерман, академик РАЕН, работал директором Научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая», был одним из авторов проекта бурения сверхглубоких скважин.
После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), который окончил в 1958 году, получив диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.
В конце 1950-х познакомился с А. Гинзбургом, издававшим один из первых самиздатских журналов «Синтаксис», а также с рядом других философов, деятелей литературы, изобразительного искусства. Писал научно-популярные книги, но все активнее проявлял себя как поэт-диссидент. В своём «неофициальном» творчестве использовал псевдонимы, например И. Миронов, Абрам Хайям.
Миронов, Абрам Хайям.
Арест и уголовный срок Игоря Губермана
В 1979 году Губерман был арестован по сфальсифицированному обвинению о покупке краденых икон и приговорён к пяти годам лишения свободы. Не желая лишнего политического процесса, власти судили Губермана как уголовника по статье за спекуляцию. Кроме того, одному чиновнику приглянулась его коллекция икон.
Сам Губерман о своем уголовном деле рассказывал: «В то время огромное количество людей сажали по уголовной статье. Помню, меня вызвали в КГБ и предложили посадить главного редактора журнала «Евреи в СССР», с которым я тогда сотрудничал, или сесть самому. Выбора у меня не было. Тут же нашли уголовников, которые показали, что я купил у них пять заведомо краденых икон. А так как при обыске у меня их не нашли, что в общем-то понятно, меня судили еще и за сбыт краденого. В общем, мне светило максимум полтора года. Но следовательница мне призналась, что отсижу я полных пять лет, потому что директору музея в Дмитрове очень понравилась моя коллекция икон.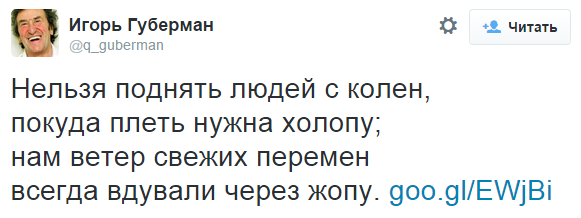 А конфисковать ее могли только, дав мне такой большой срок».
А конфисковать ее могли только, дав мне такой большой срок».
У него конфисковали большую коллекцию живописи, которую он собирал 12 лет: масляные картины, темперные. Кроме того — иконы, скульптуры, большое количество книг.
Попал в исправительно-трудовой лагерь, где вёл дневники. Он вспоминал, что в камере писал на клочках бумаги, которые хранили его сокамерники в сапогах и туфлях. Потом смог передать на свободу через заместителя начальника по режиму Волоколамской тюрьмы. «В тюрьме я встретил разных людей, но ко мне относились очень хорошо. Вообще, к дуракам в России очень хорошо относятся! Кстати, у меня даже кличка была — Профессор. Так она за мной по этапу и тянулась. Потому что я за всех желающих отгадывал кроссворды. А за это мне на прогулочном дворике перекидывали через стену табак», — вспоминал он.
В 1984 году поэт вернулся из Сибири. Долго не мог прописаться в городе и устроиться на работу. Он рассказывал: «Меня не прописывали в Москве. А вот жену с детьми сразу, меня только год спустя прописал у себя Давид Самойлов — в Пярну. Там же я снял с себя судимость. Милиция исправно приходила и проверяла, где я».
Там же я снял с себя судимость. Милиция исправно приходила и проверяла, где я».
В 1988 году Губерман эмигрировал из СССР в Израиль, живёт в Иерусалиме. Часто приезжает в Россию, выступая на поэтических вечерах.
В Израиле он вновь стал коллекционировать и собрал довольно неплохую коллекцию живописи.
Широкую известность и популярность получили его «гарики» — афористичных, сатирических четверостиший. Изначально он называл свои стихи дацзыбао (во времена культурной революции в Китае так назывались большие лозунги). Но в 1978 году друзья издали его книжку в Израиле, назвав «Еврейские дацзыбао». Тогда он решил поменять название своих четверостиший. О том, как появилось это название, он говорил: «Вместе со мной. Меня зовут Игорь, но дома всегда звали Гариком. Бабушка произносила мое имя замечательно: «Гаринька, каждое твое слово лишнее!»».
Вся история нам говорит,
что Господь неустанно творит.
Каждый век появляется гнида
Неизвестного ранее вида.
Является сторонником неформальной лексики: «Ведь без нее литература российская просто невозможна!».
«Меня как непотопляемого оптимиста трудно расстроить. Старость навевает грусть. Правда, я и на эту тему умудряюсь шутить: «В органах слабость, за коликой спазм, старость — не радость, маразм — не оргазм»», — говорил Губерман.
Игорь Губерман — Гарики
Личная жизнь Игоря Губермана:
Женат. Супруга — Татьяна Губерман (в девичестве Либединская), дочь писателей Юрия Либединского и Лидии Либединской. Как говорил Губерман, всю жизнь он был счастлив в браке. «Не знаю, как жена, но выбора у нее просто нет. По совету одного своего приятеля, я при заполнении анкеты в графе «семейное положение» пишу — безвыходное», — шутил он.
В браке родилось двое детей: дочь Татьяна Игоревна Губерман и сын Эмиль Игоревич Губерман.
Дочь — воспитательница в детском саду, раньше занималась кибернетическими машинами. Сын — программист-процессорщик.
У Губермана три внучки и внук.
Библиография Игоря Губермана:
1965 — Третий триумвират
1969 — Чудеса и трагедии чёрного ящика
1974 — Третий триумвират
1977 — Бехтерев: страницы жизни
1978 — Игорь Гарик. «Еврейские Да-Цзы-Бао»
1980 — Еврейские дацзыбао
1982 — Бумеранг
1988 — Прогулки вокруг барака
1988 — «Гарики (Дацзыбао)»
1992 — Гарики на каждый день
1994 — Второй иерусалимский дневник
1994 — Иерусалимские гарики
1994 — Штрихи к портрету
1998 — Гарики из Иерусалима
2002-2010 — Антология Сатиры и Юмора России XX века. Т.17
2003 — Окунь А., Губерман И. Книга о вкусной и здоровой жизни
2004 — Гарики предпоследние. Гарики из Атлантиды
2006 — Второй иерусалимский дневник
2006 — Вечерний звон
2009 — Губерман И., Окунь А. Путеводитель по стране сионских мудрецов
2009 — Книга странствий
2009 — Заметки с дороги
2009 — Пожилые записки
2010 — В любви все возрасты проворны
2010 — Гарики за много лет
2010 — Искусство стареть
2013 — Восьмой дневник
2013 — Иерусалимские дневники
2014 — Дар легкомыслия печальный
2015 — Девятый дневник
2016 — Ботаника любви
2016 — Гарики и проза
2016 — Еврейские мелодии
Гарики Игоря Губермана:
Предпочитая быть романтиком
Во время тягостных решений,
Всегда завязывал я бантиком
Концы любовных отношений.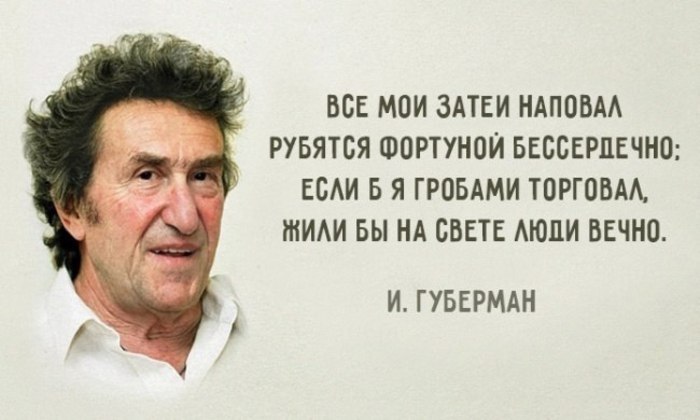
Давай, Господь, решим согласно,
Определив друг другу роль:
Ты любишь грешников? Прекрасно.
А грешниц мне любить позволь.
Был холост — снились одалиски,
Вакханки, шлюхи, гейши, киски;
Теперь со мной живет жена,
А ночью снится тишина.
Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую, и вижу очень зримо:
неважно, что мгновение прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
Текут рекой за ратью рать,
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
Я рад, что вновь сижу с тобой,
сейчас бутылку мы откроем,
мы объявили пьянству бой,
но надо выпить перед боем.
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
Идея найдена не мной,
но это ценное напутствие:
чтоб жить в согласии с женой,
я спорю с ней в ее отсутствие.
Опыт не улучшил никого;
те, кого улучшил, врут безбожно;
опыт — это знание того,
что уже исправить невозможно.
печаль моя, как мир, стара:
повесил зеркало с утра?
Тоскливей ничего на свете нету,
чем вечером, дыша холодной тьмой,
тоскливо закуривши сигарету,
подумать, что не хочется домой.
я вынянчил понятие простое:
Жить, покоем дорожа, —
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
и смех меня брал на бегу:
и рьяно его берегу.
Слежу со жгучим интересом
за многолетним давним боем.
Во мне воюют ангел с бесом,
а я сочувствую обоим.
Не в силах жить я коллективно:
по воле тягостного рока
мне с идиотами — противно,
а среди умных — одиноко.
Весьма порой мешает мне заснуть
волнующая, как ни поверни,
открывшаяся мне внезапно суть
какой-нибудь немыслимой херни.
С Богом я общаюсь без нытья
и не причиняя беспокойства;
глупо на устройство бытия
жаловаться автору устройства.
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
Отменной верности супруг,
Усердный брачных уз невольник —
Такой семейный чертит круг,
Что бабе снится треугольник.
Я женских слов люблю родник
И женских мыслей хороводы,
Поскольку мы умны от книг,
А бабы — прямо от природы.
Красоток я любил не очень
И не по скудности деньжат:
Красоток даже среди ночи
Волнует, как они лежат.
С неуклонностью упрямой
Все на свете своевременно;
Чем невинней дружба с дамой,
тем быстрей она беременна.
Есть дамы: каменны, как мрамор,
И холодны, как зеркала,
Но чуть смягчившись, эти дамы
В дальнейшем липнут, как смола.
Наступила в душе моей фаза
Упрощения жизненной драмы:
Я у дамы боюсь не отказа,
А боюсь я согласия дамы.
Душой и телом охладев,
Я погасил мою жаровню:
Еще смотрю на нежных дев,
А для чего — уже не помню.
Кто ищет истину, держись
У парадокса на краю;
Вот женщины: дают нам жизнь,
А после жить нам не дают.
Бабы одеваются сейчас,
Помня, что слыхали от подружек:
Цель наряда женщины — показ,
Что и без него она не хуже.
На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.
За радости любовных ощущений
однажды острой болью заплатив,
мы так боимся новых увлечений,
что носим на душе презерватив.
Жить, покоем дорожа, —
пресно, тускло, простоквашно;
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
Вчера я бежал запломбировать зуб,
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю мой будущий труп
и рьяно его берегу.
В наш век искусственного меха
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
Вся наша склонность к оптимизму —
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
Есть личности — святая простота
играет их поступки, как по нотам,
наивность — превосходная черта,
присущая творцам и идиотам.
Текут рекой за ратью рать,
чтобы уткнуться в землю лицами;
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
Всего слабей усваивают люди,
взаимным обучаясь отношениям,
что слишком залезать в чужие судьбы
возможно лишь по личным приглашениям.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Мы сохранили всю дремучесть
былых российских поколений,
но к ним прибавили пахучесть
своих духовных выделений.
Увы, но я не деликатен
и вечно с наглостью циничной
интересуюсь формой пятен
на нимбах святости различной.
Ворует власть, ворует челядь,
вор любит вора укорять;
в Россию можно смело верить,
но ей опасно доверять.
Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?
Мужик тугим узлом совьется,
но, если пламя в нем клокочет,
всегда от женщины добьется
того, что женщина захочет.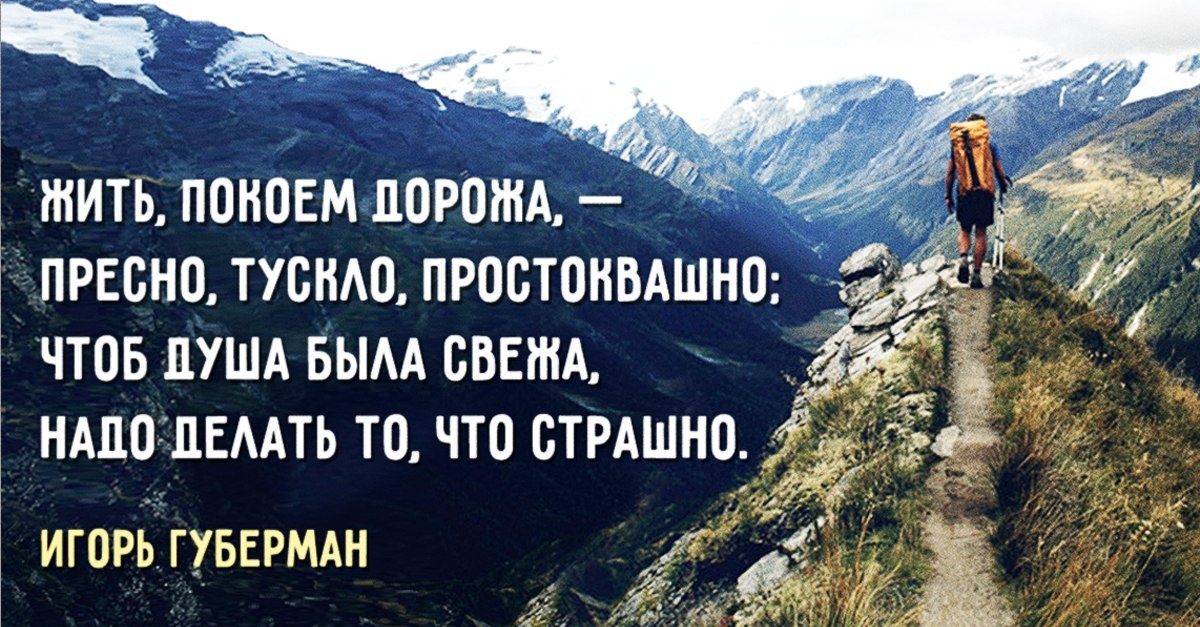
Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно.
Живя в загадочной отчизне
из ночи в день десятки лет,
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.
Любил я книги, выпивку и женщин
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен,
Теперь уже на книги нету сил.
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
Вожди России свой народ
во имя чести и морали
опять зовут идти вперед,
а где перед, опять соврали.
Вся история нам говорит,
что Господь неустанно творит:
каждый год появляется гнида
неизвестного ранее вида.
Нам непонятность ненавистна
в рулетке радостей и бед.
Мы даже в смерти ищем смысла,
хотя его и в жизни нет.
Когда, глотая кровь и зубы,
мне доведется покачнуться,
я вас прошу, глаза и губы,
не подвести и улыбнуться.
Читать онлайн «Гарики на все времена. Том 1», Игорь Губерман – ЛитРес
Моей жене Тате – с любовью и благодарностью
Благодарю тебя, Создатель,
что сшит не юбочно, а брючно,
что многих дам я был приятель,
но уходил благополучно.
Благодарю тебя, Творец,
за то, что думать стал я рано,
за то, что к водке огурец
ты посылал мне постоянно.
Благодарю тебя, Всевышний,
за все, к чему я привязался,
за то, что я ни разу лишний
в кругу друзей не оказался.
И за тюрьму благодарю,
она во благо мне явилась,
она разбила жизнь мою
на разных две, что тоже милость.
И одному тебе спасибо,
что держишь меру тьмы и света,
что в мире дьявольски красиво,
и мне доступно видеть это.
В оформлении книги использованы наскальные рисунки древних евреев
ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК
Во что я верю, жизнь любя?
Ведь невозможно жить, не веря.

Я верю в случай, и в себя,
и в неизбежность стука в двери.
1977 год
Я взял табак, сложил белье —
к чему ненужные печали?
Сбылось пророчество мое,
и в дверь однажды постучали.
1979 год
Друзьями и покоем дорожи,
люби, покуда любится, и пей,
живущие над пропастью во лжи
не знают хода участи своей.
1
И я сказал себе: держись,
Господь суров, но прав,
нельзя прожить в России жизнь,
тюрьмы не повидав.
2
Попавшись в подлую ловушку,
сменив невольно место жительства,
кормлюсь, как волк, через кормушку
и охраняюсь, как правительство.
3
Свою тюрьму я заслужил.
Года любви, тепла и света
я наслаждался, а не жил,
и заплатить готов за это.
4
Серебра сигаретного пепла
накопился бы холм небольшой
за года, пока зрело и крепло
все, что есть у меня за душой.
5
Когда нам не на что надеяться
и Божий мир не мил глазам,
способна сущая безделица
пролиться в душу как бальзам.
6
В неволе зависть круче тлеет
и злее травит бытие;
в соседней камере светлее,
и воля ближе из нее.
7
Среди воров и алкоголиков
сижу я в каменном стакане,
и незнакомка между столиков
напрасно ходит в ресторане.
Дыша духами и туманами,
из кабака идет в кабак
и тихо плачет рядом с пьяными,
что не найдет меня никак.
8
Думаю я, глядя на собрата, —
пьяницу, подонка, неудачника, —
как его отец кричал когда-то:
«Мальчика! Жена родила мальчика!»
9
Несчастья освежают нас и лечат
и раны присыпают слоем соли;
чем ниже опускаешься, тем легче
дальнейшее наращиванье боли.
10
На крайности последнего отчаянья
негаданно-нежданно всякий раз
нам тихо улыбается случайная
надежда, оживляющая нас.
11
Страны моей главнейшая опора —
не стройки сумасшедшего размаха,
а серая стандартная контора,
владеющая ниточками страха.
12
Тлетворной мы пропитаны смолой
апатии, цинизма и безверия.
Связавши их порукой круговой,
на них, как на китах, стоит империя.
13
Как же преуспели эти суки,
здесь меня гоняя, как скотину,
я теперь до смерти буду руки
при ходьбе закладывать за спину.
14
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьезность идиота
и хмурая старательность его.
15
Здесь радио включают, когда бьют,
и музыкой притушенные крики
звучат как предъявляемые в суд
животной нашей сущности улики.
16
Томясь тоской и самомнением,
не сетуй всуе, милый мой,
жизнь постижима лишь в сравнении
с болезнью, смертью и тюрьмой.
17
Плевать, что небо снова в тучах
и гнет в тоску блажная высь,
печаль души врачует случай,
а он не может не найтись.
18
Еда, товарищи, табак,
потом вернусь в семью;
я был бы сволочь и дурак,
ругая жизнь мою.
19
Я заметил на долгом пути,
что, работу любя беззаветно,
палачи очень любят шутить
и хотят, чтоб шутили ответно.
20
Из тюрьмы ощутил я страну —
даже сердце на миг во мне замерло —
всю подряд в ширину и длину
как одну необъятную камеру.
21
Бог молча ждет нас. Боль в груди.
Туман. Укол. Кровать.
И жар тоски, что жил в кредит
и нечем отдавать.
22
Я ночью просыпался и курил,
боясь, что то же самое приснится:
мне машет стая тысячами крыл,
а я с ней не могу соединиться.
23
Прихвачен, как засосанный в трубу,
я двигаюсь без жалобы и стона,
теперь мою дальнейшую судьбу
решит пищеварение закона.
24
Прощай, удача, мир и нега!
Мы привыкаем ко всему;
от невозможности побега
я полюбил свою тюрьму.
25
У жизни человеческой на дне,
где мерзости и боль текущих бед,
есть радости, которые вполне
способны поддержать душевный свет.
26
Там, на утраченной свободе,
в закатных судорогах дня
ко мне уныние приходит,
а я в тюрьме, и нет меня.
27
Империи летят, хрустят короны,
история вершит свой самосуд,
а нам сегодня дали макароны,
а завтра – передачу принесут.
28
Когда уходит жить охота
и в горло пища не идет,
какое счастье знать, что кто-то
тебя на этом свете ждет.
29
Здесь жестко стелется кровать,
здесь нет живого шума,
в тюрьме нельзя болеть и ждать,
но можно жить и думать.
30
Что я понял с тех пор, как попался?
Очень много. Почти ничего.
Человеку нельзя без пространства,
и пространство мертво без него.
31
Мой ум имеет крайне скромный нрав,
и наглость мне совсем не по карману,
но если положить, что Дарвин прав,
то Бог создал всего лишь обезьяну.
32
Мы жизни наши ценим слишком низко,
меж тем как то медвяная, то деготь
история течет настолько близко,
что пальцами легко ее потрогать.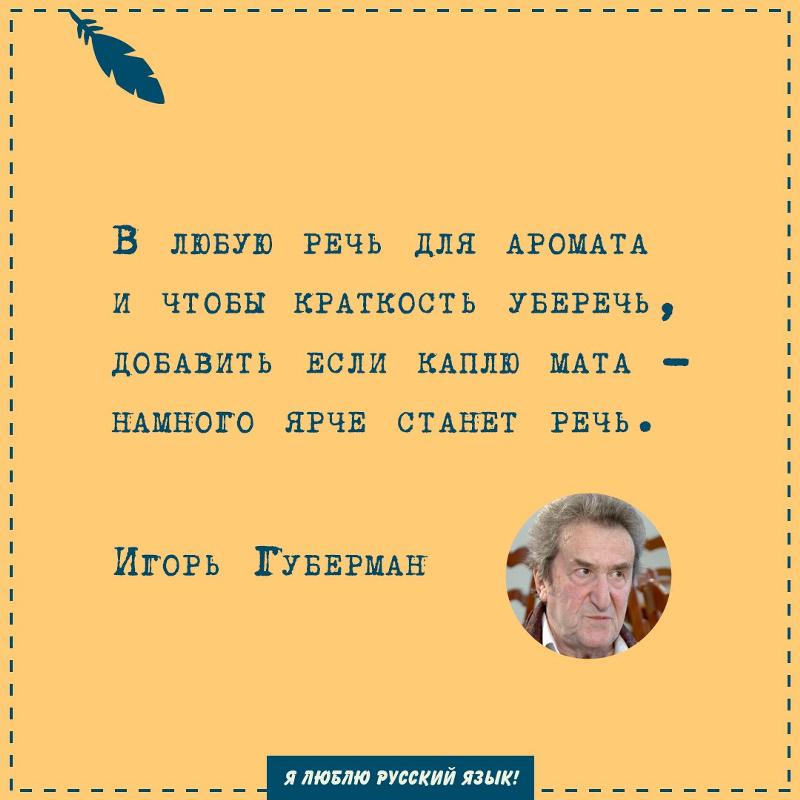
33
Я теперь вкушаю винегрет
сетований, ругани и стонов,
принят я на главный факультет
университета миллионов.
34
С годами жизнь пойдет налаженней
и все забудется, конечно,
но хрип ключа в замочной скважине
во мне останется навечно.
35
В любом из нас гармония живет
и в поисках, во что ей воплотиться,
то бьется, как прихваченная птица,
то пляшет и невнятицу поет.
36
Для райского климата райского сада,
где все зеленеет от края до края,
тепло поступает по трубам из ада,
а топливо ада – растительность рая.
37
Россия безнадежно и отчаянно
сложилась в откровенную тюрьму,
где бродят тени Авеля и Каина
и каждый сторож брату своему.
38
Был юн и глуп, ценил я сложность
своих знакомых и подруг,
а после стал искать надежность,
и резко сузился мой круг.
39
Душа предметов призрачна с утра,
мертва природа стульев и буфетов,
потом приходит сумерек пора,
и зыбко оживает мир предметов.
40
Из тюрьмы собираюсь я вновь
по пути моих предков-скитальцев;
увезу я отсюда любовь,
а оставлю оттиски пальцев.
41
Последняя ночная сигарета
потрескивает искрами костра,
комочек благодарственного света
домашним, кто прислал его вчера.
42
Бывает в жизни миг зловещий —
как чувство чуждого присутствия —
когда тебя коснутся клещи
судьбы, не знающей сочувствия.
43
Устал я жить как дилетант,
я гласу Божескому внемлю
и собираюсь свой талант
навек зарыть в Святую землю.
44
В неволе все с тобой на «ты»,
но близких вовсе нет кругом,
в неволе нету темноты,
но даже свет зажжен врагом.
45
Судьба мне явно что-то роет,
сижу на греющемся кратере,
мне так не хочется в герои,
мне так охота в обыватели!
46
Допрос был пустой, как ни бились…
Вернулся на жесткие нары.
А нервы сейчас бы сгодились
на струны для лучшей гитары.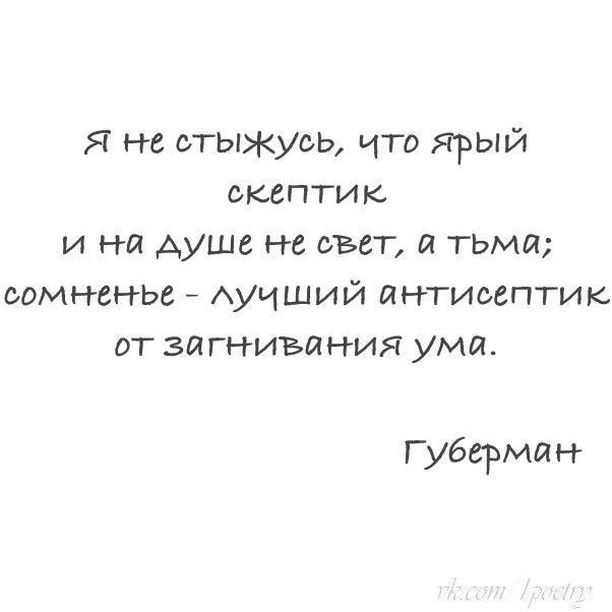
47
В беде я прелесть новизны
нашел, утратив спесь,
и, если бы не боль жены,
я был бы счастлив здесь.
48
Не тем страшна глухая осень,
что выцвел, вянешь и устал,
а что уже под сердцем носим
растущий холода кристалл.
49
Сколько силы, тюрьма, в твоей хватке!
Мне сегодня на волю не хочется,
словно ссохлась душа от нехватки
темноты, тишины, одиночества.
50
Не требуют от жизни ничего
российского Отечества сыны,
счастливые незнанием того,
чем именно они обделены.
51
В объятьях водки и режима
лежит Россия недвижимо,
и только жид, хотя дрожит,
но по веревочке бежит.
52
Когда судьба, дойдя до перекрестка,
колеблется, куда ей повернуть,
не бойся неназойливо, но жестко
слегка ее коленом подтолкнуть.
53
Разгульно, раздольно, цветисто,
стремясь догореть и излиться,
эпохи гниют живописно,
но гибельно для очевидца.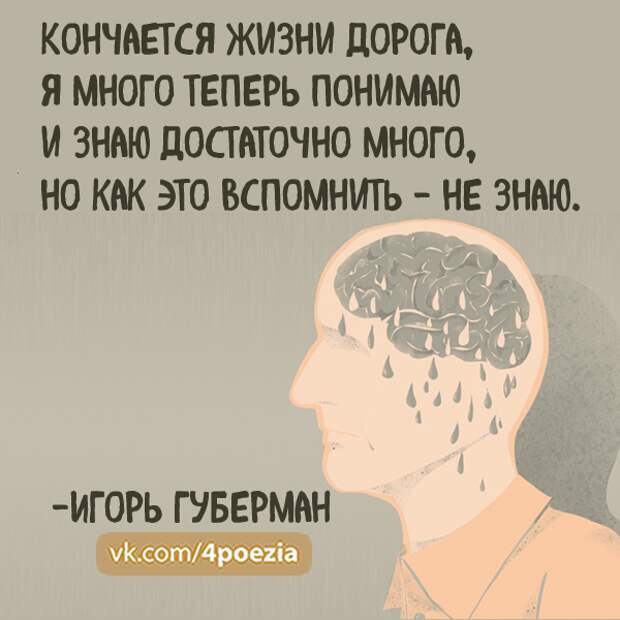
54
Зачем в герое и в ничтожестве
мы ищем сходства и различия?
Ища величия в убожестве.
Познав убожество величия.
55
В России слезы светятся сквозь смех,
Россию Бог безумием карал,
России послужили больше всех
те, кто ее сильнее презирал.
56
Я стараюсь вставать очень рано
и с утра для душевной разминки
сыплю соль на душевные раны
и творю по надежде поминки.
57
Впервые жизнь явилась мне
всей полнотой произведения:
у бытия на самом дне —
свои высоты и падения.
58
С утра на прогулочном дворике
лежит свежевыпавший снег
и выглядит странно и горько,
как новый в тюрьме человек.
59
Сижу пока под следственным давлением
в одном из многих тысяч отделений;
вдыхают прокуроры с вожделением
букет моих кошмарных преступлений.
60
В тюрьме я учился по жизням соседним,
сполна просветившись догадкою главной,
что надо делиться заветным последним —
для собственной пользы, неясной, но явной.
61
Жаль мне тех, кто тюрьмы не изведал,
кто не знает ее сновидений,
кто не слышал неспешной беседы
о бескрайностях наших падений.
62
Тюремная келья, монашеский пост,
за дверью солдат с автоматом,
и с утренних зорь до полуночных звезд —
молитва, творимая матом.
63
Вокруг себя едва взгляну,
с тоскою думаю холодной:
какой кошмар бы ждал страну,
где власть и впрямь была народной.
64
В тюрьме я в острых снах переживаю
такую беготню по приключениям,
как будто бы сгущенно проживаю
то время, что убито заключением.
65
Когда уход из жизни близок,
хотя не тотчас, не сейчас,
душа, предощущая вызов,
духовней делается в нас.
66
Не потому ли мне так снятся
лихие сны почти все ночи,
что Бог позвал меня на танцы,
к которым я готов не очень?
67
Всмотревшись пристрастно и пристально,
я понял, что надо спешить,
что жажда покоя и пристани
вот-вот помешает мне жить.
68
У старости есть мания страдать
в томительном полночном наваждении,
что попусту избыта благодать,
полученная свыше при рождении.
69
Не лезь, мой друг, за декорации —
зачем ходить потом в обиде,
что благороднейшие грации
так безобразны в истом виде.
70
Вчера сосед по нарам взрезал вены;
он смерти не искал и был в себе,
он просто очень жаждал перемены
в своей остановившейся судьбе.
71
Я скепсисом съеден и дымом пропитан,
забыта весна и растрачено лето,
и бочка иллюзий пуста и разбита,
а жизнь – наслаждение, полное света.
72
Я что-то говорю своей жене,
прищурившись от солнечного глянца,
а сын, поймав жука, бежит ко мне.
Такие сны в тюрьме под утро снятся.
73
Вот и кости ломит в непогоду,
хрипы в легких чаще и угарней;
возвращаясь в мертвую природу,
мы к живой добрей и благодарней.
74
Все, что пропустил и недоделал,
все, чем по-дурацки пренебрег,
в памяти всплывает и умело
ночью прямо за душу берет.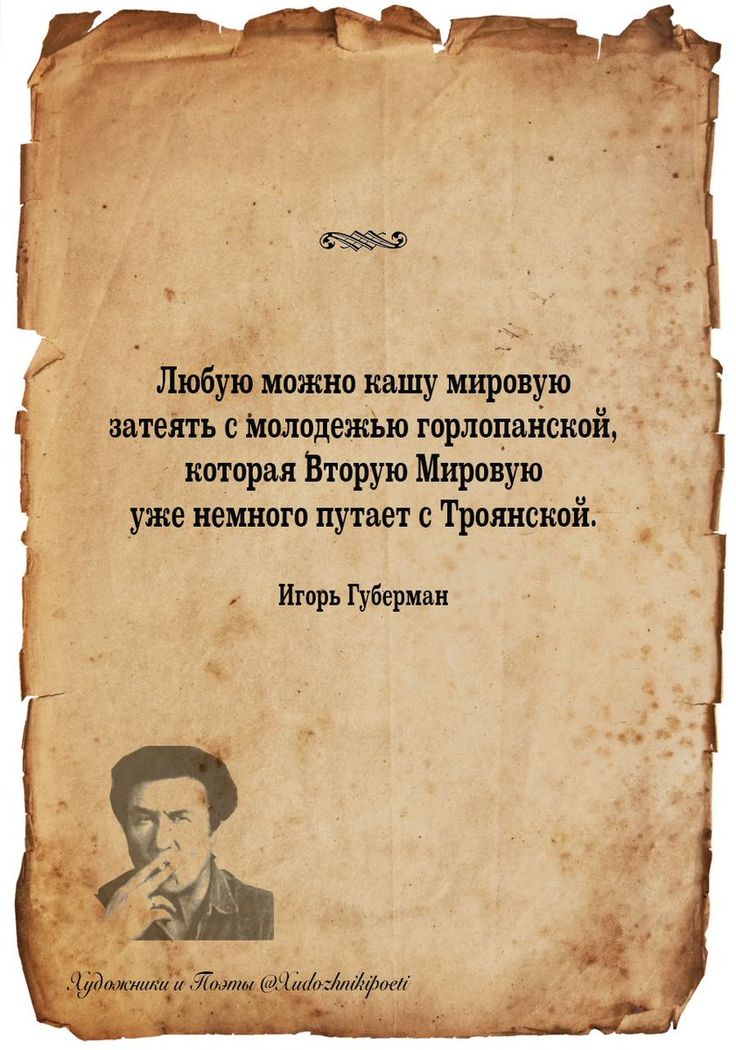
75
Блажен, кто хлопотлив и озабочен
и ночью видит сны, что снова день,
и крутится с утра до поздней ночи,
ловя свою вертящуюся тень.
76
Где крыша в роли небосвода —
свой дух, свой быт, своя зима,
своя печаль, своя свобода
и даже есть своя тюрьма.
77
Мое безделье будет долгим,
еще до края я не дожил,
а те, кто жизнь считает долгом,
пусть объяснят, кому я должен.
78
Наклонись, философ, ниже,
не дрожи, здесь нету бесов,
трюмы жизни пахнут жижей
от общественных процессов.
79
Курилки, подоконники, подъезды,
скамейки у акаций густолистых —
все помощи там были безвозмездны,
все мысли и советы бескорыстны.
Теперь, когда я взвешиваю слово
и всякая наивность неуместна,
я часто вспоминаю это снова:
курилки, подоконники, подъезды.
80
Чуть пожил – и нет меня на свете —
как это диковинно, однако;
воздух пахнет сыростью, и ветер
воет над могилой, как собака.
81
Весной я думаю о смерти.
Уже нигде. Уже никто.
Как будто был в большом концерте
и время брать внизу пальто.
82
По камере то вдоль, то поперек,
обдумывая жизнь свою, шагаю
и каждый возникающий упрек
восторженно и жарко отвергаю.
83
В неволе я от сытости лечился,
учился полувзгляды понимать,
с достоинством проигрывать учился
и выигрыш спокойно принимать.
84
Тюрьмой сегодня пахнет мир земной,
тюрьма сочится в души и умы,
и каждый, кто смиряется с тюрьмой,
становится строителем тюрьмы.
85
Ветреник, бродяга, вертопрах,
слушавшийся всех и никого,
лишь перед неволей знал я страх,
а теперь лишился и его.
86
В тюрьме, где ощутил свою ничтожность,
вдруг чувствуешь, смятение тая,
бессмысленность, бесцельность, безнадежность
и дикое блаженство бытия.
87
Тюрьмою наградила напоследок
меня отчизна-мать, спасибо ей,
я с радостью и гордостью изведал
судьбу ее не худших сыновей.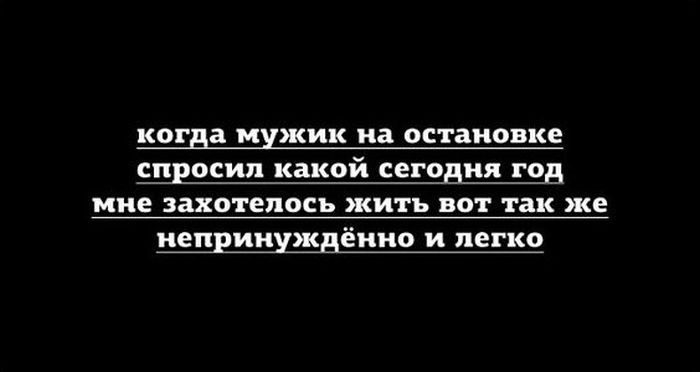
88
Когда, убогие калеки,
мы устаем ловить туман,
какое счастье знать, что реки
впадут однажды в океан.
89
Здесь ни труда, ни алкоголя,
а большинству беда втройне —
еще и каторжная доля
побыть с собой наедине.
90
Напрасны страх, тоска и ропот,
когда судьба влечет во тьму;
в беде всегда есть новый опыт,
полезный духу и уму.
91
А часто в час беды, потерь и слез,
когда несчастья рыщут во дворе,
нам кажется, что это не всерьез,
что вон уже кричат – конец игре.
92
Всю жизнь я больше созерцал,
а утруждался очень мало,
светильник мой, хотя мерцал,
но сквозь бутыль и вполнакала.
93
Года промчатся быстрой ланью,
укроет плоть суглинка пласт,
и Бог-отец могучей дланью
моей душе по жопе даст.
94
В тюрьму я брошен так давно,
что сжился с ней, признаться честно;
в подвалах жизни есть вино,
какое воле неизвестно.
95
Какое это счастье: на свободе
со злобой и обидой через грязь
брести домой по мерзкой непогоде
и чувствовать, что жизнь не удалась.
96
Глаза упавшего коня,
огромный город без движения,
помойный чан при свете дня —
моей тюрьмы изображение.
97
Стихов довольно толстый томик,
отмычку к райским воротам,
а также свой могильный холмик
меняю здесь на бабу там!
98
В тюрьме вечерами сидишь молчаливо
и очень на нары не хочется лезть,
а хочется мяса, свободы и пива
и изредка – славы, но чаще – поесть.
99
В наш век искусственного меха
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
100
Тюрьма – не только боль потерь.
Источник темных откровений,
тюрьма еще окно и дверь
в пространство новых измерений.
101
В тюрьму посажен за грехи
и сторожимый мразью разной,
я душу вкладывал в стихи,
а их носил под пяткой грязной.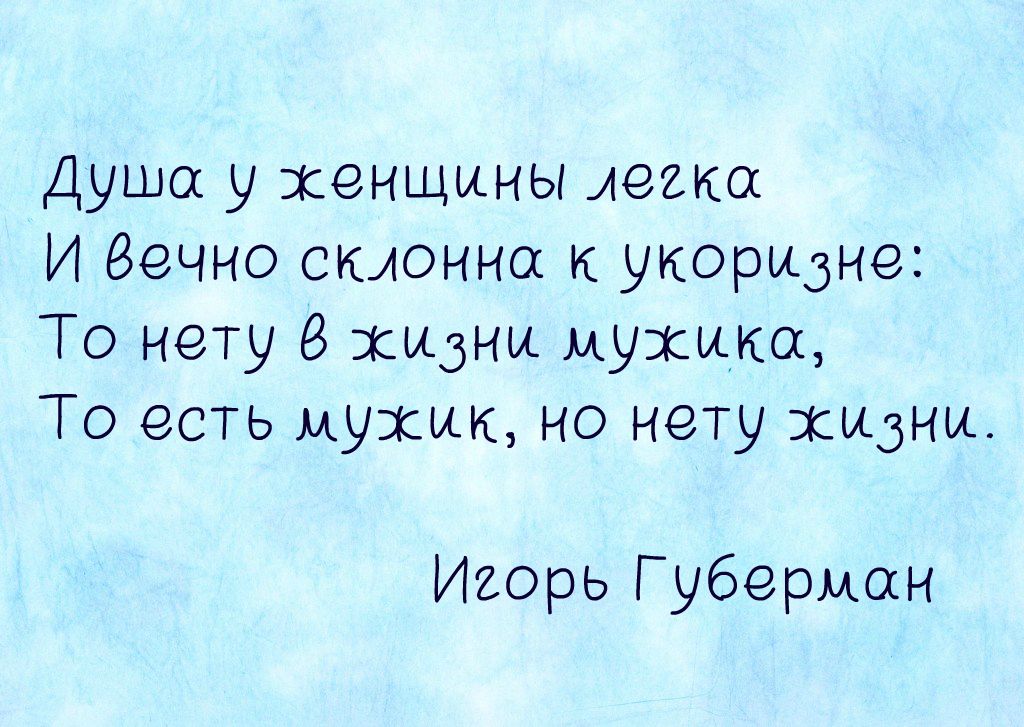
102
И по сущности равные шельмы,
и по глупости полностью схожи
те, кто хочет купить подешевле,
те, кто хочет продать подороже.
103
Взломщики, бандиты, коммунары,
взяточники, воры и партийцы —
сотни тел полировали нары,
на которых мне сейчас не спится.
Тени их проходят предо мною
кадрами одной кошмарной серии,
и волной уходят за волною
жертвы и строители империи.
104
Грабительство, пьяная драка,
раскража казенного груза…
Как ты незатейна, однако,
российской преступности Муза!
105
Все дороги России – беспутные,
все команды в России – пожарные,
все эпохи российские – смутные,
все надежды ее – лучезарные.
106
Меня не оставляет ни на час
желание кому-то доказать,
что беды, удручающие нас,
на самом деле тоже благодать.
107
Божий мир так бестрепетно ясен
и, однако, так сложен притом,
что никак и ничуть не напрасен
страх и труд не остаться скотом.
108
На улице сейчас – как на душе:
спокойно, ясно, ветрено немного,
и жаль слегка, что главная дорога,
по-видимому, пройдена уже.
109
Есть еле слышный голос крови,
наследства предков тонкий глас,
он сводит или прекословит,
когда судьба сближает нас.
110
Нет, не судьба творит поэта,
он сам судьбу свою творит,
судьба – платежная монета
за все, что вслух он говорит.
111
Вослед беде идет удача,
а вслед удачам – горечь бед;
мир создан так, а не иначе,
и обижаться смысла нет.
112
Живущий – улыбайся в полный рот
и чаще пей взбодряющий напиток;
в ком нет веселья – в рай не попадет,
поскольку там зануд уже избыток.
113
Последнюю в себе сломив твердыню
и смыв с лица души последний грим,
я, Господи, смирил свою гордыню,
смири теперь свою – поговорим.
114
Я глубже начал видеть пустоту,
и чавкающей грязи плодородность,
и горечь, что питает красоту,
и розовой невинности бесплодность.
115
Искрение, честность, метание,
нелепости взрывчатой смелости —
в незрелости есть обаяние,
которого нету у зрелости.
116
Чем нынче занят? Вновь и снова
в ночной тиши и свете дня
я ворошу золу былого,
чтоб на сейчас найти огня.
117
Как никакой тяжелый час,
как никакие зной и холод,
насквозь просвечивает нас
рентген души – тюремный голод.
118
Нет, не бездельник я, покуда голова
работает над пряжею певучей;
я в реки воду лью, я в лес ношу дрова,
я ветру дую вслед, гоняя тучи.
119
Вот человек. Лицо и плечи.
Тверда рука. Разумна речь.
Он инженер. Он строил печи,
чтобы себе подобных жечь.
120
Не страшно, а жаль мне подонка,
пуглив его злобный оскал,
похожий на пса и ребенка,
он просто мужчиной не стал.
121
У прошлого есть запах, вкус и цвет,
стремление учить, влиять и значить,
и только одного, к несчастью, нет —
возможности себя переиначить.
122
Двуногим овцам нужен сильный пастырь.
Чтоб яростен и скор. Жесток и ярок.
Но изредка жалел и клеил пластырь
на раны от зубов его овчарок.
123
Не спорю, что разум, добро и любовь
движение мира ускорили,
но сами чернила истории – кровь
людей, непричастных к истории.
124
Соблазн тюремных искушений
однообразен, прям и прост:
избегнуть боли и лишений,
но завести собачий хвост.
125
Пока я немного впитал с этих стен,
их духом омыт не вполне,
еще мне покуда больнее, чем тем,
кого унижают при мне.
126
До края дней теперь удержится
во мне рожденная тюрьмой
беспечность узников и беженцев,
уже забывших путь домой.
127
По давней наблюдательности личной
забавная печальность мне видна:
гавно глядит на мир оптимистичней,
чем те, кого воротит от гавна.
128
В столетии ничтожном и великом,
дивясь его паденьям и успехам,
топчусь между молчанием и криком,
мечусь между стенанием и смехом.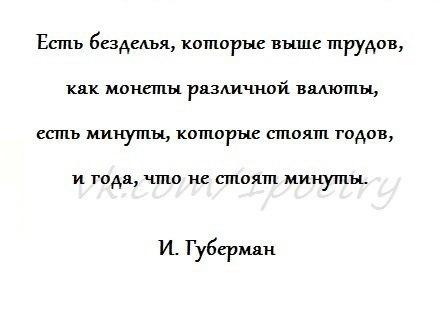
129
Течет апрель, водой звеня,
мир залит воздухом и светом;
мой дом печален без меня,
и мне приятно знать об этом.
130
Боюсь, что враг душевной смуты,
не мизантроп, но нелюдим,
Бог выключается в минуты,
когда Он нам необходим.
131
Везде, где наш рассудок судит верно,
выходит снисхождение и милость;
любая справедливость милосердна,
а иначе она не справедливость.
132
Вот небо показалось мне с овчину,
и в пятки дух от ужаса сорвался,
и стал я пробуждать в себе мужчину,
однако он никак не отозвался.
133
Я уношу, помимо прочего,
еще одно тюрьмы напутствие:
куда трудней, чем одиночество,
его немолчное отсутствие.
134
Не во тьме мы оставим детей,
когда годы сведут нас на нет;
время светится светом людей,
много лет как покинувших свет.
135
Неощутим и невесом,
тоской бесплотности несомый,
в тюрьму слетает частый сон
о жизни плотской и весомой.
136
Я рад, что знаю вдохновение,
оно не раз во мне жило,
оно легко, как дуновение,
и, как похмелье, тяжело.
137
Жаждущих уверовать так много,
что во храмах тесно стало вновь,
там через обряды ищут Бога,
как через соитие – любовь.
138
Как мечту, как волю, как оазис —
жду каких угодно перемен,
столько жизней гасло до меня здесь,
что тлетворна память этих стен.
139
Когда с самим собой наедине
обкуривал я грязный потолок,
то каялся в единственной вине —
что жил гораздо медленней, чем мог.
140
Мне наплевать на тьму лишений
и что меня пасет свинья,
мне жаль той сотни искушений,
которым сдаться мог бы я.
141
Волшебный мир, где ты с подругой;
женой становится невеста;
жена становится супругой,
и мир становится на место.
142
Надо жить, и единственно это
надо делать в любви и надежде;
равнодушно вращает планета
кости всех, кто познал это прежде.
143
Фортуна – это женщина, уступка
ей легче, чем решительный отказ,
а пластика просящего поступка
зависит исключительно от нас.
144
Не наблюдал я никогда
такой же честности во взорах
ни в ком за все мои года,
как в нераскаявшихся ворах.
145
Лежу на нарах без движения,
на стены сумрачно гляжу;
жизнь – это самовыражение,
за это здесь я и сижу.
146
Мы постоянно пашем пашни
или возводим своды башен,
где днем еще позавчерашним
мы хоронили близких наших.
147
Горит ночной плафон огнем вокзальным,
и я уже настолько здесь давно,
что выглядит былое нереальным
и кажется прочитанным оно.
148
Сгущается вокруг тугой туман,
а я в упор не вижу черных дней —
природный оптимизм, как талисман,
хранит меня от горя стать умней.
149
За то, что я сидел в тюрьме,
потомком буду я замечен,
и сладкой чушью обо мне
мой образ будет изувечен.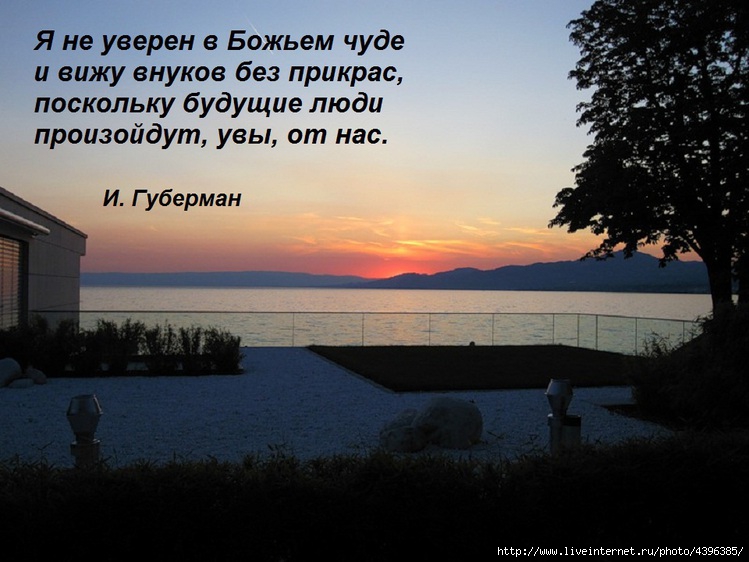
150
Мне жизнь тюрьму, как сон, послала,
так молча спит огонь в золе,
земля – надевши снежный саван,
и семя, спящее в земле.
151
Не сваливай вину свою, старик,
о предках и эпохе спор излишен;
наследственность и век – лишь черновик,
а начисто себя мы сами пишем.
152
Любовная ложь и любезная лесть,
хотя мы и знаем им цену,
однако же вновь побуждают нас лезть
на стену, опасность и сцену.
153
Поскольку предан я мечтам,
то я сижу в тюрьме не весь,
а часть витает где-то там,
и только часть ютится здесь.
154
Любовь, ударившись о быт,
скудеет плотью, как старуха,
а быт безжизнен и разбит,
как плоть, лишившаяся духа.
155
Есть безделья, которые выше трудов,
как монеты различной валюты,
есть минуты, которые стоят годов,
и года, что не стоят минуты.
156
О чем ты молишься, старик?
О том, чтоб ночью в полнолуние
меня постигло хоть на миг
любви забытое безумие.
157
Нужда и несчастье, тоска и позор —
единственно верные средства,
чтоб мысли и света соткался узор,
оставшись потомку в наследство.
158
О том, что подлость заразительна
и через воздух размножается,
известно всем, но утешительно,
что ей не каждый заражается.
159
Не знаю вида я красивей,
чем в час, когда взошла луна
в тюремной камере в России
зимой на волю из окна.
160
Сижу в тюрьме, играя в прятки
с весной, предательски гнилой,
а дни мелькают, словно пятки
моей везучести былой.
161
По счастью, я не муж наук,
а сын того блажного племени,
что слышит цвет и видит звук
и осязает запах времени.
162
То ли поздняя ночь, то ли ранний рассвет.
Тишина. Полумрак. Полусон.
Очень ясно, что Бога в реальности нет.
Только в нас. Ибо мы – это Он.
163
Вчера я так вошел в экстаз,
ища для брани выражения,
что только старый унитаз
такие знает извержения.
164
Как сушат нас число и мера!
Наседка века их снесла.
И только жизнь души и хера
не терпит меры и числа.
165
Счастливый сон: средь вин сухих,
с друзьями в прениях бесплодных
за неименьем дел своих
толкую о международных.
166
Нас продают и покупают,
всмотреться если – задарма:
то в лести густо искупают,
то за обильные корма.
И мы торгуемся надменно,
давясь то славой, то рублем,
а все, что истинно бесценно,
мы только даром отдаем.
167
Чтоб хоть на миг унять свое
любви желание шальное,
мужик посмеет сделать все,
а баба – только остальное.
168
Как безумец, я прожил свой день,
я хрипел, мельтешил, заикался;
я спешил обогнать свою тень
и не раз об нее спотыкался.
169
Со всеми свой и внешностью как все,
я чувствую, не в силах измениться,
что я чужая спица в колесе,
которое не нужно колеснице.
170
Беды и горечи микробы
витают здесь вокруг и рядом;
тюрьма – такой источник злобы,
что всю страну питает ядом.
171
Про все, в чем убежден я был заочно,
в тюрьме поет неслышимая скрипка:
все мертвое незыблемо и прочно,
живое – и колеблемо, и зыбко.
172
Забавно слушать спор интеллигентов
в прокуренной застольной духоте,
всегда у них идей и аргументов
чуть больше, чем потребно правоте.
173
Без удержу нас тянет на огонь,
а там уже, в тюрьме или в больнице,
с любовью снится женская ладонь,
молившая тебя остановиться.
174
Как жаль, что из-за гонора и лени
и холода, гордыней подогретого,
мы часто не вставали на колени
и женшину теряли из-за этого.
175
Ростки решетчатого семени
кошмарны цепкостью и прочностью,
тюрьма снаружи – дело времени,
тюрьма внутри – страшна бессрочностью.
176
В тюрьме я понял: Божий глас
во мне звучал зимой и летом:
налей и выпей, много раз
ты вспомнишь с радостью об этом.
177
Чума, холера, оспа, тиф,
повальный голод, мор детей…
Какой невинный был мотив
у прежних массовых смертей.
178
Ругая суету и кутерьму
и скорости тугое напряжение,
я молча вспоминаю про тюрьму
и жизнь благословляю за движение.
179
В России мы сплоченней и дружней
совсем не от особенной закалки,
а просто мы друг другу здесь нужней,
чтоб выжить в этой соковыжималке.
180
А жизнь продолжает вершить поединок
со смертью во всех ее видах,
и мавры по-прежнему душат блондинок,
свихнувшись на ложных обидах.
181
Блажен, кто хоть недолго, но остался
в меняющейся памяти страны,
живя в уже покинутом пространстве
звучанием затронутой струны.
182
Едва в искусстве спесь и чванство
мелькнут, как в супе тонкий волос,
над ним и время, и пространство
смеются тотчас в полный голос.
183
Ладонями прикрыл я пламя спички,
стремясь не потревожить сон друзей;
заботливости мелкие привычки —
свидетельство живучести моей.
184
Кто-то входит в мою жизнь. И выходит.
Не стучась. И не спросивши. И всяко.
Я привык уже к моей несвободе,
только чувство иногда, что собака.
185
Суд земной и суд небесный —
вдруг окажутся похожи?
Как боюсь, когда воскресну,
я увидеть те же рожи!
186
В любом краю, в любое время,
никем тому не обучаем,
еврей становится евреем,
дыханьем предков облучаем.
187
Не зря ученые пред нами
являют наглое зазнайство;
Бог изучает их умами
свое безумное хозяйство.
188
Ночь уходит, словно тает, скоро утро.
Где-то птицы, где-то зелень, где-то дети.
Изумительный оттенок перламутра
сквозь решетки заливает наши клети.
189
Клянусь едой, ни в малом слове
обиды я не пророню,
давным-давно я сам готовил
себе тюремное меню.
190
Лишен я любимых и дел, и игрушек,
и сведены чувства почти что к нулю,
и мысли – единственный вид потаскушек,
с которыми я свое ложе делю.
191
Весной врастают в почву палки,
Шалеют кошки и коты,
весной быки жуют фиалки,
а пары ищут темноты.
Весной тупеют лбы ученые,
и запах в городе лесной,
и только в тюрьмах заключенные
слабеют нервами весной.
192
Когда лысые станут седыми,
выйдут мыши на кошачью травлю,
в застоявшемся камерном дыме
я мораль и здоровье поправлю.
193
Среди других есть бог упрямства,
и кто служил ему серьезно,
тому и время, и пространство
сдаются рано или поздно.
194
В художнике всегда клубятся густо
возможности капризов и причуд;
искусственность причастного к искусству —
такой же чисто творческий этюд.
195
Мы постигаем дно морское,
легко летим за облака
и только с будничной тоскою
не в силах справиться пока.
196
Молчит за дверью часовой,
молчат ума и сердца клавиши,
когда б не память, что живой,
в тюрьме спокойно, как на кладбище.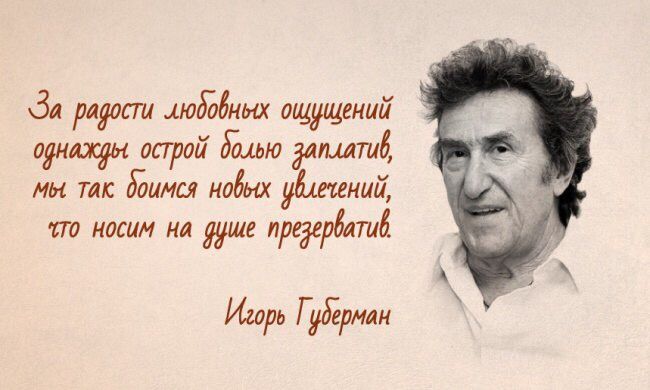
197
Читая позабытого поэта
и думая, что в жизни было с ним,
я вижу иногда слова привета,
мне лично адресованные им.
198
В туманной тьме горят созвездия,
мерцая зыбко и недружно;
приятно знать, что есть возмездие
и что душе оно не нужно.
199
Время, что провел я в школьной пыли,
сплыло, словно капля по усам,
сплыло все, чему меня учили.
Всплыло все, чему учился сам.
200
Слегка устав от заточения,
пускаю дым под потолок;
тюрьма, хотя и заключение,
но уж отнюдь не эпилог.
201
Добру доступно все и все с руки,
добру ничто не чуждо и не странно,
окрестности добра столь велики,
что зло в них проживает невозбранно.
202
За женщиной мы гонимся упорно,
азартом распаляя обожание,
но быстро стынут радости от формы
и грустно проступает содержание.
203
Занятия, что прерваны тюрьмой,
скатились бы к бесплодным разговорам,
но женшины, не познанные мной,
стоят передо мной живым укором.
204
Язык вранья упруг и гибок
и в мыслях строго безупречен,
а в речи правды – тьма ошибок
и слог нестройностью увечен.
205
В тюрьме почти насквозь раскрыты мы,
как будто сорван прочь какой-то тормоз;
душевная распахнутость тюрьмы —
российской задушевности прообраз.
206
У безделья – особые горести
и свое расписание дня,
на одни угрызения совести
уходило полдня у меня.
207
Тюремный срок не длится вечность,
еще обнимем жен и мы,
и только жаль мою беспечность,
она не вынесла тюрьмы.
208
Среди тюремного растления
живу, слегка опавши в теле,
и сочиняю впечатления,
которых нет на самом деле.
209
Я часто изводил себя ночами,
на промахи былого сыпал соль;
пронзительность придуманной печали
притушивала подлинную боль.
210
Доставшись от ветхого прадеда,
во мне совместилась исконно
брезгливость к тому, что неправедно,
с азартом к обману закона.
211
Спокойно отсидевши, что положено,
я долго жить себе даю зарок,
в неволе жизнь настолько заторможена,
что Бог не засчитает этот срок.
212
В тюрьме, от жизни в отдалении,
слышнее звук душевной речи:
смысл бытия – в сопротивлении
всему, что душит и калечит.
213
Не скроешь подлинной природы
под слоем пудры и сурьмы,
и как тюрьма – модель свободы,
свобода – копия тюрьмы.
214
Не с того ль я угрюм и печален,
что за год, различимый насквозь,
ни в одной из известных мне спален
мне себя наблюдать не пришлось?
215
Держась то в стороне, то на виду,
не зная, что за роль досталась им,
есть люди, приносящие беду
одним только присутствием своим.
216
Все цвета здесь – убийственно серы,
наша плоть – воплощенная тленность,
мной утеряно все, кроме веры
в абсолютную жизни бесценность.
217
В жестокой этой каменной обители
свихнулась от любви душа моя,
И рад я, что мертвы уже родители,
и жаль, что есть любимая семья.
218
В двадцатом – веке черных гениев —
любым ветрам доступны мы,
и лишь беспечность и презрение
спасают нас в огне чумы.
219
Тюрьма, конечно, – дно и пропасть,
но даже здесь, в земном аду,
страх – неизменно верный компас,
ведущий в худшую беду.
220
Моя игра пошла всерьез —
к лицу лицом ломлюсь о стену,
и чья возьмет – пустой вопрос,
возьмет моя, но жалко цену.
221
Тюрьма не терпит лжи и фальши,
чужда словесных украшений
и в этом смысле много дальше
ушла в культуре отношений.
222
Мы предателей наших никак не забудем
и счета им предъявим за нашу судьбу,
но не дай мне Господь недоверия к людям,
этой страшной болезни, присущей рабу.
223
В тюрьме нельзя свистеть – примета
того, что годы просвистишь
и тем, кто отнял эти лета,
уже никак не отомстишь.
224
Здравствуй, друг, я живу хорошо,
здесь дают и обед, и десерт;
извини, написал бы еще,
но уже я заклеил конверт.
225
Как странно: вагонный попутчик,
случайный и краткий знакомый —
они понимают нас лучше,
чем самые близкие дома.
226
Как губка втягивает воду,
как корни всасывают сок,
впитал я с детства несвободу
и после вытравить не смог.
Мои дела, слова и чувства
свободны явно и вполне,
но дрожжи рабства бродят густо
в истоков скрытой глубине.
227
Я лежу, про судьбу размышляя опять
и, конечно, – опять про тюрьму:
хорошо, когда есть по кому тосковать;
хорошо, когда нет по кому.
228
В тюрьме о кладах разговоры
текут с утра до темноты,
и нежной лаской дышат воры,
касаясь трепетной мечты.
229
Тюрьма – не животворное строение,
однако и не гибельная яма,
и жизней наших ровное струение
журчит об этом тихо, но упрямо.
230
Сын мой, будь наивен и доверчив,
смейся, плачь от жалости слезами;
времени пылающие смерчи
лучше видеть чистыми глазами.
231
Смерть соседа. Странное эхо
эта смерть во мне пробудила:
хорошо умирать, уехав
от всего, что близко и мило.
232
Какие бы книги России сыны
создали про собственный опыт!
20 мудрых «гариков» Игоря Губермана
Идея найдена не мной,
но это ценное напутствие:
чтоб жить в согласии с женой,
я спорю с ней в ее отсутствие.
***
Опыт не улучшил никого;
те, кого улучшил, врут безбожно;
опыт — это знание того,
что уже исправить невозможно.
***
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
***
Я рад, что вновь сижу с тобой,
сейчас бутылку мы откроем,
мы объявили пьянству бой,
но надо выпить перед боем.
***
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
***
Весной в России жить обидно,
весна стервозна и капризна,
сошли снега, и стало видно,
как жутко засрана отчизна
***
Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?
***
Тоскливей ничего на свете нету,
чем вечером, дыша холодной тьмой,
тоскливо закуривши сигарету,
подумать, что не хочется домой.
***
На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.
***
Слежу со жгучим интересом
за многолетним давним боем.
Во мне воюют ангел с бесом,
а я сочувствую обоим.
***
Не в силах жить я коллективно:
по воле тягостного рока
мне с идиотами — противно,
а среди умных — одиноко.
***
Весьма порой мешает мне заснуть
волнующая, как ни поверни,
открывшаяся мне внезапно суть
какой-нибудь немыслимой херни.
***
С Богом я общаюсь без нытья
и не причиняя беспокойства;
глупо на устройство бытия
жаловаться автору устройства.
***
Вся наша склонность к оптимизму —
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
***
Жить, покоем дорожа, —
пресно, тускло, простоквашно;
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
***
Вчера я бежал запломбировать зуб,
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю мой будущий труп
и рьяно его берегу.
***
В наш век искусственного меха
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
***
Текут рекой за ратью рать,
чтобы уткнуться в землю лицами;
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
***
В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.
***
Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую, и вижу очень зримо:
неважно, что мгновение прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.
Также читайте:
Вы Губерман или просто гуляете?
Игорь Губерман: «Стареть совсем не больно и не сложно»
«Гарики» на все времена от Игоря Губермана
«Праведное вдохновение жулика». Рассказ Игоря Губермана про мумиё
Игорь Губерман. «Мысли врасплох»
Игорь Губерман. Вопросы из зала
Смешной утренний рассказ про кофе с булочкой от Игоря Губермана
Игорь Губерман — биография, личная жизнь, фото
Игорь Миронович Губерман (евр. יְהוּדָה בֵן מֵאִיר גוּברמן). Родился 7 июля 1936 года в Харькове. Советский и израильский поэт, прозаик. Известен четверостишиями под названием «гарики».
Игорь Губерман родился 7 июля 1936 года в Харькове.
Отец — Мирон Давыдович Губерман.
Мать — Эмилия Абрамовна Губерман.
Старший брат — Давид Миронович Губерман, академик РАЕН, работал директором Научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая», был одним из авторов проекта бурения сверхглубоких скважин.
После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), который окончил в 1958 году, получив диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.
В конце 1950-х познакомился с А. Гинзбургом, издававшим один из первых самиздатских журналов «Синтаксис», а также с рядом других философов, деятелей литературы, изобразительного искусства. Писал научно-популярные книги, но все активнее проявлял себя как поэт-диссидент. В своём «неофициальном» творчестве использовал псевдонимы, например И. Миронов, Абрам Хайям.
Арест и уголовный срок Игоря Губермана
В 1979 году Губерман был арестован по сфальсифицированному обвинению о покупке краденых икон и приговорён к пяти годам лишения свободы. Не желая лишнего политического процесса, власти судили Губермана как уголовника по статье за спекуляцию. Кроме того, одному чиновнику приглянулась его коллекция икон.
Сам Губерман о своем уголовном деле рассказывал: «В то время огромное количество людей сажали по уголовной статье. Помню, меня вызвали в КГБ и предложили посадить главного редактора журнала «Евреи в СССР», с которым я тогда сотрудничал, или сесть самому. Выбора у меня не было. Тут же нашли уголовников, которые показали, что я купил у них пять заведомо краденых икон. А так как при обыске у меня их не нашли, что в общем-то понятно, меня судили еще и за сбыт краденого. В общем, мне светило максимум полтора года. Но следовательница мне призналась, что отсижу я полных пять лет, потому что директору музея в Дмитрове очень понравилась моя коллекция икон. А конфисковать ее могли только, дав мне такой большой срок».
Помню, меня вызвали в КГБ и предложили посадить главного редактора журнала «Евреи в СССР», с которым я тогда сотрудничал, или сесть самому. Выбора у меня не было. Тут же нашли уголовников, которые показали, что я купил у них пять заведомо краденых икон. А так как при обыске у меня их не нашли, что в общем-то понятно, меня судили еще и за сбыт краденого. В общем, мне светило максимум полтора года. Но следовательница мне призналась, что отсижу я полных пять лет, потому что директору музея в Дмитрове очень понравилась моя коллекция икон. А конфисковать ее могли только, дав мне такой большой срок».
У него конфисковали большую коллекцию живописи, которую он собирал 12 лет: масляные картины, темперные. Кроме того — иконы, скульптуры, большое количество книг.
Попал в исправительно-трудовой лагерь, где вёл дневники. Он вспоминал, что в камере писал на клочках бумаги, которые хранили его сокамерники в сапогах и туфлях. Потом смог передать на свободу через заместителя начальника по режиму Волоколамской тюрьмы. «В тюрьме я встретил разных людей, но ко мне относились очень хорошо. Вообще, к дуракам в России очень хорошо относятся! Кстати, у меня даже кличка была — Профессор. Так она за мной по этапу и тянулась. Потому что я за всех желающих отгадывал кроссворды. А за это мне на прогулочном дворике перекидывали через стену табак», — вспоминал он.
«В тюрьме я встретил разных людей, но ко мне относились очень хорошо. Вообще, к дуракам в России очень хорошо относятся! Кстати, у меня даже кличка была — Профессор. Так она за мной по этапу и тянулась. Потому что я за всех желающих отгадывал кроссворды. А за это мне на прогулочном дворике перекидывали через стену табак», — вспоминал он.
Затем, уже в период ссылки, на базе этих дневников была написана книга «Прогулки вокруг барака» — написана в 1980 году, опубликована в 1988-м.
Игорь Губерман во время ареста
В 1984 году поэт вернулся из Сибири. Долго не мог прописаться в городе и устроиться на работу. Он рассказывал: «Меня не прописывали в Москве. А вот жену с детьми сразу, меня только год спустя прописал у себя Давид Самойлов — в Пярну. Там же я снял с себя судимость. Милиция исправно приходила и проверяла, где я».
В 1988 году Губерман эмигрировал из СССР в Израиль, живёт в Иерусалиме. Часто приезжает в Россию, выступая на поэтических вечерах.
В Израиле он вновь стал коллекционировать и собрал довольно неплохую коллекцию живописи.
Широкую известность и популярность получили его «гарики» — афористичных, сатирических четверостиший. Изначально он называл свои стихи дацзыбао (во времена культурной революции в Китае так назывались большие лозунги). Но в 1978 году друзья издали его книжку в Израиле, назвав «Еврейские дацзыбао». Тогда он решил поменять название своих четверостиший. О том, как появилось это название, он говорил: «Вместе со мной. Меня зовут Игорь, но дома всегда звали Гариком. Бабушка произносила мое имя замечательно: «Гаринька, каждое твое слово лишнее!»».
Вся история нам говорит,
что Господь неустанно творит.
Каждый век появляется гнида
Неизвестного ранее вида.
Является сторонником неформальной лексики: «Ведь без нее литература российская просто невозможна!».
«Меня как непотопляемого оптимиста трудно расстроить. Старость навевает грусть.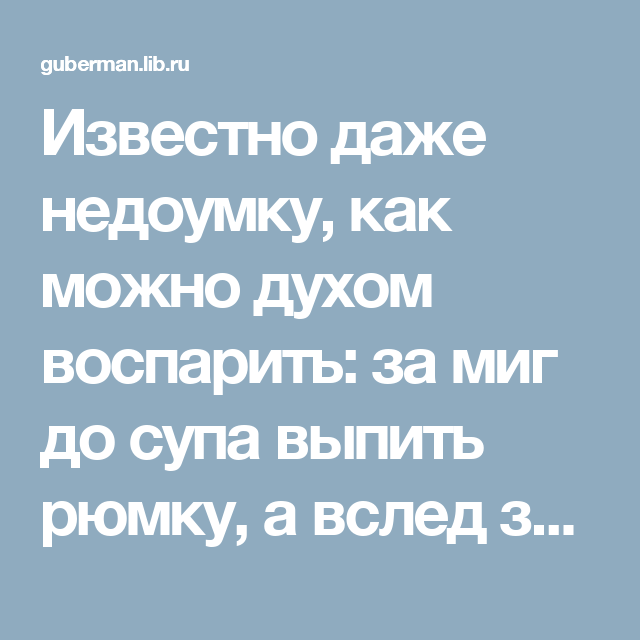 Правда, я и на эту тему умудряюсь шутить: «В органах слабость, за коликой спазм, старость — не радость, маразм — не оргазм»», — говорил Губерман.
Правда, я и на эту тему умудряюсь шутить: «В органах слабость, за коликой спазм, старость — не радость, маразм — не оргазм»», — говорил Губерман.
Игорь Губерман — Гарики
Личная жизнь Игоря Губермана:
Женат. Супруга — Татьяна Губерман (в девичестве Либединская), дочь писателей Юрия Либединского и Лидии Либединской. Как говорил Губерман, всю жизнь он был счастлив в браке. «Не знаю, как жена, но выбора у нее просто нет. По совету одного своего приятеля, я при заполнении анкеты в графе «семейное положение» пишу — безвыходное», — шутил он.
В браке родилось двое детей: дочь Татьяна Игоревна Губерман и сын Эмиль Игоревич Губерман.
Дочь — воспитательница в детском саду, раньше занималась кибернетическими машинами. Сын — программист-процессорщик.
У Губермана три внучки и внук.
Игорь Губерман и жена Татьяна
Библиография Игоря Губермана:
1965 — Третий триумвират
1969 — Чудеса и трагедии чёрного ящика
1974 — Третий триумвират
1977 — Бехтерев: страницы жизни
1978 — Игорь Гарик. «Еврейские Да-Цзы-Бао»
«Еврейские Да-Цзы-Бао»
1980 — Еврейские дацзыбао
1982 — Бумеранг
1988 — Прогулки вокруг барака
1988 — «Гарики (Дацзыбао)»
1992 — Гарики на каждый день
1994 — Второй иерусалимский дневник
1994 — Иерусалимские гарики
1994 — Штрихи к портрету
1998 — Гарики из Иерусалима
2002-2010 — Антология Сатиры и Юмора России XX века. Т.17
2003 — Окунь А., Губерман И. Книга о вкусной и здоровой жизни
2004 — Гарики предпоследние. Гарики из Атлантиды
2006 — Второй иерусалимский дневник
2006 — Вечерний звон
2009 — Губерман И., Окунь А. Путеводитель по стране сионских мудрецов
2009 — Книга странствий
2009 — Заметки с дороги
2009 — Пожилые записки
2010 — В любви все возрасты проворны
2010 — Гарики за много лет
2010 — Искусство стареть
2013 — Восьмой дневник
2013 — Иерусалимские дневники
2014 — Дар легкомыслия печальный
2015 — Девятый дневник
2016 — Ботаника любви
2016 — Гарики и проза
2016 — Еврейские мелодии
Гарики Игоря Губермана:
• Предпочитая быть романтиком
Во время тягостных решений,
Всегда завязывал я бантиком
Концы любовных отношений.
• Давай, Господь, решим согласно,
Определив друг другу роль:
Ты любишь грешников? Прекрасно.
А грешниц мне любить позволь.
• Был холост — снились одалиски,
Вакханки, шлюхи, гейши, киски;
Теперь со мной живет жена,
А ночью снится тишина.
• Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую, и вижу очень зримо:
неважно, что мгновение прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.
• За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
• В наш век искусственного меха
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
• Текут рекой за ратью рать,
чтобы уткнуться в землю лицами;
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
• В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.
• Я рад, что вновь сижу с тобой,
сейчас бутылку мы откроем,
мы объявили пьянству бой,
но надо выпить перед боем.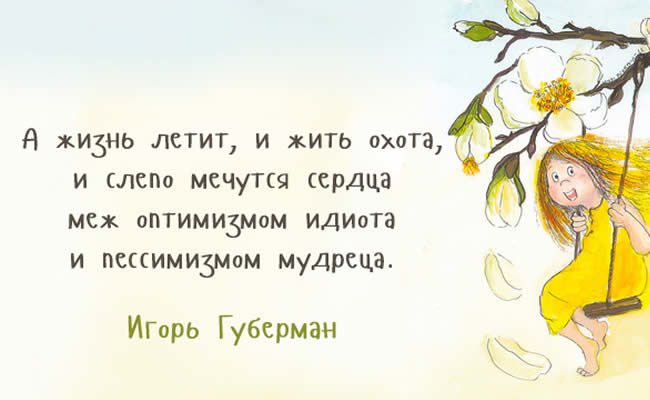
• Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
• Идея найдена не мной,
но это ценное напутствие:
чтоб жить в согласии с женой,
я спорю с ней в ее отсутствие.
• Опыт не улучшил никого;
те, кого улучшил, врут безбожно;
опыт — это знание того,
что уже исправить невозможно.
• Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?
• Тоскливей ничего на свете нету,
чем вечером, дыша холодной тьмой,
тоскливо закуривши сигарету,
подумать, что не хочется домой.
• На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.
• Жить, покоем дорожа, —
пресно, тускло, простоквашно;
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
• Вчера я бежал запломбировать зуб,
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю мой будущий труп
и рьяно его берегу.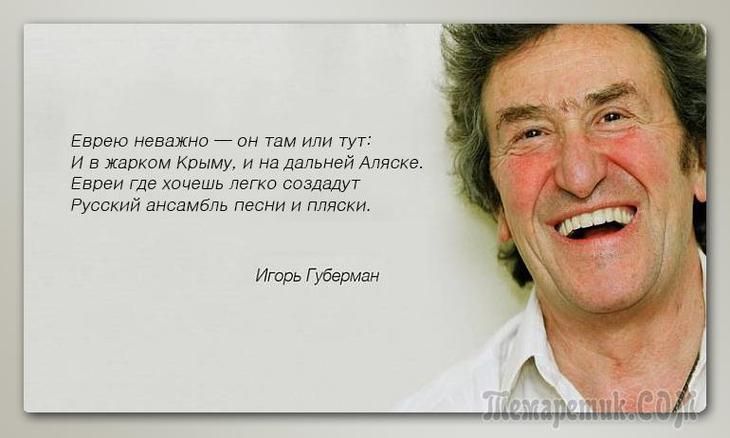
• Слежу со жгучим интересом
за многолетним давним боем.
Во мне воюют ангел с бесом,
а я сочувствую обоим.
• Не в силах жить я коллективно:
по воле тягостного рока
мне с идиотами — противно,
а среди умных — одиноко.
• Весьма порой мешает мне заснуть
волнующая, как ни поверни,
открывшаяся мне внезапно суть
какой-нибудь немыслимой херни.
• С Богом я общаюсь без нытья
и не причиняя беспокойства;
глупо на устройство бытия
жаловаться автору устройства.
• Вся наша склонность к оптимизму —
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
• Отменной верности супруг,
Усердный брачных уз невольник —
Такой семейный чертит круг,
Что бабе снится треугольник.
• Я женских слов люблю родник
И женских мыслей хороводы,
Поскольку мы умны от книг,
А бабы — прямо от природы.
• Красоток я любил не очень
И не по скудности деньжат:
Красоток даже среди ночи
Волнует, как они лежат.
• С неуклонностью упрямой
Все на свете своевременно;
Чем невинней дружба с дамой,
тем быстрей она беременна.
• Есть дамы: каменны, как мрамор,
И холодны, как зеркала,
Но чуть смягчившись, эти дамы
В дальнейшем липнут, как смола.
• Наступила в душе моей фаза
Упрощения жизненной драмы:
Я у дамы боюсь не отказа,
А боюсь я согласия дамы.
• Душой и телом охладев,
Я погасил мою жаровню:
Еще смотрю на нежных дев,
А для чего — уже не помню.
• Кто ищет истину, держись
У парадокса на краю;
Вот женщины: дают нам жизнь,
А после жить нам не дают.
• Бабы одеваются сейчас,
Помня, что слыхали от подружек:
Цель наряда женщины — показ,
Что и без него она не хуже.
• На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.
• В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.
• За радости любовных ощущений
однажды острой болью заплатив,
мы так боимся новых увлечений,
что носим на душе презерватив.
• Жить, покоем дорожа, —
пресно, тускло, простоквашно;
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
• Вчера я бежал запломбировать зуб,
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю мой будущий труп
и рьяно его берегу.
• В наш век искусственного меха
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
• Вся наша склонность к оптимизму —
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
• Есть личности — святая простота
играет их поступки, как по нотам,
наивность — превосходная черта,
присущая творцам и идиотам.
• Текут рекой за ратью рать,
чтобы уткнуться в землю лицами;
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
• Всего слабей усваивают люди,
взаимным обучаясь отношениям,
что слишком залезать в чужие судьбы
возможно лишь по личным приглашениям.
• Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
• Мы сохранили всю дремучесть
былых российских поколений,
но к ним прибавили пахучесть
своих духовных выделений.
• Увы, но я не деликатен
и вечно с наглостью циничной
интересуюсь формой пятен
на нимбах святости различной.
• Ворует власть, ворует челядь,
вор любит вора укорять;
в Россию можно смело верить,
но ей опасно доверять.
• Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?
• Мужик тугим узлом совьется,
но, если пламя в нем клокочет,
всегда от женщины добьется
того, что женщина захочет.
• Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно.
• Живя в загадочной отчизне
из ночи в день десятки лет,
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.
• Любил я книги, выпивку и женщин
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен,
Теперь уже на книги нету сил.
• За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
• Вожди России свой народ
во имя чести и морали
опять зовут идти вперед,
а где перед, опять соврали.
• Вся история нам говорит,
что Господь неустанно творит:
каждый год появляется гнида
неизвестного ранее вида.
• Нам непонятность ненавистна
в рулетке радостей и бед.
Мы даже в смерти ищем смысла,
хотя его и в жизни нет.
• Когда, глотая кровь и зубы,
мне доведется покачнуться,
я вас прошу, глаза и губы,
не подвести и улыбнуться.
Игорь Губерман — Камерные гарики » Страница 15 » Каждый день читать книги онлайн бесплатно без регистрации
что был так долго глух.
* * *
Конечно, я пришел в себя потом,
но стало мне вдруг странно
в эту осень,
что грею так бестрепетно свой дом
я трупами берез, осин и сосен.
* * *
Нас будто громом поражает,
когда девица (в косах бантики),
играя в куклы (или в фантики),
полна смиренья (и романтики),
внезапно пухнет и рожает.
Чем это нас так раздражает?
* * *
От точки зрения смотрящего
его зависит благодать,
и вправе он орла парящего
жуком навозным увидать.
Но жаль беднягу.
* * *
Давно заметил я: сияние
таланта, моря, мысли, света —
в нас вызывает с ним слияние,
и мы в себе уносим это.
* * *
Время поворачивая вспять,
как это смешно – не замечая,
тянемся заваривать опять
гущу из-под выпитого чая.
* * *
А близость с тем, а нежность к той
давно мертвы,
и память стала – как настой
разрыв-травы.
* * *
Вновь себя рассматривал подробно:
выщипали годы мои перья;
сестрам милосердия подобно,
брат благоразумия теперь я.
* * *
То утро помню хорошо:
среди травы, еще росистой,
тропой утоптанной российской
я меж овчарок в лагерь шел.
* * *
Порою поступаю так постыдно,
как будто не в своем слегка уме;
наследственные корни, очевидно,
воюют меж собой в душевной тьме.
* * *
Всегда, мой друг, наказывали нас,
карая лютой стужей ледяной;
когда-то, правда, ссылкой был Кавказ,
но там тогда стреляли, милый мой.
* * *
Эта мысль давно меня терзает,
учит ее в школе пятый класс:
в мире ничего не исчезает;
кроме нас, ребята, кроме нас.
* * *
Крушу я ломом грунт упорный,
и он покорствует удару,
а под ногтями траур черный —
по моему иному дару.
* * *
Любовь и пьянство – нет примера
тесней их близости на свете;
ругает Бахуса Венера,
но от него у ней и дети.
* * *
Есть кого мне при встрече обнять;
сядем пить и, пока не остыли,
столько глупостей скажем опять,
сколько капель надежды в бутыли.
* * *
Свободы лишь коснуться стоит нам,
я часто это видел на веку:
помазанный свободой по губам
уже стремится к полному глотку.
* * *
И не спит она ночами,
и отчаян взгляд печальный,
утолит ее печали
кто-нибудь совсем случайный.
* * *
В жизни этой, суетной и краткой
(так ли это, кажется ли мне),
вижу я то мельком, то украдкой
явное вмешательство извне.
Но чье – не знаю.
* * *
Что сложилось не так,
не изменишь никак
и назад не воротишь уже,
только жалко, что так
был ты зелен, дурак,
а фортуна была в неглиже.
* * *
Не чаши страданий, а чашки
хватает порой для лечения,
чтоб вовсе исчезли замашки
любые искать приключения.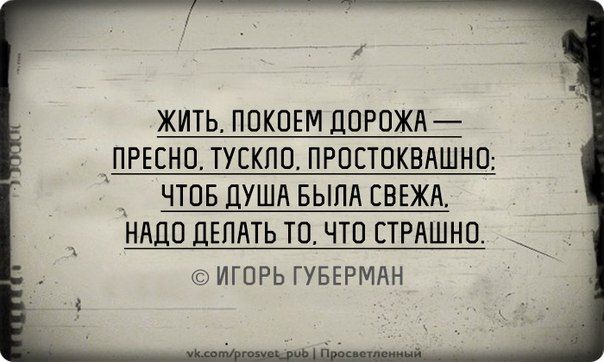
* * *
Тигра гладить против шерсти
так же глупо,
как по шерсти.
Так что если гладить,
то, конечно, лучше против шерсти.
* * *
Пою как слышу. А традиции,
каноны, рамки и тенденция —
мне это позже пригодится,
когда наступит импотенция.
* * *
Если так охота врать,
что никак не выстоять,
я пишу вранье в тетрадь
как дневник и исповедь.
* * *
Окунулся я в утехи гастрономии,
посвятил себя семейному гнезду,
ибо, слабо разбираясь в астрономии,
проморгал свою счастливую звезду.
* * *
Великие событья – тень назад
бросают очертаньями своими,
но наши аккуратные глаза
не видят нежелаемое ими.
* * *
Нет, я в рабах не долго хаживал,
я только пять прибавлю скудных
в те миллионы лет подсудных,
Россией съеденные заживо.
* * *
Поверь мне, грустный мой приятель,
твои терзания напрасны:
на Солнце тоже много пятен,
но и они на нем прекрасны.
* * *
Чего хочу, того ищу,
хочу уйти от власти Рима,
и щуплых пращуров прищур
во мне участвует незримо.
* * *
На мои вопросы тихие
о дальнейшей биографии
отвечали грустно пифии:
нет прогноза в мире мафии.
* * *
В нас посевает жизнь слепая
продленной детскости заразу,
и зрелость, поздно наступая,
уже с гнильцой бывает сразу.
* * *
Наука, ты помысли хоть мгновение,
что льешь себе сама такие пули:
зависит участь будущего гения
от противозачаточной пилюли.
* * *
Живу, ничуть судьбу не хая
за бурной жизни непокой:
погода самая плохая —
гораздо лучше никакой.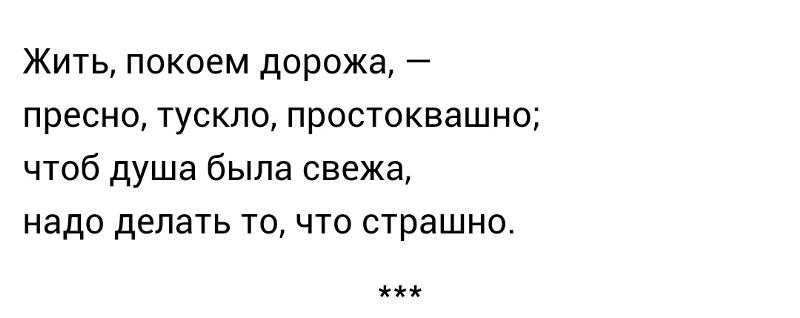
* * *
В надежде, что свирепые морозы
во мне произведут метаморфозы,
был сослан я в сибирские края,
где крепче стала ветреность моя.
* * *
По вороху надежд, сухих и ветхих,
вдруг искра пробегает временами,
и почки наливаются на ветках
у дерева с истлевшими корнями.
* * *
Мы от любви теряем в весе
за счет потери головы
и воспаряем в поднебесье,
откуда падаем, увы.
* * *
Когда вершится смертный приговор,
душа сметает страха паутину.
«Пришла пора опробовать прибор», —
сказал король, взойдя на гильотину.
* * *
Ты люби, душа моя, меня,
ты уйми, душа моя, тревогу,
ты ругай, душа моя, коня,
но терпи, душа моя, дорогу.
* * *
Хоть и тонешь там и тут,
грязь весны и слякоть осени —
как разлука, если ждут,
и разлука, если бросили.
* * *
Внезапна гибель светлых дней,
а мы ее так часто видели,
что чем нам лучше, тем страшней,
а чем темнее, тем обыденней.
* * *
Сибирь. Весна. Потери и уроны
несет снегам сиянье с высоты.
Орут с берез картавые вороны
о горечи и грусти красоты.
* * *
Куда б меня судьбой ни занесло,
в какую ни согни меня дугу,
высокого безделья ремесло
я правлю, как умею и могу.
* * *
Не мучусь я, что бытом жизнь полна,
иное мне мучительно и важно:
растления зловонная волна
с ленивой силой
душу лижет влажно.
* * *
Мечтал бы сыну передать я,
помимо знаний и сомнения,
отнюдь не все мои проклятья,
но все мои благословения.
* * *
Действуя размашисто и тонко
страхом, похвалой и жирным кусом,
дух эпохи вылепил подонка
с грацией, достоинством и вкусом.
* * *
В те дни, когда я пал на дно,
раскрылось мне сполна,
что всюду есть еще одно
дно у любого дна.
* * *
Но взрыв, и бунт, и пламень этот —
избавь нас Бог увидеть снова,
минуй всех нас российский метод
лечить болезнь, убив больного.
* * *
Я верю в мудрость правил и традиций,
весь век держусь обычности
привычной,
но скорбная обязанность трудиться
мне кажется убого-архаичной.
* * *
Нечаянному счастью и беде
отыскивая место в каждом быте,
на дереве реальности везде
есть почки непредвиденных событий.
* * *
Жить, покоем дорожа —
пресно, тускло, простоквашно;
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
* * *
Слухи, сплетни, склоки, свары,
клевета со злоязычием,
попадая в мемуары,
пахнут скверной и величием.
* * *
Когда между людьми и обезьянами
найдут недостающее звено,
то будет обезьяньими оно
изгоями с душевными изъянами.
* * *
Есть люди сна, фантазий и мечты,
их души дышат ночи в унисон,
а сутолока скользкой суеты,
творящаяся днем, – их тяжкий сон.
* * *
Если бабе семья дорога,
то она, изменять если станет,
ставит мужу не просто рога,
а рога изобилия ставит.
* * *
Поверх и вне житейской скверны,
виясь, как ангелы нагие,
прозрачны так, что эфемерны,
витают помыслы благие.
* * *
Тускнеет радость от познания
людей, событий и явлений;
на склоне лет воспоминания
живее свежих впечатлений.
* * *
Думаю, что в смутной ностальгии
нас еще не раз помянут люди:
лучше будут, хуже и другие,
нас уже таких потом не будет.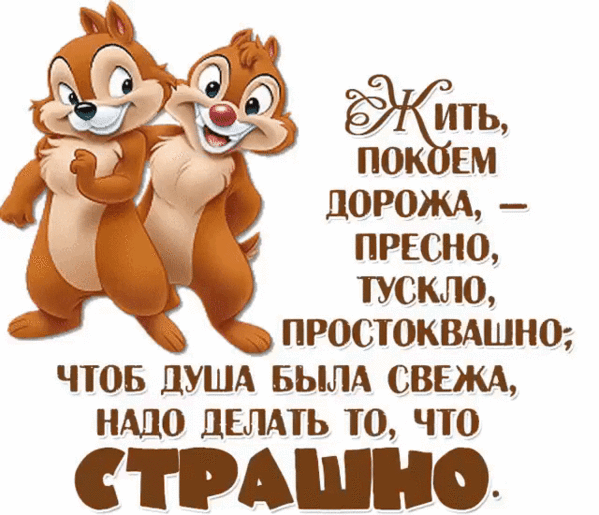
* * *
Приходя как возмещение
всех потерь за жизнь напрасную,
понимание – прощение
осеняет осень ясную.
* * *
81 – 84 гг.
МОСКОВСКИЙ ДНЕВНИК
Напрасно телевизоров сияние,
театры, бардаки,
консерватории —
бормочут и елозят россияне,
попав под колесо своей истории.
* * *
Вернулся я в загон для обывателей
и счастлив, что отделался испугом;
террариум моих доброжелателей
свихнулся и питается друг другом.
* * *
Евреи кинулись в отъезд,
а в наших жизнях подневольных
опять болят пустоты мест —
сердечных, спальных и застольных.
* * *
Я вдруг оглянулся: вокруг никого.
Пустынно, свежо, одиноко.
И я – собеседник себя самого —
у времени сбоку припека.
* * *
Я с грустью замечал уже не раз,
Какой рост у игоря губермана.
 Хлёсткие «Гарики» Игоря Губермана
Хлёсткие «Гарики» Игоря ГуберманаИгорь Миронович Губерман, русско-израильский поэт, прославился благодаря своим афористичными и сатирическим четверостишиям, прозванных «гариками», хотя строк может быть также 2 и 6. В них он точно и метко подмечает все реалии жизни, со всеми её взлётами и падениями, радостями и горестями. Иногда он высказывается немного резко, но лишь потому, что это такая же неотъемлемая часть нашей жизни.
Каждый «гарик» молниеносно расходится по сети и радует тысячи поклонников таланта Игоря Губермана. Остаётся только удивляться, как можно вместить такое ёмкое и хлёсткое наблюдение в коротенький стишок. «Гарики» Губермана – ещё один повод улыбнуться даже в те моменты, когда кажется, что поводов для улыбок нет:
Я душевно вполне здоров!
Но шалею, ловя удачу…
Из наломанных мною дров,
Я легко бы построил дачу!
Люблю людей и, по наивности,
Открыто с ними говорю,
И жду распахнутой взаимности,
А после горестно курю.
Бывает — проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.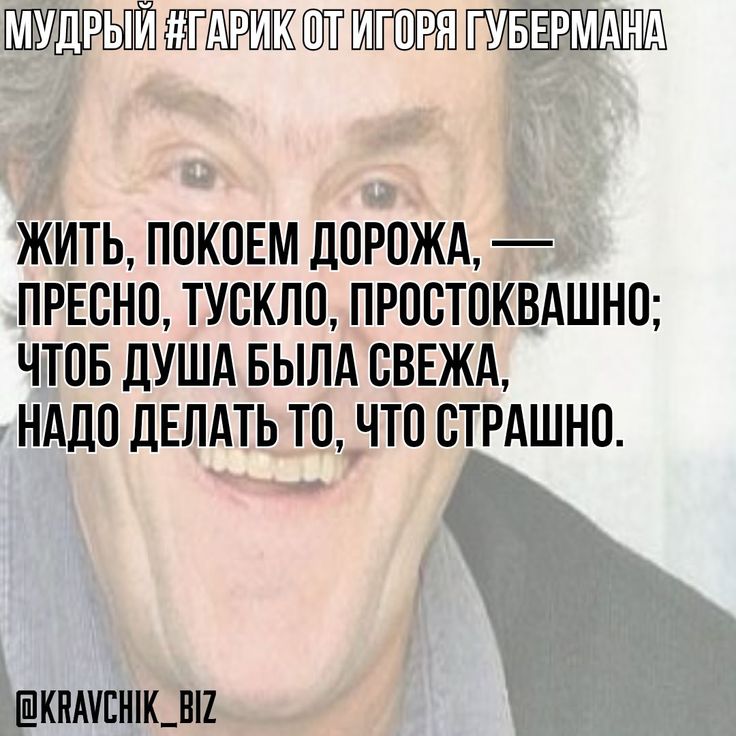
Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
Давно уже две жизни я живу,
одной – внутри себя, другой – наружно;
какую я реальной назову?
Не знаю, мне порой в обеих чуждо.
Всего слабей усваивают люди,
взаимным обучаясь отношениям,
что слишком залезать в чужие судьбы
возможно лишь по личным приглашениям.
Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно.
Любил я книги, выпивку и женщин.
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен.
Теперь уже на книги нету сил.
Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни.
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Живя в загадочной отчизне
из ночи в день десятки лет,
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.
Учусь терпеть, учусь терять
и при любой житейской стуже
учусь, присвистнув, повторять:
плевать, не сделалось бы хуже.
Я женских слов люблю родник
И женских мыслей хороводы,
Поскольку мы умны от книг,
А бабы – прямо от природы.
Когда нас учит жизни кто-то,
я весь немею;
житейский опыт идиота
я сам имею.
Душа порой бывает так задета,
что можно только выть или орать;
я плюнул бы в ранимого эстета,
но зеркало придется вытирать.
Крайне просто природа сама
разбирается в нашей типичности:
чем у личности больше ума,
тем печальней судьба этой личности.
Во мне то булькает кипение,
то прямо в порох брызжет искра;
пошли мне, Господи, терпение,
но только очень, очень быстро.
Бывают лампы в сотни ватт,
но свет их резок и увечен,
а кто слегка мудаковат,
порой на редкость человечен.
Я никак не пойму, отчего
так я к женщинам пагубно слаб;
может быть, из ребра моего
было сделано несколько баб?
Ум полон гибкости и хамства,
когда он с совестью в борьбе,
мы никому не лжем так часто
и так удачно, как себе.
В жизни надо делать перерывы,
чтобы выключаться и отсутствовать,
чтобы много раз, покуда живы,
счастье это заново почувствовать.
Игорь Миронович Губерман — советский и израильский писатель, поэт, автор книг в жанре юмористической прозы и поэзии.
Родился 7 июля 1936 года в Харькове в семье инженера-экономиста. Окончив школу с золотой медалью, Игорь поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. В студенческие годы Губерман сочинял стихи, посещал литературное объединение, а после получения диплома инженера-электрика стал работать по специальности, параллельно занимаясь творчеством. Большое влияние на начинающего автора оказала, по его признанию, поэзия Исифа Бродского, Николая Заболоцкого, Давида Самойлова. После знакомства с Александром Гинзбургом Игорь Губерман публиковал в его журнале «Синтаксис» свои научно-популярные труды и острые сатирические четверостишья-«гарики».
Большое влияние на начинающего автора оказала, по его признанию, поэзия Исифа Бродского, Николая Заболоцкого, Давида Самойлова. После знакомства с Александром Гинзбургом Игорь Губерман публиковал в его журнале «Синтаксис» свои научно-популярные труды и острые сатирические четверостишья-«гарики».
В 1969 году в издательстве «Детская литература» вышла первая книга писателя «Чудеса и трагедии черного ящика», посвященная тайнам человеческого мозга, а вскоре были изданы «Третий триумвират» и повесть о Владимире Бехтереве «Страницы жизни». Несмотря на растущую популярность среди читателей, в 1979 году поэт-диссидент Губерман по сфальсифицированному обвинению был приговорен к пяти годам лишения свободы и сослан в Сибирь, где вел дневники, которые легли в основу книги «Прогулки вокруг барака», сборников «Тюремные гарики» и «Камерные гарики».
После возвращения из ссылки Игорь Губерман лишился жилья и несколько лет не мог устроиться на работу, а в 1987 году эмигрировал в Иерусалим, где живет и сейчас, сочиняя стихи и работая на радио Тель-Авива. По словам писателя, «…у меня чудовищное количество читателей, чудовищное количество общений, мне там очень хорошо и интересно. У меня в Израиле два раза в месяц проходят концерты, залы небольшие, но полные». Губерман часто приезжает в Россию и выступает на поэтических вечерах, читая некоторые из девяти тысяч своих знаменитых «гариков», которые вошли в сборники «Гарики из Атлантиды», «Гарики из Иерусалима», «Закатные гарики», «Гарики на все времена». Критики называют четверостишия автора своеобразным проявлением фольклора, отмечая сочетание лаконизма японской танки и афористичности русских частушек. О своей семье писатель рассказывает так: «У меня прекрасная супруга Татьяна, которая не только радушная и гостеприимная: в трудные времена она всегда была рядом, будь то ссылка в сибирскую деревушку или полное безденежье. Она подарила мне двух прекрасных детей — дочку Таню и сына Эмиля. Так что в семье у меня царит полная гармония!»
По словам писателя, «…у меня чудовищное количество читателей, чудовищное количество общений, мне там очень хорошо и интересно. У меня в Израиле два раза в месяц проходят концерты, залы небольшие, но полные». Губерман часто приезжает в Россию и выступает на поэтических вечерах, читая некоторые из девяти тысяч своих знаменитых «гариков», которые вошли в сборники «Гарики из Атлантиды», «Гарики из Иерусалима», «Закатные гарики», «Гарики на все времена». Критики называют четверостишия автора своеобразным проявлением фольклора, отмечая сочетание лаконизма японской танки и афористичности русских частушек. О своей семье писатель рассказывает так: «У меня прекрасная супруга Татьяна, которая не только радушная и гостеприимная: в трудные времена она всегда была рядом, будь то ссылка в сибирскую деревушку или полное безденежье. Она подарила мне двух прекрасных детей — дочку Таню и сына Эмиля. Так что в семье у меня царит полная гармония!»
В нашем магазине можно не только приобрести и скачать электронные книги Игоря Губермана, но и прочесть их онлайн.
Губерман Игорь Миронович (псевдонимы И.Миронов, Абрам Хайям и др.) (р. 1936) — российский писатель, поэт.
Родился 7 июля 1936 в Харькове. Детство провел в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). После окончания института работал по специальности. Познакомился с А.Гинзбургом — редактором-составителем «самиздатского» журнала «Синтаксис».
Он также знакомится с группой т.н. «лианозовцев», экспериментировавших в теме бытовой прозы. Губерман становится героем фельетона Р.Карпеля Помойка № 8 («Московский комсомолец», 29 сентября 1960): «…инженер Игорь Губерман, известный тем, что он был одним из вдохновителей и организаторов грязных рукописных листков „Синтаксиса“.
Сей „деятель“, дутый, как пустой бочонок, надменный и самовлюбленный, не умеющий толком связать и двух слов, все еще питает надежду на признание» (см. также ЛИАНОЗОВСКАЯ ШКОЛА).
Какое-то время Губерман сочетал работу инженера с литературной деятельностью. Писал научно-популярные и документальные книги (Чудеса и трагедии черного ящика — о работе мозга и современной психиатрии, 1968; Бехтерев. Страницы жизни, 1976 и др.), а также сценарии для документального кино.
Страницы жизни, 1976 и др.), а также сценарии для документального кино.
Со временем в «самиздате» начинают появляться стихотворные миниатюры Губермана, позднее получившие название «гарики». (Гарик — его домашнее имя). В 1970-е он активный сотрудник и автор самиздатского журнала «Евреи в СССР».
Люди, делавшие этот журнал, видели свою задачу в распространении среди евреев знаний о религии, об истории и языке своего народа; вопрос же об эмиграции считали личным делом каждого.
В 1978 в Израиле ходившие по рукам «гарики» были собраны и изданы отдельной книгой. В 1979 Губерман был приговорен к 5-ти годам лишения свободы. Художественная гипотеза о причинах ареста — в его книге Штрихи к портрету.
В заключении он вел дневник, из которого потом родилась книга Прогулки вокруг барака (1980, опубликована в 1988). «Пусть только любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону эти разрозненные записки, — предупреждает
Только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение — главное, что я испытал там». Но содержание книги — это история человека, сумевшего остаться Человеком там, где унижением, страхом и скукой / человека низводят в скоты. Помогло четкое сознание: чем век подлей, тем больше чести / тому, кто с ним не заодно. И умение разглядеть человеческое даже в воре, грабителе и убийце.
Скука, тоска и омерзение — главное, что я испытал там». Но содержание книги — это история человека, сумевшего остаться Человеком там, где унижением, страхом и скукой / человека низводят в скоты. Помогло четкое сознание: чем век подлей, тем больше чести / тому, кто с ним не заодно. И умение разглядеть человеческое даже в воре, грабителе и убийце.
(Губерман сидел в уголовном лагере). Три героя книги: Писатель, Бездельник и Деляга — три ипостаси автора — помогают сохранить чувство юмора и не поддаться ни унынию, ни гордыне.
Он вернулся из Сибири в 1984. Прописаться не удавалось не только в Москве, но и в маленьких городках, удаленных от столицы более чем на 100 км. Однако поэт Д.Самойлов прописал его в своем доме в Пярну.
Работал он на Ленинградской студии документальных фильмов. Вскоре Губермана пригласили в ОВИР и сообщили, что считают целесообразным его выезд с семьей в Израиль. Тяжелее всего уезжать нам оттуда, / Где жить невозможно, — написал он впоследствии. С 1988 живет в Иерусалиме.
В Израиле Губерман написал роман Штрихи к портрету (первое издание в России — в 1994). В 1996 в Иерусалиме вышли его мемуары Пожилые записки, в 2001 Книга странствий.
Но славу ему создали, безусловно, «гарики». Число «гариков» перевалило за пять тысяч, вместе они образуют некий «гипертекст». Художественные приемы его стихов типичны для постмодернизма: иронический перифраз известных выражений (…я мыслил, следователь, но я существую), придание фразеологизмам прямо противоположного смысла (…был рожден в сорочке, что в России / всегда вело к смирительной рубашке), центон (есть женщины в русских селеньях — не по плечу одному), обилие нецензурной («ненормативной») лексики.
Не все критики и не все читатели в восторге от Губермана. Он сам принимает это как должное — «…правы, кто хвалит меня, и правы, кто брызжет хулу».
Игорь Миронович Губерман (евр. יְהוּדָה בֵן מֵאִיר גוּברמן). Родился 7 июля 1936 года в Харькове. Советский и израильский поэт, прозаик. Известен четверостишиями под названием «гарики».
Отец — Мирон Давыдович Губерман.
Мать — Эмилия Абрамовна Губерман.
Старший брат — Давид Миронович Губерман, академик РАЕН, работал директором Научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая», был одним из авторов проекта бурения сверхглубоких скважин.
После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), который окончил в 1958 году, получив диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.
В конце 1950-х познакомился с А. Гинзбургом, издававшим один из первых самиздатских журналов «Синтаксис», а также с рядом других философов, деятелей литературы, изобразительного искусства. Писал научно-популярные книги, но все активнее проявлял себя как поэт-диссидент. В своём «неофициальном» творчестве использовал псевдонимы, например И. Миронов, Абрам Хайям.
Арест и уголовный срок Игоря Губермана
В 1979 году Губерман был арестован по сфальсифицированному обвинению о покупке краденых икон и приговорён к пяти годам лишения свободы. Не желая лишнего политического процесса, власти судили Губермана как уголовника по статье за спекуляцию. Кроме того, одному чиновнику приглянулась его коллекция икон.
Не желая лишнего политического процесса, власти судили Губермана как уголовника по статье за спекуляцию. Кроме того, одному чиновнику приглянулась его коллекция икон.
Сам Губерман о своем уголовном деле рассказывал: «В то время огромное количество людей сажали по уголовной статье. Помню, меня вызвали в КГБ и предложили посадить главного редактора журнала «Евреи в СССР», с которым я тогда сотрудничал, или сесть самому. Выбора у меня не было. Тут же нашли уголовников, которые показали, что я купил у них пять заведомо краденых икон. А так как при обыске у меня их не нашли, что в общем-то понятно, меня судили еще и за сбыт краденого. В общем, мне светило максимум полтора года. Но следовательница мне призналась, что отсижу я полных пять лет, потому что директору музея в Дмитрове очень понравилась моя коллекция икон. А конфисковать ее могли только, дав мне такой большой срок».
У него конфисковали большую коллекцию живописи, которую он собирал 12 лет: масляные картины, темперные. Кроме того — иконы, скульптуры, большое количество книг.
Попал в исправительно-трудовой лагерь, где вёл дневники. Он вспоминал, что в камере писал на клочках бумаги, которые хранили его сокамерники в сапогах и туфлях. Потом смог передать на свободу через заместителя начальника по режиму Волоколамской тюрьмы. «В тюрьме я встретил разных людей, но ко мне относились очень хорошо. Вообще, к дуракам в России очень хорошо относятся! Кстати, у меня даже кличка была — Профессор. Так она за мной по этапу и тянулась. Потому что я за всех желающих отгадывал кроссворды. А за это мне на прогулочном дворике перекидывали через стену табак», — вспоминал он.
В 1984 году поэт вернулся из Сибири. Долго не мог прописаться в городе и устроиться на работу. Он рассказывал: «Меня не прописывали в Москве. А вот жену с детьми сразу, меня только год спустя прописал у себя Давид Самойлов — в Пярну. Там же я снял с себя судимость. Милиция исправно приходила и проверяла, где я».
В 1988 году Губерман эмигрировал из СССР в Израиль, живёт в Иерусалиме. Часто приезжает в Россию, выступая на поэтических вечерах.
Часто приезжает в Россию, выступая на поэтических вечерах.
В Израиле он вновь стал коллекционировать и собрал довольно неплохую коллекцию живописи.
Широкую известность и популярность получили его «гарики» — афористичных, сатирических четверостиший. Изначально он называл свои стихи дацзыбао (во времена культурной революции в Китае так назывались большие лозунги). Но в 1978 году друзья издали его книжку в Израиле, назвав «Еврейские дацзыбао». Тогда он решил поменять название своих четверостиший. О том, как появилось это название, он говорил: «Вместе со мной. Меня зовут Игорь, но дома всегда звали Гариком. Бабушка произносила мое имя замечательно: «Гаринька, каждое твое слово лишнее!»».
Вся история нам говорит,
что Господь неустанно творит.
Каждый век появляется гнида
Неизвестного ранее вида.
Является сторонником неформальной лексики: «Ведь без нее литература российская просто невозможна!».
«Меня как непотопляемого оптимиста трудно расстроить. Старость навевает грусть. Правда, я и на эту тему умудряюсь шутить: «В органах слабость, за коликой спазм, старость — не радость, маразм — не оргазм»», — говорил Губерман.
Старость навевает грусть. Правда, я и на эту тему умудряюсь шутить: «В органах слабость, за коликой спазм, старость — не радость, маразм — не оргазм»», — говорил Губерман.
Игорь Губерман — Гарики
Личная жизнь Игоря Губермана:
Женат. Супруга — Татьяна Губерман (в девичестве Либединская), дочь писателей Юрия Либединского и Лидии Либединской. Как говорил Губерман, всю жизнь он был счастлив в браке. «Не знаю, как жена, но выбора у нее просто нет. По совету одного своего приятеля, я при заполнении анкеты в графе «семейное положение» пишу — безвыходное», — шутил он.
В браке родилось двое детей: дочь Татьяна Игоревна Губерман и сын Эмиль Игоревич Губерман.
Дочь — воспитательница в детском саду, раньше занималась кибернетическими машинами. Сын — программист-процессорщик.
У Губермана три внучки и внук.
Библиография Игоря Губермана:
1965 — Третий триумвират
1969 — Чудеса и трагедии чёрного ящика
1974 — Третий триумвират
1977 — Бехтерев: страницы жизни
1978 — Игорь Гарик. «Еврейские Да-Цзы-Бао»
«Еврейские Да-Цзы-Бао»
1980 — Еврейские дацзыбао
1982 — Бумеранг
1988 — Прогулки вокруг барака
1988 — «Гарики (Дацзыбао)»
1992 — Гарики на каждый день
1994 — Второй иерусалимский дневник
1994 — Иерусалимские гарики
1994 — Штрихи к портрету
1998 — Гарики из Иерусалима
2002-2010 — Антология Сатиры и Юмора России XX века. Т.17
2003 — Окунь А., Губерман И. Книга о вкусной и здоровой жизни
2004 — Гарики предпоследние. Гарики из Атлантиды
2006 — Второй иерусалимский дневник
2006 — Вечерний звон
2009 — Губерман И., Окунь А. Путеводитель по стране сионских мудрецов
2009 — Книга странствий
2009 — Заметки с дороги
2009 — Пожилые записки
2010 — В любви все возрасты проворны
2010 — Гарики за много лет
2010 — Искусство стареть
2013 — Восьмой дневник
2013 — Иерусалимские дневники
2014 — Дар легкомыслия печальный
2015 — Девятый дневник
2016 — Ботаника любви
2016 — Гарики и проза
2016 — Еврейские мелодии
Гарики Игоря Губермана:
Предпочитая быть романтиком
Во время тягостных решений,
Всегда завязывал я бантиком
Концы любовных отношений.
Давай, Господь, решим согласно,
Определив друг другу роль:
Ты любишь грешников? Прекрасно.
А грешниц мне любить позволь.
Был холост — снились одалиски,
Вакханки, шлюхи, гейши, киски;
Теперь со мной живет жена,
А ночью снится тишина.
Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую, и вижу очень зримо:
неважно, что мгновение прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
Текут рекой за ратью рать,
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
Я рад, что вновь сижу с тобой,
сейчас бутылку мы откроем,
мы объявили пьянству бой,
но надо выпить перед боем.
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
Идея найдена не мной,
но это ценное напутствие:
чтоб жить в согласии с женой,
я спорю с ней в ее отсутствие.
Опыт не улучшил никого;
те, кого улучшил, врут безбожно;
опыт — это знание того,
что уже исправить невозможно.
печаль моя, как мир, стара:
повесил зеркало с утра?
Тоскливей ничего на свете нету,
чем вечером, дыша холодной тьмой,
тоскливо закуривши сигарету,
подумать, что не хочется домой.
я вынянчил понятие простое:
Жить, покоем дорожа, —
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
и смех меня брал на бегу:
и рьяно его берегу.
Слежу со жгучим интересом
за многолетним давним боем.
Во мне воюют ангел с бесом,
а я сочувствую обоим.
Не в силах жить я коллективно:
по воле тягостного рока
мне с идиотами — противно,
а среди умных — одиноко.
Весьма порой мешает мне заснуть
волнующая, как ни поверни,
открывшаяся мне внезапно суть
какой-нибудь немыслимой херни.
С Богом я общаюсь без нытья
и не причиняя беспокойства;
глупо на устройство бытия
жаловаться автору устройства.
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
Отменной верности супруг,
Усердный брачных уз невольник —
Такой семейный чертит круг,
Что бабе снится треугольник.
Я женских слов люблю родник
И женских мыслей хороводы,
Поскольку мы умны от книг,
А бабы — прямо от природы.
Красоток я любил не очень
И не по скудности деньжат:
Красоток даже среди ночи
Волнует, как они лежат.
С неуклонностью упрямой
Все на свете своевременно;
Чем невинней дружба с дамой,
тем быстрей она беременна.
Есть дамы: каменны, как мрамор,
И холодны, как зеркала,
Но чуть смягчившись, эти дамы
В дальнейшем липнут, как смола.
Наступила в душе моей фаза
Упрощения жизненной драмы:
Я у дамы боюсь не отказа,
А боюсь я согласия дамы.
Душой и телом охладев,
Я погасил мою жаровню:
Еще смотрю на нежных дев,
А для чего — уже не помню.
Кто ищет истину, держись
У парадокса на краю;
Вот женщины: дают нам жизнь,
А после жить нам не дают.
Бабы одеваются сейчас,
Помня, что слыхали от подружек:
Цель наряда женщины — показ,
Что и без него она не хуже.
На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.
За радости любовных ощущений
однажды острой болью заплатив,
мы так боимся новых увлечений,
что носим на душе презерватив.
Жить, покоем дорожа, —
пресно, тускло, простоквашно;
чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.
Вчера я бежал запломбировать зуб,
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю мой будущий труп
и рьяно его берегу.
В наш век искусственного меха
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.
Вся наша склонность к оптимизму —
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
Есть личности — святая простота
играет их поступки, как по нотам,
наивность — превосходная черта,
присущая творцам и идиотам.
Текут рекой за ратью рать,
чтобы уткнуться в землю лицами;
как это глупо — умирать
за чей-то гонор и амбиции.
Всего слабей усваивают люди,
взаимным обучаясь отношениям,
что слишком залезать в чужие судьбы
возможно лишь по личным приглашениям.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Мы сохранили всю дремучесть
былых российских поколений,
но к ним прибавили пахучесть
своих духовных выделений.
Увы, но я не деликатен
и вечно с наглостью циничной
интересуюсь формой пятен
на нимбах святости различной.
Ворует власть, ворует челядь,
вор любит вора укорять;
в Россию можно смело верить,
но ей опасно доверять.
Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?
Мужик тугим узлом совьется,
но, если пламя в нем клокочет,
всегда от женщины добьется
того, что женщина захочет.
Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно.
Живя в загадочной отчизне
из ночи в день десятки лет,
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.
Любил я книги, выпивку и женщин
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен,
Теперь уже на книги нету сил.
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.
Вожди России свой народ
во имя чести и морали
опять зовут идти вперед,
а где перед, опять соврали.
Вся история нам говорит,
что Господь неустанно творит:
каждый год появляется гнида
неизвестного ранее вида.
Нам непонятность ненавистна
в рулетке радостей и бед.
Мы даже в смерти ищем смысла,
хотя его и в жизни нет.
Когда, глотая кровь и зубы,
мне доведется покачнуться,
я вас прошу, глаза и губы,
не подвести и улыбнуться.
Губерман Игорь Миронович (псевдонимы И.Миронов, Абрам Хайям и др.) (р. 1936) — российский писатель, поэт.
Родился 7 июля 1936 в Харькове. Детство провел в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). После окончания института работал по специальности. Познакомился с А.Гинзбургом — редактором-составителем «самиздатского» журнала «Синтаксис».
Счастье семьи опирается на благоразумие хотя бы одного из супругов.
Губерман Игорь Миронович
Он также знакомится с группой т.н. «лианозовцев», экспериментировавших в теме бытовой прозы. Губерман становится героем фельетона Р.Карпеля Помойка № 8 («Московский комсомолец», 29 сентября 1960): «…инженер Игорь Губерман, известный тем, что он был одним из вдохновителей и организаторов грязных рукописных листков „Синтаксиса“.
Сей „деятель“, дутый, как пустой бочонок, надменный и самовлюбленный, не умеющий толком связать и двух слов, все еще питает надежду на признание» (см. также ЛИАНОЗОВСКАЯ ШКОЛА).
Какое-то время Губерман сочетал работу инженера с
литературной деятельностью. Писал научно-популярные и документальные книги
(Чудеса и трагедии черного ящика — о работе мозга и современной психиатрии,
1968; Бехтерев. Страницы жизни, 1976 и др.), а также сценарии для
документального кино.
Писал научно-популярные и документальные книги
(Чудеса и трагедии черного ящика — о работе мозга и современной психиатрии,
1968; Бехтерев. Страницы жизни, 1976 и др.), а также сценарии для
документального кино.
Сытые свиньи страшней, чем голодные волки.
Губерман Игорь Миронович
Со временем в «самиздате» начинают появляться стихотворные миниатюры Губермана, позднее получившие название «гарики». (Гарик — его домашнее имя). В 1970-е он активный сотрудник и автор самиздатского журнала «Евреи в СССР».
Люди, делавшие этот журнал, видели свою задачу в распространении среди евреев знаний о религии, об истории и языке своего народа; вопрос же об эмиграции считали личным делом каждого.
В 1978 в Израиле ходившие по рукам «гарики» были собраны и изданы отдельной книгой. В 1979 Губерман был приговорен к 5-ти годам лишения свободы. Художественная гипотеза о причинах ареста — в его книге Штрихи к портрету.
В раю намного мягче климат, но лучше общество в аду.
Губерман Игорь Миронович
В заключении он вел дневник, из которого потом родилась
книга Прогулки вокруг барака (1980, опубликована в 1988). «Пусть только
любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону
эти разрозненные записки, — предупреждает
«Пусть только
любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону
эти разрозненные записки, — предупреждает
Только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение — главное, что я испытал там». Но содержание книги — это история человека, сумевшего остаться Человеком там, где унижением, страхом и скукой / человека низводят в скоты. Помогло четкое сознание: чем век подлей, тем больше чести / тому, кто с ним не заодно. И умение разглядеть человеческое даже в воре, грабителе и убийце.
(Губерман сидел в уголовном лагере). Три героя книги: Писатель, Бездельник и Деляга — три ипостаси автора — помогают сохранить чувство юмора и не поддаться ни унынию, ни гордыне.
Улучшить человека невозможно, и мы великолепны безнадежно.
Губерман Игорь Миронович
Он вернулся из Сибири в 1984. Прописаться не удавалось не
только в Москве, но и в маленьких городках, удаленных от столицы более чем на
100 км. Однако поэт Д.Самойлов прописал его в своем доме в Пярну.
Работал он на Ленинградской студии документальных фильмов. Вскоре Губермана пригласили в ОВИР и сообщили, что считают целесообразным его выезд с семьей в Израиль. Тяжелее всего уезжать нам оттуда, / Где жить невозможно, — написал он впоследствии. С 1988 живет в Иерусалиме.
В Израиле Губерман написал роман Штрихи к портрету (первое издание в России — в 1994). В 1996 в Иерусалиме вышли его мемуары Пожилые записки, в 2001 Книга странствий.
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк.
Губерман Игорь Миронович
Но славу ему создали, безусловно, «гарики». Число «гариков»
перевалило за пять тысяч, вместе они образуют некий «гипертекст».
Художественные приемы его стихов типичны для постмодернизма: иронический
перифраз известных выражений (…я мыслил, следователь, но я существую), придание
фразеологизмам прямо противоположного смысла (…был рожден в сорочке, что в
России / всегда вело к смирительной рубашке), центон (есть женщины в русских
селеньях — не по плечу одному), обилие нецензурной («ненормативной») лексики.
Не все критики и не все читатели в восторге от Губермана. Он сам принимает это как должное — «…правы, кто хвалит меня, и правы, кто брызжет хулу»
Читать электронную книгу «Слуга губернатора» Дж. Х. М. (Джона Генри Макартни) Эбботта онлайн бесплатно (страница 11 из 11)
девушку домой, чтобы я мог поднять тревогу и обратиться за помощью.
Пришли сэр Генри и мистер Наттинг, и мы нашли
солдат, сорвали две ставни с окон
нашего домика и отправились искать то, что, как мы знали,
должны были найти. Мы шли вдоль пляжа и по
плоским скалам, пока не пришли к ним.
Он был совершенно мертв. Его шея была сломана. Она
немного застонала, когда мы подняли ее, но прежде чем мы достигли вершины неровной тропы, ведущей от пляжа
к утесу, она тоже была мертва.
Мы с одним из солдат услышали после этого, что это был
мужчина, с которым она жила, пробормотал, когда мы положили ее тело
для краткого отдыха наверху.
«Бедная Мэри. Мне жаль ее. Она не была
такой уж плохой. Но что касается того , то почему он получил то, что
приходило к нему !»
И он сплюнул на землю,
презрительно махнув рукой в сторону группы, которая шла с телом мистера
Китинга.
И это, как я сказал выше, был странный способ
нашей помолвки.
Не думаю, что в приметах очень много.
ГЛАВА XX.
В «Пятьдесят восьмом.
А теперь, когда я подхожу к началу своей истории
, я должен перестать писать. Я по существу человек
респектабельных наклонностей, и это кажется немного тяжеловатым
что я должен прервать свою биографию как раз тогда, когда
я закончу постыдный период
моей карьеры. Но простое вычисление
покажет, насколько невозможно для меня продолжать
с той скоростью, с которой я шел.
Вышеизложенное правдивое и скачкообразное повествование
охватывает период в два года и пять месяцев и около
двухсот с лишним страниц рукописей. А это
А это
двадцатая глава. Предположим, я продолжил и рассказал
вам все приключения и перипетии Джона и
Аделаиды Карнфорд с мая 1808 года по декабрь
1858 как вы думаете, вы бы взялись за работу по пробиранию
через эти многочисленные тома мелкого пива? Это
простых правила трех утверждений. Эта незатейливая работа
состоит из двадцати глав и рассчитана, скажем, на два года.
Таким образом, пятьдесят лет уложатся в пятьсот
глав, или двадцать пять томов. Неужели вы полагаете, мои дорогие
детей и внуков, что все ваши несомненные
уважение к престарелому составителю этого великого произведения
побудило бы вас прочитать его целиком? Или вы думаете, что в
году он должен был исчезнуть под землей на холме Кэмпбелл
, недалеко от Уэст-Мейтленда. ваши хорошие жены и превосходные
мужья, которые, в конце концов, не так заинтересованы в вашем
словоохотливом предке, как вы сами хотели бы
152
T11K ГУБЕРНАТОРА 153
продолжать позволить себе эту громоздкую библиотечную комнату? Ну,
Нет!
Итак, здесь заканчивается урок Джона Карнфорда и Аде-
, его жены. И особой морали в этом нет.
И особой морали в этом нет.
Если бы я был склонен указать один, я бы обратил ваше внимание на несчастья
покойного адмирала Блая и
сказал: «Не ругайтесь со своими подчиненными».
Однажды я спросил Аделаиду, что бы она сделала
с тех пор, как настаивала на унижении своего высокого состояния, как
дочь Джорджа Мейнваринга Наттинга, эсквайра, из
Графство Бакс и Падди-Флэт, женившись на эмансипистке
, если бы губернатор Блай не был так добр
, что даровал ему условное помилование.
«Мой дорогой Джек, — ответила она со своей милой улыбкой и
милым смехом, — я должна была использовать свое влияние, и если бы ты был назначен ко мне. Знаешь, миссис
Маккуори и я очень хорошие друзья. Она милая.
Это было бы просто.»
«О, не могли бы вы,» сказал я. «Но у вас могло быть
повод выпороть меня?»
«Дорогой, — весело засмеялась она, — и было бы
так восхитительно вручить вам маленькую записку
мистеру Муди с просьбой к нему, как к мировому судье, до
см. , что вы получили пятьдесят ударов плетью. Восхитительно!»
, что вы получили пятьдесят ударов плетью. Восхитительно!»
кричаще смешно. Наша соседка Муди из Касл Форбс,
, была великой флоггером.
«О, не надо, Джек, — сказала она в следующий раз. . Ты великий медведь!»
Но на самом деле Аделаида была плохим флоггером. Я сам не был
очень хорош, но иногда я приводил
неисправимого преступника к суду магистратов, чтобы
расправлялись с ним так, как они считали нужным. Она никогда бы не
боялась возможного наказания даже больше, чем они.
Когда я был вдали от Ладгейт-Хилла, присматривая
за своей другой собственностью на реке Макинтайр, дисциплина
среди заключенных-слуг рушилась. Но я
всегда замечал, когда возвращался, какие-то непонятные
атмосфера счастья о месте. Они поклонялись ей, и я знаю не одну жизнь, которая была
154 ЧЕЛОВЕКОМ ГУБЕРНАТОРА
восстановлена благодаря ее способности вызывать любовь у всех, с кем она вступала в контакт. Хотя не всегда,
.
В один из моих возвращений, я помню, спросил ее, как
вел себя некий Пэдди-Козел. Она
с энтузиазмом ответила
«О, Джек, дорогой, я уверена, что этот бедняга был
9000оклеветал. Он был ангелом, положительным ангелом.
Знаешь, бедолагу возили зря»
(все были) «и всегда ужасно
не понимали. Я уверен, что мы сделаем из бедняги хорошего
человека». наковальня и полдюжины кирок. Его материальные активы
были два бочонка рома, и один пустой. Но,
даже тогда Аделаида была в слезах, когда адский мошенник
отправился в тюрьму Мейтленд. С сожалением должен сказать, что он был в конце концов повешен за бушрейндж; потому что у меня всегда
была мысль, что моя дорогая жена возложила на меня частичную ответственность за это
.
Но я пока не могу много писать об этой дорогой
женщине. Если для некоторых из вас, которые должны прийти, и
, которые не знали этого святого божьего, я скопирую этот короткий
абзац из «Мейтленд Меркьюри» от 3 июля
1855. Я знаю, что вы простите старика с
Я знаю, что вы простите старика с
больным сердцем, чье утешение в том, что он верит, что он
снова будет с ней, прежде чем пройдет много лет:
«Мы с сожалением сообщаем о смерти в прошлое воскресенье из
миссис Аделаида Карнфорд, жена Джона Карнфорда, эсквайра,
M.L.A., станции Ладгейт-Хилл, недалеко от Синглтона. Умершая дама
пользовалась всеобщим уважением. Она была единственной дочерью покойного Джорджа Мейнваринга Наттинга,
эсквайра , Мулгоа, и с ее уважаемым мужем, который
теперь представляет его в парламенте, была одним из пионеров
округа, в котором она жила так
много лет.
ЧЕЛОВЕК ГУБЕРНАТОРА 155
ЧЕЛОВЕК ГУБЕРНАТОРА 155
Собрание скорбящих на кладбище Кэмпбелл-Хилл,
где она была похороненная в среду, была красноречивым свидетельством уважения, которым она пользовалась. Миссис Карн-
Форд оставляет семью из двух сыновей и трех дочерей, чтобы
оплакивать ее потерю. Имя ее старшего сына, полковника
Имя ее старшего сына, полковника
Джона Карнфорда из 2-го драгунского полка (Royal Scots
Greys), который так отличился в Крыму как
, чтобы быть награжденным новой военной наградой Ее Величества
Креста Виктории, свежо в памяти. общественная память.
Ее второй сын, мистер Джордж Наттинг Карнфорд, хорошо
известен в этом округе и на Ливерпульских равнинах,
где он управляет имуществом своего отца. Леди Элстерн-
wick, жена контр-адмирала сэра Томаса Элстернвика,
RN, который ранее командовал австралийской станцией
в качестве капитана HMS. Аргонавт, ее старшая
дочь. Другой является миссис Брайан Мак-Магон, вдова
покойного мистера Мак-Магона из господ Бланделл и Мак-
Махон, хорошо известных торговцев шерстью и транспортных агентов
из Сиднея и Ньюкасла. Младшая дочь,
мисс Хестер Карнфорд, не замужем и проживает со своим
отцом в Ладгейт-Хилл. Покойная дама оставила одиннадцать
внуков, которых вполне можно считать удачливыми, поскольку
имеют столь добродетельных, столь благожелательных и столь повсеместно
любимых дедушку и бабушку, на которых можно смоделировать модель
их будущей карьеры. Район понес серьезные потери в лице миссис Карнфорд, которая вместе со своим мужем была одним из первых поселенцев. Наши искренние
Район понес серьезные потери в лице миссис Карнфорд, которая вместе со своим мужем была одним из первых поселенцев. Наши искренние
соболезнования семье
покойного этой достопочтенной дамы».0003 хорошая женщина, хорошая жена и хорошая мать.
В первый раз я снова посетил свою родную страну, чтобы увидеть
последнюю мою дорогую мать, которую я так и не смог убедить
покинуть Харроу-Уилд, в 1827 году. Однажды,
осенью того же года, бродя по Лондон-
дон, я оказался на южном берегу реки, а
недалеко от Ламбетского дворца. Я был недалеко от Ламбетской приходской церкви
. Итак, так как времени у меня не было,
и я исследовал большой город только для собственного развлечения
156 ЧЕЛОВЕК ГУБЕРНАТОРА
и инструкции, я пошел на кладбище с
идеей осмотреть церковь. Прямо за
железными воротами я наткнулся на огромную квадратную гробницу внушительных размеров. Прогуливаясь вокруг него, чтобы информировать себя как
о важности персонажа, который был там похоронен,
я прочитал
Священный
к
Память о
Вице-адмирал Уильям Блай,
Адмирал Синих.
и т. д., и т. д., и т. д.
и длинную хвалебную речь такого характера, что ее никак не мог
сочинить мой покойный друг мистер
Джон Макартур.
Так вот где лежал мой старый хозяин! Как я вернулся
за эти годы! Как я запомнил все
про этого холерика его любимые ругательства, прежде всего
остальное. Он умер в 1817 году, а казалось, что это только вчера
, так как он передал мне письмо для полковника Джонстона в три девятого.00:03 в тот памятный юбилейный день в Сиднее.
И с тех пор я его ни разу не видел!
Ну, Блай мне понравился. Он мне нравился, и я уважал его.
При всех своих недостатках он был Человеком, и нельзя сказать
больше ни о каком человеческом существе мужского пола, чем это. И он был
великим моряком. Об этом свидетельствовали лорд Нельсон и капитан Кук. Что же касается его качеств как губернатора, то, пожалуй, мне лучше отослать вас к частным журналам полковника Джорджа Джонстона. Ты так думаешь?
Его памятник напоминает мне о другом кладбище, далеком
от грязного Ламбета, где также находится надгробный камень
огромных размеров, который покоится над костями
Эндрю Томпсона. Он находится в церкви Святого Матфея в Виндзоре.
Он находится в церкви Святого Матфея в Виндзоре.
на Хоксбери. Молодой шотландец умер в 1810 году, и
памятный камень, знаменующий его упокоение: место устрашающее,
некоторые с его добродетелями. Они записаны в манере Мак-
квари, а также записано, что хороший
ЧЕЛОВЕК ГУБЕРНАТОРА 157
Губернатор заплатил за камень, и, очень наивно, что
Эндрю Томпсон оставил ему четверть своего состояния.
Во время того визита в Англию я отправился в Корк,
, и сделал себе честь посетить моего друга.
Сэр Генри Браун Хейс. Я нашел его старик,
и очень рад меня видеть. Он получил помилование в
году 1812 года и сразу же отправился домой. Он очень любил говорить о колонии и особенно о Воклюзе. Он
не уставал ругать «злодеев», у которых было
преследовал его в Сиднее. Из всех, я думаю, он больше всего не любил моего друга, мистера Уильяма Лоусона.
Вот и подошёл к концу. Я пишу это в доме
моего старого и всеми любимого друга, доктора Питера Коллинг-
Вуда, который все еще жив и здоров и говорит, что ему всего
пятьдесят. Но он старше меня на пятнадцать лет, а мне,
Но он старше меня на пятнадцать лет, а мне,
краснея, признаться, на семьдесят два. Он уже давно ушел из
прекрасной практики, которую он накопил в Сиднее после того, как покинул море
.
В открытое окно я смотрю с Северного
Берега, через эту прекрасную гавань, и мне снится много
вещей. Где тот маленький городок, который я узнал первым из
? W T здесь дом губернатора Блая? Где
старый Сидней? Ушли, ушли, ушли, и все же это то же
прекрасное место, которое никогда не могло быть ничем иным, как прекрасным,
даже в дни страданий и горя. Если вы любите
Сидней, как я всегда любил его, и эту великолепную Австралию, ну,
<ралия, наша, ну, ни город, ни континент не могут сосуществовать.0003 nlain недостатка пылкой и искренней любви.
Это великая страна, и когда-нибудь люди будут
великими.
Ну, до свидания, до свидания.
КОНЕЦ.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Калифорнии
РЕГИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Avenue, Los Angeles, CA
-1388
Верните этот материал в библиотеку
, из которой H был позаимствован В\-7 -1 5
ПР
6001
A13g
Un
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Места могучих: воспоминания капитана Роберта Стобо, когда-то служившего офицером в полку Вирджиния, а затем в полку Амхерста901
ПРЕЛЮДИЯ.

СЭРУ ЭДВАРДУ СИФОРТУ, БАРТ., из Сангли-Хоуп, в Дербишире, и Сифорт-Хаус на Ганновер-сквер .
ДОРОГОЙ НЭД, — Вы их запишите, или я буду приставать к моей могиле! Это голос давнего друга? И все же кажется, что это было только вчера, с тех пор как мы вместе провели хорошие часы в Вирджинии или встретились среди руин Квебека, и ты вернул мне мой меч, который Бедфорд, Монро и ты почтили так в доблестном бою и сделали священным своей смертью. во время его использования. Мои мемуары — только этим ты удовлетворишься? И чтобы польстить или умаслить меня, вы говорите мне, что мистер Питт все еще настаивает на этом. По правде говоря, когда он впервые коснулся этого, я подумал, что это всего лишь любезность великого и великодушного человека. Но на самом деле я горжусь тем, что ему любопытно узнать больше о моем долгом пленении в Квебеке, о господине Долтере и обо всех его делах со мной, а также о его попытках служить Помпадур, с одной стороны, и, с другой, чтобы завоевать от меня самая совершенная из дам, мадемуазель Аликс Дюварни.
Многое из того, что я мог бы написать, касаясь крупных общественных дел, в которых я был скромным орудием для достижения великих целей, не имеет особого значения. Наше яркое завоевание Квебека стало теперь героическим воспоминанием, и честь, и слава, и награды были разделены. Так что я лишь кратко, в этих мемуарах (да, они будут написаны и с добрым сердцем), пройду по следам истории или расскажу о кампаниях и осадах, дипломатиях и договорах. Я буду держаться близко к моей собственной истории; ибо это, кажется, вы и прославленный министр короля больше всего хотите услышать. Тем не менее вы найдете в ней фигуру великих людей, таких как наш пламенный герой генерал Вульф, а также генерала Монкальма, который, я всегда буду повторять, мог бы настроить Квебек против нас, если бы ему не помешал тщеславный губернатор, маркиз де Водрей; вместе с такими известными людьми, как лейтенант Биго, гражданский губернатор Новой Франции, и такими благородными джентльменами, как сеньор Дюварни, отец Аликс.
Я никогда больше не увижу высоких квебекских высот, ни цитадели, где меня так варварски заточили, ни милостивого поместья в Бопорте, священного для меня из-за той, что жила в нем, — как давно, как давно! Из всех картин, которые вспыхивают перед моим мысленным взором, когда я думаю о тех временах, одна больше всего со мной: прекрасная комната для гостей в Усадьбе, где я вижу, как движется добрая горничная, которая одна может сделать эту историю достойной рассказа. И с одной сцены, самой важной в моей жизни, я начну свой рассказ.
Умоляю вас, передайте мистеру Питту мои самые покорные поклоны и скажите, что я принимаю его вежливое пожелание как свою команду.
С каждым выражением моего уважения я, дорогой Нед, нежно ваш друг, РОБЕРТ СТОБО.
I.
Когда мсье Долтер вошел в салон и, лениво опустившись в кресло рядом с мадам Дюварни и ее дочерью, протянул: — Английский Брэддок попал в рай, капитан Стобо, и ваши документы отправляют вас туда же. Я ни на йоту не пошевелился, а серьезно посмотрел на него, — ибо, бог знает, я был поражен, — и сказал: «Генерал умер?
Я не осмелился спросить, Он побежден? хотя по взгляду Долтера я был уверен, что так оно и есть, и меня охватила тошнота, ибо в тот момент казалось, что это конец нашего дела. Но я сделал вид, что не слышал его слов о моих бумагах.
Но я сделал вид, что не слышал его слов о моих бумагах.
— Мертв, как прошлогодний придворный, сдвинутый со сцены, — ответил он; — А теперь, когда нам делать нечего, пойдем играть с крысой в нашей ловушке.
Я не посмел бы взглянуть на Аликс, стоявшую тогда рядом с матерью, ибо песня в моей крови была слишком высока, если бы из нее не вырвался тихий звук… Тут я взглянул и увидел, что лицо ее была неподвижна и тиха, но глаза ее блестели, и все тело ее как будто прислушивалось. Я не смел придать своему взгляду значения, хотя и хотел сделать это. Она много мне служила, была мне добрым другом, привезли заложника в Квебек из форта Несессити. Там, на том маленьком посту на реке Огайо, Франция бросила нам перчатку и дала нам великую Семилетнюю войну. И хотя может показаться, что я говорю опрометчиво, беда была в пределах моей досягаемости. Если бы Франция молчала, в то время как Австрия и Пруссия ссорились, никогда не было бы этой долгой борьбы. Игра в войну лежала на Великой Маркизе, или Ла Помпадур, как ее называли, — и позже она может видно, как я, не желая, толкнул ее, чтобы она завелась. 0008
0008
Отвечая мсье Долтеру, я твердо сказал: «Я уверен, что он хорошо дрался; у него были галантные люди».
— Истинно галантно, — ответил он, — ваши собственные вирджинцы (я поклонился); — Но он был груб, как и вы, сударь, иначе вы не прислали ему планы наших фортов и письма с такой искренностью. Они уехали во Францию, мой капитан.
Мадам Дюварне, казалось, напряглась в своем кресле, ибо что это значило, как не то, что я шпион? и барышня позади них теперь приложила свой носовой платок ко рту, как будто прерывая слово. Единственным выходом было легкомысленно отнестись к обвинениям против себя, но у меня не хватило духу сделать это. Между мной и мсье Долтером произошел конфликт, к которому я еще вернусь, и который вполне мог меня обеспокоить.
— Мои наброски и мои сплетни с друзьями, — сказал я, — мало интересны во Франции.
— Верю, Великая Маркиза найдет для них вкус, — многозначительно сказал он мне. Он, внебрачный сын короля Людовика, сыграл роль между Помпадур и мной в серьезном деле, о котором я говорил. «Она любит решать запутанные вопросы морали», — добавил он.
«Она любит решать запутанные вопросы морали», — добавил он.
— У нее было достаточно шансов и воли, — смело сказал я, — но при чем здесь мораль?
— Самое жизненно важное — тебе, — отозвался он, слегка взмахивая платком и растягивая слова так, что я мог закрыть ему рот рукой. «Должен ли условно-досрочно заложник делать наброски форта и посылать их своим друзьям, которые, в свою очередь, передают их глупому генералу? »
«Когда одна сторона статьи о войне грубо нарушает данное им обещание, должна ли другая сторона придерживаться своего ? — тихо спросил я.
Я был рад, что в этот момент вошел сеньор Дюварни, потому что я чувствовал, как воздух вокруг мадам, его жены, становится все холоднее. По крайней мере, он был хорошим другом; но, взглянув на него, я увидел, что лицо его обеспокоено, а манеры отстранены. Мгновение он пристально смотрел на мсье Долтера, наклонился к руке жены и молча предложил мне свою; Сделав это, он пошел туда, где стояла его дочь. Она поцеловала его и при этом что-то прошептала ему на ухо, на что он кивнул в знак согласия. Впоследствии я узнал, что она просила его пригласить меня к ним пообедать.
Впоследствии я узнал, что она просила его пригласить меня к ним пообедать.
Повернувшись к мсье Долтеру, он вопросительно спросил: «У вас есть группа людей возле моего дома, Долтер?
Долтер томно кивнул и ответил: «Эскорт — для капитана Стобо — в цитадель».
Я знал теперь, как он сказал, что я был в ловушке; что он начал долгую забаву, которая едва не надела на меня белый саван смерти, как поседели волосы на моей голове, прежде чем мне исполнилось тридцать два года. Разве я не знаю, что унижениями и несчастьями, которые я перенес, я был обязан главным образом ему, и что в конце концов он чуть не лишил Англию ее величайшей гордости — захвата Новой Франции? Ведь случай иногда позволяет скромным людям вроде меня уравновесить весы судьбы; и я был достаточно смирен по званию, хотя по духу всегда был чем-то выше моего положения.
Я стоял, пока он говорил эти слова, повернулся к нему и сказал: «Мсье, я к вашим услугам».
— Мне иногда хотелось, — сказал он тотчас же с учтивым, хотя и ироническим жестом, — чтобы вы были у меня на службе; то есть, короля».
Я поклонился в знак комплимента, потому что не хотел видеть дерзости, и возразил: «Если бы я мог предложить вам роту в моем Виргинском полку!
Восхитительно! восхитительно! — отозвался он. — Я должен стать таким же хорошим британцем, как ты — французом, во всем.
Я полагаю, он продолжал бы вести такую глупую игру, если бы я не повернулся к мадам Дюварне и не сказал: «Мне очень жаль, что это несчастье происходит здесь; но это не моя вина, и в более прохладном утешении, сударыня, я буду вспоминать хорошие часы, проведенные в вашем доме.
Кажется, я сказал это из общей учтивости, однако, чувствуя на себе взгляд молодой дамы, в моем голосе, может быть, появилось немного дополнительной теплоты и подействовало на мадам, а может быть, она была рада моему удалению из контакт с дочерью; но на ее лице отразилась доброта, и она мягко ответила: «Я уверена, что осталось всего несколько дней, прежде чем мы снова увидимся».
Тем не менее, я думаю, в глубине души она знала, что моя жизнь в опасности: это были тяжелые и поспешные времена, когда топор или веревка были самым верным средством справиться с неприятностями. Три года назад, в форте Несессити, я вручил свой меч моему лейтенанту, попросив его правильно им пользоваться, и, отправившись в Квебек под честное слово, входил и выходил из этого дома с большой свободой. Однако с тех пор, как Аликс стала женщиной, манеры мадам сильно изменились. Я был рад узнать, что ее муж остался прежним, как и в самом деле, насколько он мог, он оставался, несмотря на то, что приходило и уходило.
Три года назад, в форте Несессити, я вручил свой меч моему лейтенанту, попросив его правильно им пользоваться, и, отправившись в Квебек под честное слово, входил и выходил из этого дома с большой свободой. Однако с тех пор, как Аликс стала женщиной, манеры мадам сильно изменились. Я был рад узнать, что ее муж остался прежним, как и в самом деле, насколько он мог, он оставался, несмотря на то, что приходило и уходило.
«Дни, какими бы короткими они ни были, будут слишком длинными, пока я снова не накажу вашу любезность», — сказал я. — Я прощаюсь с вами, мадам.
— Нет, не так, — сказал мой хозяин. «Ни шагу: обед почти подан, и вы оба должны обедать с нами. Нет, но я настаиваю, — добавил он, видя, как я качаю головой. — Господин Долтер окажет вам эту любезность, а мне — большую любезность. А, Долтер?
Долтер поднялся, переводя взгляд с мадам на дочь. Мадам улыбалась, как бы прося его согласия; ибо, каким бы распутным он ни был, его положение и, более всего, его личная известность сделали его желанным гостем в большинстве домов Квебека. Аликс встретила его взгляд, не отвечая ни «да», ни «нет» в глазах — такая юная, но обладающая таким самообладанием и мудростью, что у меня были причины, неведомые всем мужчинам.
Аликс встретила его взгляд, не отвечая ни «да», ни «нет» в глазах — такая юная, но обладающая таким самообладанием и мудростью, что у меня были причины, неведомые всем мужчинам.
Однако что-то в характере сцены наполнило ее каким-то сиянием, что добавило ей красоты и придало ей достоинства. Дух ее взгляда вызвал восхищение этого придворного-экспатрианта, и я понял, что более глубокая причина, чем все наши прошлые конфликты — а они были велики — сейчас или вскоре настроит его смертельно против меня.
— Я буду счастлив дождаться удовольствия капитана Стобо, — сказал он вскоре, — и обслужить свое собственное, сев за ваш стол. Я должен был сегодня обедать с интендантом, но посыльный скажет ему, что долг остается на мне. . . . Если вы извините меня! — прибавил он, подойдя к двери, чтобы найти человека из своей компании. Он на мгновение оглянулся, как будто ему пришло в голову, что я могу искать спасения, потому что он не верил ни в человеческую правду; но он только сказал: «Я могу привести своих людей на вашу кухню, Дюварни? На улице сыро».
«Конечно. Я позабочусь о том, чтобы они утешились, — был ответ.
Затем Долтер ушел, комната, и Дюварни пришел ко мне. — Плохо дело, Стобо, — грустно сказал он. «Есть какая-то ошибка, не так ли?»
Я посмотрел ему прямо в лицо. «Есть ошибка, — ответил я. — Я не шпион, и я не боюсь, что потеряю свою жизнь, свою чести или моих друзей оскорбительными действиями».
Он был человеком благородным, но в то же время очень душевным. «Я верю тебе, — сказал он, — как я верил с тех пор, как ты пришел, хотя о твоих делах и болтали. Я не забываю, что ты купил мой жизнь вернулась от тех диких могавков пять лет назад.
Клянусь душой, я мог бы пасть ему на шею, потому что удар по нашему делу и тень на моей собственной судьбе на мгновение угнетали меня. Я не думал, что когда-нибудь потеряю мужество перед врагами, как бы тяжело ни было мое дело.
В этот момент дамы вышли из комнаты, чтобы привести себя в порядок перед обедом, и когда они проходили мимо меня, рукав платья Аликс коснулся моей руки. Я поймал на мгновение ее пальцы и до сих пор чувствую этот теплый, насыщенный поток жизни, текущий от кончиков пальцев к сердцу. Она вообще не смотрела на меня, а прошла за матерью. Никогда до этого момента между нами не было открытого проявления сердечности, хотя сначала в моем плену — признаюсь, к своему стыду — я подружился с ней главным образом для того, чтобы воспользоваться ее добротой в какой-нибудь опасный день побега. Но это скоро прошло, и тогда я пожелал ей дружбы ради нее самой и ради себя. Кроме того, меня сдерживали, потому что, когда я впервые узнал ее, она казалась еще ребенком. Но как быстро и как мудро она выросла из этого! Она обладала игривым умом, а ее таланты были далеко не по годам. Меня часто поражало, когда она подытоживала какую-то мысль в каком-нибудь многозначительном предложении, которое, если подумать, было единственным словом, которое нужно было сказать. У нее был такой глубокий взгляд в ее голубых глазах, что, едва оторвавшись от них, можно было увидеть теплый сладкий цвет ее лица, светлый широкий лоб, каштановые волосы, нежное богатство ее губ, которые всегда были полны юмора и серьезности, — оба бегут вместе, как вы можете видеть, как смеющийся ручей крадется в тишину реки.
Я поймал на мгновение ее пальцы и до сих пор чувствую этот теплый, насыщенный поток жизни, текущий от кончиков пальцев к сердцу. Она вообще не смотрела на меня, а прошла за матерью. Никогда до этого момента между нами не было открытого проявления сердечности, хотя сначала в моем плену — признаюсь, к своему стыду — я подружился с ней главным образом для того, чтобы воспользоваться ее добротой в какой-нибудь опасный день побега. Но это скоро прошло, и тогда я пожелал ей дружбы ради нее самой и ради себя. Кроме того, меня сдерживали, потому что, когда я впервые узнал ее, она казалась еще ребенком. Но как быстро и как мудро она выросла из этого! Она обладала игривым умом, а ее таланты были далеко не по годам. Меня часто поражало, когда она подытоживала какую-то мысль в каком-нибудь многозначительном предложении, которое, если подумать, было единственным словом, которое нужно было сказать. У нее был такой глубокий взгляд в ее голубых глазах, что, едва оторвавшись от них, можно было увидеть теплый сладкий цвет ее лица, светлый широкий лоб, каштановые волосы, нежное богатство ее губ, которые всегда были полны юмора и серьезности, — оба бегут вместе, как вы можете видеть, как смеющийся ручей крадется в тишину реки.
Дюварни и я остались на мгновение наедине, и он тут же положил руку мне на плечо. «Позвольте мне посоветовать вам, — сказал он, — будьте дружелюбны с Долтером. Он имеет большое влияние при дворе и в других местах. Он может сделать твою постель жесткой или мягкой в цитадели.
Я улыбнулась ему и ответила: «Я буду спать не менее крепко из-за господина Долтера».
«Ты горька в своей беде», — сказал он.
Я поспешил ответить: «Нет, нет; мои собственные беды не так тяжелы, как смерть нашего генерала».
— Вы патриот, друг мой, — тепло добавил он. «Я вполне мог бы удовлетвориться нашим успехом против вашей английской армии без этой серьезной опасности для вас, потому что я не могу считать вас своим врагом».
Я протянул ему руку, но ничего не сказал, потому что в этот момент вошел Долтер. Он улыбался чему-то в своих мыслях.
— Удача всегда на стороне интенданта, — сказал он. «Когда дела обстоят хуже всего и королевский склад, дорогая Ла-Фрипонн, будет разорвана нашими мятежными крестьянами, как кукла из опилок, приходят богатые новости о нашем успехе на Огайо; и со смертью Брэддока скулящие нищие забудут свои пустые животы и благословят там, где хотели проклясть. Какие дураки, согласитесь! Лучше бы они ограбили Ла Фрипонн. Господи, как же мы любим драться, мы, французы! И не намного легче танцевать, или пить, или любить. Он вытянул свои стройные ноги и сидел, размышляя и разговаривая как бы сам с собой.
Какие дураки, согласитесь! Лучше бы они ограбили Ла Фрипонн. Господи, как же мы любим драться, мы, французы! И не намного легче танцевать, или пить, или любить. Он вытянул свои стройные ноги и сидел, размышляя и разговаривая как бы сам с собой.
Дюварни с улыбкой пожал плечами. — Но вы, Долтер, — во Франции нет человека, который бы так дрался.
Он поднял бровь. «Нужно быть в моде; кроме того, для боя нужны определенные навыки. Остальные — танцевать, пить, любить: игры вслепую!
Он цинично улыбнулся вдаль. Я никогда не знал человека, у которого был бы такой острый взгляд на жизнь, как у него. В самом деле, я имел обыкновение удивляться сути и глубине его наблюдений; ибо, хотя я не соглашался с ним ни разу из десяти, я любил его великую сообразительность и его прекрасную проницательность, исключительные дары в человеке действия. Но тогда действие для него было игрой; в нем была та же безответственность двора, из которого он вышел, его пренебрежительное отношение к поражениям и несчастьям, его легкомысленный взгляд на мир, его негодяйское отношение к женщинам. Потом он и Дюварни поговорили, а я сидел и думал. Быть может, страсть к делу растет в тебе по мере того, как ты страдаешь за него, а я страдал и страдал больше всего от горького бездействия. Губернатор Динвидди, Вашингтон (увы, когда я пишу фрагменты глав своей жизни, среди холмов, где сражался мой предок Монтроуз, Джордж ведет колонистов против королевства Англии!), и остальные страдали, но они тоже сражались . Поверженные на колени, они могли снова подняться в бой, и я подумал тогда: насколько славнее быть с моими джентльменами в голубом из Вирджинии, удерживая смерть от генерала и в конце концов падая сам, чем провести добрые годы в заложниках. в Квебеке, зная, что Канада готова к захвату, но ничего не делая, чтобы приблизить время! В гуще этих мыслей я не обращал внимания на то, что они говорили, но наконец уловил имя г-жи Курналь; из чего я догадался, что мсье Долтер имел в виду ее любовные отношения, главным и последним из которых был интендант Биго, которому король передал все гражданское управление, всю власть над торговлей и финансами в стране.
Потом он и Дюварни поговорили, а я сидел и думал. Быть может, страсть к делу растет в тебе по мере того, как ты страдаешь за него, а я страдал и страдал больше всего от горького бездействия. Губернатор Динвидди, Вашингтон (увы, когда я пишу фрагменты глав своей жизни, среди холмов, где сражался мой предок Монтроуз, Джордж ведет колонистов против королевства Англии!), и остальные страдали, но они тоже сражались . Поверженные на колени, они могли снова подняться в бой, и я подумал тогда: насколько славнее быть с моими джентльменами в голубом из Вирджинии, удерживая смерть от генерала и в конце концов падая сам, чем провести добрые годы в заложниках. в Квебеке, зная, что Канада готова к захвату, но ничего не делая, чтобы приблизить время! В гуще этих мыслей я не обращал внимания на то, что они говорили, но наконец уловил имя г-жи Курналь; из чего я догадался, что мсье Долтер имел в виду ее любовные отношения, главным и последним из которых был интендант Биго, которому король передал все гражданское управление, всю власть над торговлей и финансами в стране. Соперничество между губернатором и интендантом в то время было острым и жизненно важным, хотя позже, как я покажу, оно изменилось. Услышав ее имя, я поднял голову и поймал взгляд мсье Долтера.
Соперничество между губернатором и интендантом в то время было острым и жизненно важным, хотя позже, как я покажу, оно изменилось. Услышав ее имя, я поднял голову и поймал взгляд мсье Долтера.
Он прочитал мои мысли. — Вы тут весело проводили время, сударь, — сказал он, — вы знаете, как нас прощупать; но из всех дам, которые могли быть вам наиболее полезны, вы упустили величайшую. Вот вы ошиблись. Говорю как друг, а не как офицер, тут ты ошибся. От мадам Курналь к Биго, от Биго к губернатору Водрейлю, от губернатора к Франции. А теперь…» —
Он сделал паузу, так как пришли мадам Дюварни с дочерью, и мы все встали.
Дамы слышали достаточно, чтобы понять смысл слов Долтера. — А теперь — с нами обедает капитан Стобо, — сказала г-жа Дюварне тихо и многозначительно.
— И все же я обедаю с мадам Курналь, — ответил Долтер, улыбаясь.
— С врагами и пленными можно использовать больше возможностей, — проницательно сказала она, и выстрел должен был попасть в цель. В таком маленьком месте было нелегко провести тесные и тонкие линии, и во власти интенданта при поддержке его сообщников было разорить почти любую семью в провинции, если бы он захотел; и то, что он выбирал время от времени, я хорошо знал, как и моя хозяйка. Тем не менее она была женщиной мужественной и благородной мысли, и я хорошо знал, откуда ее дочь взяла свой высокий, тонкий вкус.
В таком маленьком месте было нелегко провести тесные и тонкие линии, и во власти интенданта при поддержке его сообщников было разорить почти любую семью в провинции, если бы он захотел; и то, что он выбирал время от времени, я хорошо знал, как и моя хозяйка. Тем не менее она была женщиной мужественной и благородной мысли, и я хорошо знал, откуда ее дочь взяла свой высокий, тонкий вкус.
Я видел что-то дьявольское в улыбке на губах Долтера, но взгляд его блуждал между Аликс и мной, и он учтиво ответил: «У меня есть еще честолюбие — потворствовать плену», — а потом посмотрел на нее полным и многозначительным взглядом. .
Я вижу ее сейчас, ее рука на высокой спинке большого дубового стула, кружево ее белого рукава спадает, и ее мягкая рука видна, ее глаза не отрываются от него. Они не упали и не отвернулись; держались прямо, спокойно, сильно — и понимающе. По этому взгляду я видел, что она читала его; она, так мало повидавшая на свете, почувствовала, что он из себя представляет, и твердо, но печально встретила его навязчивый интерес; ибо я знал, что еще долго после этого у нее было тогда удушье в ее сердце, предзнаменование опасностей, которые будут испытывать ее, как мало женщин испытывают. Слава Богу, что хорошие женщины рождаются с большей душой для испытаний, чем мужчины; что, получив однажды якорь для своих сердец, они будут держаться, пока тросы не порвутся.
Слава Богу, что хорошие женщины рождаются с большей душой для испытаний, чем мужчины; что, получив однажды якорь для своих сердец, они будут держаться, пока тросы не порвутся.
Когда мы собирались войти в столовую, я, к своей радости, увидел, что мадам склоняется к Долтеру, и я понял, что Аликс была за меня, хотя ее мать, я уверен, мало этого хотела. Когда она взяла меня за руку, кончики ее пальцев мягко погрузились в бархат моего рукава, придав мне мужества. Я почувствовал, как во мне поднялось настроение, и я решился весело провести время, чтобы этот последний час с ней прошел без уныния, потому что легко было думать, что мы больше не встретимся.
Когда мы прошли в столовую, я сказал, как сказал в первый раз, когда я обедал в доме ее отца: «Будем ли мы легкомысленными или серьезными?
Я догадался, что это тронет ее. Она подняла на меня глаза и ответила: «Нам тяжело; будем казаться легкомысленными».
В те дни у меня был запас спиртных напитков. Я редко впадал в уныние, потому что жизнь была такой жестокой игрой, что я держался за жизнерадостность и юмор, как горец за свой палаш, зная, что это величайшее оружие против врага и самый камень и раствор дружбы. Так что мы были веселы, слегка касаясь событий вокруг нас, смеялись над сплетнями в дверях (я на моем плохом французском), бросали маленькие камни во все, что привлекало наше внимание, не забывая бросить пару бросков в Шато Биго, загородный дом интенданта в Шарльбур, в пяти милях отсюда, где было затеяно множество заговоров, запятнана репутация и обесчещены все чистые вещи. Но она, самая милая душа, которую Франция когда-либо давала миру, не могла знать всего, что знал я, догадываясь только о тяжелых кутежах, картах, песнях и шутках, с далекими намеками на ноги легче, чем поместится в кавалерийских сапогах, танцующих среди очков на Таблица. Я никогда прежде не был так очарован ее быстрым умом, потому что у меня никогда не было ни большой проворности мысли, ни способности красиво играть языком. Единственным моим важным даром ума или манеры было чувство того, что должно быть сказано и что осталось недосказанным, — вещь, которая часто стояла передо мной, хотя, с моим вспыльчивым характером, я время от времени высказывался вопреки своему суждению.
Так что мы были веселы, слегка касаясь событий вокруг нас, смеялись над сплетнями в дверях (я на моем плохом французском), бросали маленькие камни во все, что привлекало наше внимание, не забывая бросить пару бросков в Шато Биго, загородный дом интенданта в Шарльбур, в пяти милях отсюда, где было затеяно множество заговоров, запятнана репутация и обесчещены все чистые вещи. Но она, самая милая душа, которую Франция когда-либо давала миру, не могла знать всего, что знал я, догадываясь только о тяжелых кутежах, картах, песнях и шутках, с далекими намеками на ноги легче, чем поместится в кавалерийских сапогах, танцующих среди очков на Таблица. Я никогда прежде не был так очарован ее быстрым умом, потому что у меня никогда не было ни большой проворности мысли, ни способности красиво играть языком. Единственным моим важным даром ума или манеры было чувство того, что должно быть сказано и что осталось недосказанным, — вещь, которая часто стояла передо мной, хотя, с моим вспыльчивым характером, я время от времени высказывался вопреки своему суждению.
Если раньше я был узником Франции, то теперь я был узником той, которая, как я молился, заперла меня в своем сердце и позволила мне никогда больше не быть на свободе. Из этой жизнерадостной тюрьмы исходил свет, чтобы согреть и осветить цитадель на Высотах, которая, как и Бастилия, открылась гораздо большему, чем когда-либо. Как я уже сказал, до того вечера между нами никогда не было определенного знака, и я не мог быть уверен, что мягкое прикосновение руки, похожее на подушечку розовых листьев, значит больше, чем жалость кроткого сердца; ибо, столь желанный среди моих врагов, каким я был из-за моего веселья в несчастье, я не был настолько тщеславен, чтобы думать, что имею вход через внутренние ворота благосклонности какой-либо женщины.
— Ты у нас уже три года, — вдруг сказал ее отец, передавая мне вино. «Как время пролетело! Сколько всего произошло! —
— Муж мадам Курналь заработал три миллиона франков, — сказал Долтер с сухой иронией и правдой.
Дюварни пожал плечами, напрягся; ибо, каким бы уклончивым ни было это предложение, он не хотел, чтобы его дочь услышала его.
— А Водрей наслал в Версаль жужжание пчел по поводу «Биго и компании», — добавил озорной сатирик.
Мадам Дюварни ответила заинтересованным взглядом, и взгляд сеньора остановился на его тарелке. Из этого я сразу понял, что сеньор знал о поступке губернатора и, может быть, советовался с ним, выступая против Биго. Если бы это было так, — как оказалось, — то он был в гнезде скорпионов, ибо кто из них пощадил бы его, Марина, Курналя, Риго, самого интенданта? Я думаю, он почувствовал, что я понял, потому что вскоре он поднял на меня глаза, и, хотя мы не выражали ничего в наших взглядах, я знал, что для него тоже была опасность. Таким, как он, мешали направо и налево в этой карьере мошенников и общественного зла.
«А наши люди стали нищими; бедные и голодные, они просят милостыню у дверей королевского склада. Он хорошо называется Ла-Фрипон, — сказала г-жа Дюварни с некоторой горячностью. ибо она всегда была щедра к беднякам и видела, как грабили поместья за поместьями, и крестьян-фермеров заставляли продавать зерно за бесценок, чтобы снова продать им по голодным ценам в Ла-Фрипонне. Даже сейчас Квебек был полон бедняков-пилигримов, просивших милостыню против суровой зимы и проклинающих своих грабителей.
Даже сейчас Квебек был полон бедняков-пилигримов, просивших милостыню против суровой зимы и проклинающих своих грабителей.
Долтер слишком любил копаться в сути вещей, чтобы не признать, что она говорила правду.
«Помпадур и Фрипонн!» Qu’est que cela, mon petit homme? «Les deux terribles, ma chère mignonne, Mais, c’est cela — La Pompadour et La Friponne!
Он сказал это с хладнокровной шутливостью и остроумием, на языке туземца, так что рассмешил всех нас, несмотря на наши взаимные опасения.
Затем он продолжил: «И король послал хор на представление, с глазами на качели, и не в силах остановить жужжание; и более того, не наполнить кошелек».
Мы все знали, что он имел в виду себя, и мы также знали, что в отношении денег он говорил правду; что, хотя он и заигрывал с Биго, он был беден, если не считать того, что зарабатывал за игорным столом и получал от Франции. Было то, что могло бы привязать меня к нему, если бы все было иначе; Всю свою жизнь я ненавидел грязную душу, и я предпочел бы в эти свои зрелые годы есть с разбойником, который берет свою жизнь в свои руки, чем со штатским, который грабит своего короля и бедняков короля и не имеет лучшего уловка, чем ложные слухи, и не лучший друг, чем плутоватый мошенник. Долтер не питал пламенной любви к Франции и мало во что верил; ибо он был из тех версальских водяных мух, которые не обращали внимания на то, что мир превратится в пепел, когда их огни погаснут. Как скоро станет ясно, он пришел сюда, чтобы разыскать меня и служить великой маркизе.
Долтер не питал пламенной любви к Франции и мало во что верил; ибо он был из тех версальских водяных мух, которые не обращали внимания на то, что мир превратится в пепел, когда их огни погаснут. Как скоро станет ясно, он пришел сюда, чтобы разыскать меня и служить великой маркизе.
Затем последовали еще подобные речи, и посреди всего этого, с цветком мира рядом со мной за этим столом, я вспомнил слова моей матери, прежде чем проститься с ней и отплыть из Глазго в Вирджинию.
«Имейте это в виду, Роберт». — сказала она, — что честная любовь — это то, что заставляет вас быть честным с самим собой. Ради него нужно жить, ради него сражаться и умирать. Да, будь честным в своей любви. Будь настоящим.»
И там я поклялся, сжав руки под столом, что Аликс будет моей женой, если наступят лучшие дни; когда я покончу с цитаделью, судом и пленом, если это возможно.
Вечер был уже далеко впереди, когда Долтер, поднявшись со своего места в гостиной, поклонился мне и сказал: «Если вам угодно, мсье?
Я тоже встал и приготовился идти. Было мало разговоров, но все мы продолжали играть весело. Когда я подошел, чтобы взять сеньора за руку, Долтер уже был вдали и разговаривал с мадам. — Стобо, — быстро и тихо сказал сеньор, — испытания предвещают нам обоим. Он кивнул в сторону Долтера.
Было мало разговоров, но все мы продолжали играть весело. Когда я подошел, чтобы взять сеньора за руку, Долтер уже был вдали и разговаривал с мадам. — Стобо, — быстро и тихо сказал сеньор, — испытания предвещают нам обоим. Он кивнул в сторону Долтера.
— Но мы благополучно пройдем, — сказал я.
— Мужайтесь и прощайте, — ответил он, когда Долтер повернулся к нам.
Мои последние слова были Аликс. Настал великий момент моей жизни. Если бы я мог сказать ей одну вещь вне пределов слышимости, я бы поставил все на кон. Она стояла у шкафа, очень тихо, странный блеск в глазах, новая, прекрасная твердость на губах. Я чувствовал, что не смею выглядеть так, как хотел бы, я боялся, что теперь не будет возможности сказать то, что я хотел бы. Но я медленно прошел в комнату с ее матерью. Когда мы это сделали, Долтер воскликнул и направился к окну, а сеньор и мадам последовали за ним. На стеклах загорелся красный свет.
Я перехватил взгляд Аликс и удержал его, быстро приближаясь к ней. Все спины были на нас. Я взял ее руку и внезапно прижал ее к своим губам. Она ахнула, и я увидел, как вздымается ее грудь.
Все спины были на нас. Я взял ее руку и внезапно прижал ее к своим губам. Она ахнула, и я увидел, как вздымается ее грудь.
— Я иду из тюрьмы в тюрьму, — сказал я. «Но я оставляю своего любимого тюремщика».
Она поняла. — Ваш тюремщик тоже пойдет. — ответила она с грустной улыбкой.
«Я люблю тебя! Я тебя люблю ! — настаивал я.
Она была очень бледна. «О, Роберт! — робко прошептала она; а затем: «Я буду смелым, я помогу тебе, и я не забуду. Храни тебя Бог».
Вот и все, потому что Долтер повернулся ко мне и сказал: «Они сделали из Ла Фрипонны факел, чтобы осветить вас в цитадели, мсье».
Мгновение спустя мы были снаружи, в пронзительном октябрьском воздухе, отряд солдат сопровождал нас, наши лица были обращены к высотам цитадели. Я оглянулся, снимая кепку. Сеньор и мадам стояли у двери, а я смотрел в окно, где стояла Аликс. Отражение далекого огня омывало стекло, и ее лицо сияло, глаза сияли, пристальные и очень серьезные. И все же, как она была храбра, потому что она подняла свой носовой платок, слегка встряхнула его и улыбнулась.
Словно салют предназначался ему, Долтер дважды выразительно поклонился, а затем мы шагнули вперед, большой огонь над Высотами освещал нас и торопил нас.
Мы почти не разговаривали, пока шли, хотя Долтер время от времени напевал в эфире «Помпадур и Фрипон». Когда мы подошли ближе, я сказал: — Вы уверены, что это Ла Фрипон, мсье?
— Это не так, — сказал он, указывая. » Видеть ! Небо было полно дрожащих искр, и пахло горелым зерном.
— Значит, один из амбаров, — добавил я, — а не сам Ла Фрипонн?
На это он кивнул в знак согласия, и мы двинулись дальше.
II.
«Что за дураки». — сказал вскоре Долтер. — Чтобы сжечь и хлеб, и печь! Если бы они были менее честными в мире мошенников, бедные кроты!
Подойдя ближе, мы увидели, что сама Ла Фрипонн в безопасности, но один склад обречен, а другому угрожает опасность. Улицы были полны народа, и тысячи возбужденных крестьян, рабочих и матросов кричали: «Долой дворец! Долой Биго!
Мы прибыли на место происшествия в самый критический момент. Солдат губернатора не было видно, но выше по Высотам мы могли слышать ровный топот пехоты генерала Монкальма, когда они приближались. Где люди Биго? Горстка — одна рота — выстроилась перед Ла Фрипонном, лениво опираясь на свои мушкеты, глядя, как горит большой амбар, и наблюдая, как Ла Фрипонну угрожает обезумевшая толпа и огонь. Перед дворцом интенданта не было ни солдата, ни света ни в одном окне.
Солдат губернатора не было видно, но выше по Высотам мы могли слышать ровный топот пехоты генерала Монкальма, когда они приближались. Где люди Биго? Горстка — одна рота — выстроилась перед Ла Фрипонном, лениво опираясь на свои мушкеты, глядя, как горит большой амбар, и наблюдая, как Ла Фрипонну угрожает обезумевшая толпа и огонь. Перед дворцом интенданта не было ни солдата, ни света ни в одном окне.
«Что это за странный трюк Биго? — сказал Долтер, задумавшись.
Губернатора, как мы знали, в тот день не было в городе. Но где был Биго? По слову Долтера мы двинулись к дворцу, солдаты удерживали меня среди них. Мы не были и в сотне футов от высоких ступеней, когда двое ворот внезапно распахнулись, из них быстро выкатилась карета и бросилась в толпу. Первым я узнал кучера, Биго, старого одноглазого солдата, чрезвычайно нервного и преданного своему хозяину. Толпа расступилась направо и налево. Внезапно карета остановилась, и Биго встал, скрестив руки на груди, оглядываясь с презрительной улыбкой и не говоря ни слова. В одной руке он держал бумагу.
В одной руке он держал бумагу.
Здесь было не менее двух тысяч вооруженных и безоружных крестьян, больных нищетой и угнетением, в присутствии своего беззащитного тирана. Один выстрел, один удар камня, один взмах ножа — до конца бесстыдного грабежа. Но на это дело рука не поднялась. Рев голосов стих, — он ждал этого, — и тишину нарушал только треск горящего дома, топот солдат Монткальма на Горной улице и звон соборного колокола. Мне показалось странным, что как раз в тот момент, когда Биго вышел, дикий лязг сменился веселым звоном.
Постояв немного, оглядевшись, его глаза остановились на Долтере и на мне (мы были лишь на небольшом расстоянии от него), Биго сказал громким голосом: «Что вам нужно от меня? Вы думаете, меня могут растрогать угрозы? Вы наказываете меня, сжигая свою еду, что является вашей единственной надеждой, когда англичане стоят у наших дверей? Дураки! Как легко я мог направить на вас свою пушку и своих людей! Ты думаешь напугать меня. Кто я по-твоему ? Я бостонец или англичанин? Вы — революционеры! Тш! Вы дикие псы без вожака. Вы хотите, чтобы вы могли доверять; вам нужен не трус, а тот, кто боится вас не в самом отчаянии. Что ж, я буду вашим лидером. Я тебя не боюсь и не люблю, ибо чем ты заслужил мою любовь? Неблагодарностью и клеветой? Кому покровительствует король? Франсуа Биго. Кого слушает Великая Маркиза? Франсуа Биго. Кто стоит твердо, в то время как другие трепещут, чтобы их власть не прошла завтра? Франсуа Биго. Кто еще посмеет вызвать революцию, эту опасность?»
Вы хотите, чтобы вы могли доверять; вам нужен не трус, а тот, кто боится вас не в самом отчаянии. Что ж, я буду вашим лидером. Я тебя не боюсь и не люблю, ибо чем ты заслужил мою любовь? Неблагодарностью и клеветой? Кому покровительствует король? Франсуа Биго. Кого слушает Великая Маркиза? Франсуа Биго. Кто стоит твердо, в то время как другие трепещут, чтобы их власть не прошла завтра? Франсуа Биго. Кто еще посмеет вызвать революцию, эту опасность?»
— его рука тянется к огню, — кто, как не Франсуа Биго? Он сделал паузу на мгновение и, взглянув на предводителя солдат Монкальма на высотах, махнул ему в ответ; затем он продолжал: —
«А сегодня, когда я готов сообщить вам большие новости, вы играете в игру бешеной собаки; вы уничтожаете то, что я собирался дать вам в час опасности, когда пришли эти англичане. Я заставил тебя немного пострадать, чтобы ты мог тогда жить. Только сегодня, из-за нашей великой и славной победы, — он опять помолчал. Звон колоколов стал громче. Далеко на высотах мы слышали зов горнов и бой барабанов; и вот я увидел весь крупный план, глубокую драматургическую схему. Он утаил известие о победе, чтобы объявить о ней, когда она больше всего повернется к его собственной славе. В самом деле, впервые получив известие, он скрывал его от губернатора до тех пор, пока не смог, объявив об этом, обратить его в свою пользу. Возможно, он не рассчитывал на поджог склада, но теперь это скажется в его пользу. Он был невысокого роста, но с достоинством выпрямился и продолжал презрительным тоном:0008
Он утаил известие о победе, чтобы объявить о ней, когда она больше всего повернется к его собственной славе. В самом деле, впервые получив известие, он скрывал его от губернатора до тех пор, пока не смог, объявив об этом, обратить его в свою пользу. Возможно, он не рассчитывал на поджог склада, но теперь это скажется в его пользу. Он был невысокого роста, но с достоинством выпрямился и продолжал презрительным тоном:0008
«Ради нашей славной победы я решил рассказать вам обо всех своих планах и, сочувствуя вашей беде, разделить между вами по наименьшей цене, чтобы все могли заплатить, зерно, которое теперь палит до звезд».
Из народа вырвался стон, а затем кто-то с высот, а не из толпы, пронзительно закричал: «Что за ложь в этой газете, Франсуа Биго?
Я посмотрел вверх, как и толпа. На вершине большой скалы стояла женщина, на ней висела красная мантия, волосы распущены по плечам, палец указывал на интенданта. Биго только взглянул вверх, затем разгладил бумагу.
— Мои новости заставят вас упасть на колени, — сказал он людям ясным, но менее уверенным голосом, потому что я видел, что женщина потревожила его. «Вы попадете на молитвы о прощении. Его христианское величество торжествует над Огайо. Англичане убиты тысячами, и их генерал вместе с ними. Разве ты не слышишь звон колоколов в церкви Богоматери Побед? и еще — слушайте! С высоты грянул с другой стороны пушечный выстрел, потом еще и еще. При этом люди громко закричали, и многие подбежали к карете Биго, потянулись, чтобы коснуться его руки, и призвали его благословения.
«Вы попадете на молитвы о прощении. Его христианское величество торжествует над Огайо. Англичане убиты тысячами, и их генерал вместе с ними. Разве ты не слышишь звон колоколов в церкви Богоматери Побед? и еще — слушайте! С высоты грянул с другой стороны пушечный выстрел, потом еще и еще. При этом люди громко закричали, и многие подбежали к карете Биго, потянулись, чтобы коснуться его руки, и призвали его благословения.
«Смотрите, спасите ли вы другие зернохранилища, — настаивал он, — тогда не забудьте благословить Ла Фрипон в своих молитвах!
Это была прекрасная актерская игра, и все же он излил такое презрение в последние слова, что я подумал, что люди, должно быть, возненавидели его снова. Но вместо этого они здорово повеселились. Затем снова с Высот донесся женский голос, такой пронзительный, что толпа повернулась к ней.
«Франсуа Биго — лжец и предатель!» воскликнула она. «Берегитесь Франсуа Биго! Бог изгнал его».
Биго поднял взгляд, и его лицо помрачнело; но в настоящее время он повернулся, и дал знак кому-то возле дворца. Двери двора распахнулись, и оттуда выходили отряд за отрядом солдат. Через мгновение они вместе с людьми были заняты тем, что несли воду, чтобы полить находящуюся под угрозой складскую площадку. Хорошо, что ветер был с ними, иначе и он, и дворец сгорели бы в ту ночь.
Двери двора распахнулись, и оттуда выходили отряд за отрядом солдат. Через мгновение они вместе с людьми были заняты тем, что несли воду, чтобы полить находящуюся под угрозой складскую площадку. Хорошо, что ветер был с ними, иначе и он, и дворец сгорели бы в ту ночь.
Интендант все еще стоял в своей карете, наблюдая и слушая приветствия людей. Наконец он поманил Долтера и меня. Мы оба подошли.
— Долтер, мы искали тебя за ужином, — сказал он. — Капитан Стобо, — он кивнул мне, — заблудился среди нижних юбок? Он знает фокус с чашкой и блюдцем. Между глотком и щелчком он высасывал секреты из нашего гарнизона, — шпион там, где был солдатом, как мы думали. Вы когда-то носили меч, капитан Стобо.
«Если губернатор даст мне отпуск. Я бы не только носил, но и пользовался бы, ваше превосходительство, известно где, — сказал я.
«Широко говоря, капитан Стобо. Мне сказали, что так делают в Вирджинии.
«И в Гаскони, ваше превосходительство».
Долтер откровенно расхохотался, ибо говорили, что у Биго, когда он был мальчишкой, была сварливая жена-гасконка, которую он разрешил отправить на небеса раньше срока. Я увидел, как рот интенданта сердито дернулся.
Я увидел, как рот интенданта сердито дернулся.
— Ну, — сказал он, — у тебя есть язык; посмотрим, есть ли у тебя желудок. Ты томился с девушками; у вас будет шанс выпить с Франсуа Биго. Теперь, если ты посмеешь, когда мы напьемся до первого крика петухов, если ты еще будешь на ногах, ты будешь драться с кем-нибудь из нас, предварительно дав достаточно повода».
— Надеюсь, ваше превосходительство, — ответил я с оттенком тщеславия. «У меня еще есть живот и запястье. Я выпью за петушиный крик, если хотите. А если мой меч окажется сильнее, что? —
— В том-то и дело, — сказал он. — Ваш англичанин не любит драться ради драк, Долтер; у него должны быть конфеты для этого. Ну вот: если твой меч и чрево окажутся сильнее, ты пойдешь своим путем, куда пожелаешь. Там !
Если бы я только мог видеть хотя бы малую толику хитрости этой парочки дьявольских ремесленников! У них обоих была цель причинить мне зло, и ни один из них не был доволен тем, что меня заперли только в цитадели. Там была более глубокая игра. Я отдаю им должное: ловушка была искусной, и в те времена, когда на кону стояли великие дела, стратегия тут и там заменяла открытый бой. Для фанатика я должен был стать оружием против другого; за Долтера, против себя.
Там была более глубокая игра. Я отдаю им должное: ловушка была искусной, и в те времена, когда на кону стояли великие дела, стратегия тут и там заменяла открытый бой. Для фанатика я должен был стать оружием против другого; за Долтера, против себя.
Что за чайку они меня, должно быть, посчитали! Я мог бы знать, что с моими потерянными документами по пути во Францию они должны крепко держать меня здесь, пока меня не судят, и не позволить мне бежать. Но мне надоело ничего не делать, с ужасом думать о долгой зиме в цитадели, и я ловил по малейшей соломинке свободы.
— Капитан Стобо хотел бы провести пару часов у себя на квартире, прежде чем присоединиться к нам во дворце, — сказал интендант и, кивнув мне, повернулся к своему кучеру. Лошади закружились, и через мгновение огромные двери распахнулись, и он прошел внутрь под аплодисменты, хотя кое-где в толпе слышалось шипение, потому что Алая Женщина произвела впечатление. Люди интенданта попытались проследить эти звуки, но никого не нашли. Снова взглянув на Хайтс, я увидел, что женщина ушла. Долтер заметил мой взгляд и вопросительное выражение моего лица и сказал:0008
Снова взглянув на Хайтс, я увидел, что женщина ушла. Долтер заметил мой взгляд и вопросительное выражение моего лица и сказал:0008
«Несколько неудачных боев с Intendantat Chateau Bigot, а затем лихорадка, приведшая к своего рода безумию: так ползет история, рассказанная врагами Bigot».
Как раз в этот момент я почувствовал, как мужчина толкает меня, проходя мимо. Один из солдат сделал ему укол, и он обернулся. Я поймал его взгляд, и он что-то сверкнул для меня. Это был парикмахер Вобан, который брил меня каждый день в течение нескольких месяцев, когда я впервые приехал сюда, когда моя рука одеревенела от раны, полученной в бою с французами на Огайо. Прошел целый год с тех пор, как я встретил его, и меня поразила перемена в его лице. Он стал намного старше; его округлость исчезла. У нас было много разговоров вместе; он помогал мне с французским, я слушал рассказы о его молодости во Франции и более поздний рассказ о скромной любви и о доме, который он обустраивал для своей Матильды, крестьянской девушки очень красивой, как мне сказали , но которого я никогда не видел.
Я вспомнил в этот момент, когда он стоял в толпе и смотрел на меня, стопки белья, которое он купил в Ste. Анны де Бопре и серебряный кувшин, который его дед получил от герцога де Валуа за заслуги. Много раз мы обсуждали кувшин и документ и перебирали белье, то разговаривая по-французски, то по-английски; ибо во Франции много лет назад он служил камердинером английского офицера при дворе короля Людовика. Но мое удивление было велико, когда я узнал, что этот английский джентльмен был не кем иным, как лучшим другом, который у меня когда-либо был, после моих родителей и моего дедушки. Он был связан с сэром Джоном Годриком такими же крепкими узами привязанности, как и я. Более того, благодаря секретному письму, которое я отправил Джорджу Вашингтону, который был тогда таким же хорошим британцем, как и я, я смог сделать так, чтобы его младший брат , военнопленный, освобожденный.
Теперь я почувствовал, что он хочет мне что-то сказать. Но он отвернулся и исчез в толпе. Я мог бы иметь некоторую подсказку, если бы знал, что он прятался за каретой интенданта, пока меня приглашали на ужин. Я и не догадывался тогда, что между ним и Багряной Женой, которая бранила Биго, что-то было.
Я и не догадывался тогда, что между ним и Багряной Женой, которая бранила Биго, что-то было.
Вскоре я был у себя на квартире, солдаты стояли у моей двери и один в моей комнате; Долтер ушел к себе и пообещал зайти за мной в течение двух часов. Мне ничего не оставалось делать, кроме как сложить в сумку самое необходимое, свернуть свой тяжелый плащ, надежно сложить трубки и две добротные пачки табака, которые должны были стать моим главным утешением на многие долгие дни, и написать несколько писем — одно губернатору Динвидди, одно Джорджу Вашингтону и одно моему компаньону в Вирджинии, рассказывая им о своих новых несчастьях и умоляя их прислать мне деньги, которые, хотя и бесполезны в моем плену, будут важны в моей жизни. моя борьба за жизнь и свободу. Я не писал подробно о лучевом состоянии, потому что не был уверен, что лучевые буквы когда-либо попадут за пределы Квебека. Было только два человека, которым я мог доверить это дело. Одним из них был земляк Кларк, корабельный плотник, который, чтобы спасти свою шею и спасти свою жену и ребенка, обратился в католика, но который варварски ненавидел всех французов в душе, помня двух своих детей, зарезанных на его глазах. Другой был Вобан. Я знал, что хотя Вобан может и не действовать, он не предаст меня. Но как добраться до любого из них? Было ясно, что я должен ждать своего шанса.
Другой был Вобан. Я знал, что хотя Вобан может и не действовать, он не предаст меня. Но как добраться до любого из них? Было ясно, что я должен ждать своего шанса.
Я написал еще одно письмо, краткое, но жизненное, в котором я умолял самую милую девушку на свете не беспокоиться из-за меня; что я доверился своей звезде и своей невиновности, чтобы убедить своих судей; и умолял ее, если она сможет, послать мне сообщение в цитадель. Я сказал ей, что хорошо знаю, как это будет тяжело, потому что ее мать и ее отец теперь не будут благосклонно относиться к моей любви. Но я доверился всему времени и провидению. Я также сказал так весело, но так серьезно, как только мог, что ради ее спокойствия ее интересы могли бы быть лучше сосредоточены в другом месте, но я не могу заставить себя, даже ради этого, не исполнить тысячи желаний моего сердца. Оттого что пропасть между дружбой наших стран была велика, настолько глубже была моя любовь, перекинувшая ее мостом, и тем более должна была она быть укреплена, что в более счастливые времена, когда, может быть, Георгиевский флаг, а не золотые лилии , должны парить над цитаделью, наша любовь могла бы указать путь к смешению наших рас к взаимному миру. Теперь, когда я думаю об этом, я мог бы оставить эти последние напрасные вещи невысказанными. Но на самом деле такого рода пророчество было утешением, и у меня было достаточно оснований надеяться на наш окончательный триумф в печали наших последних горьких неудач. И, как оказалось в конце концов, я пускал пузыри не для того, чтобы очаровать любящий глаз, а зажигал сторожевой огонь для сердца, которое должно было плыть к порту Дома по бурному морю.
Теперь, когда я думаю об этом, я мог бы оставить эти последние напрасные вещи невысказанными. Но на самом деле такого рода пророчество было утешением, и у меня было достаточно оснований надеяться на наш окончательный триумф в печали наших последних горьких неудач. И, как оказалось в конце концов, я пускал пузыри не для того, чтобы очаровать любящий глаз, а зажигал сторожевой огонь для сердца, которое должно было плыть к порту Дома по бурному морю.
Я запечатал письма, сунул их в карман и сел покурить и подумать, ожидая Долтера. Дежурному солдату, которого я сначала не заметил, я предложил теперь трубку и стакан вина, которые он принял довольно грубо, но с удовольствием, если судить по его преданности им.
Вскоре, совершенно не относясь к делу, он резко сказал: — Если бы она пришла немного раньше — ахо! »
На мгновение я не мог понять , что он имел в виду ; а потом я увидел.
– Дворец был бы сожжен, если бы девушка в красном пришла раньше, а? » Я попросил. «Она бы подстрекала людей?
«Она бы подстрекала людей?
— И Биго тоже, может быть, сгорел, — ответил он.
«Огонь и смерть — а?
Я предложил ему еще одну трубку табака. Он выглядел сомнительным, но согласился.
«Аго! А этот Вобан, он бы руку приложил, — прорычал он.
Я стал видеть больше света.
«Ее заперли в замке Биго — железная рука и стальной замок — кто знает остальное! Но Вобан был на всегда, — добавил он на мгновение.
Все было ясно. Алая Женщина была Матильдой. Вот и кончился маленький роман Вобана, тонкого полотна из св. Анн де Бинпре и серебряный кувшин для свадебного вина. Я видел или чувствовал, что в лице Вобана я мог бы найти себе сообщника, если бы я взвалил свое тяжелое дело на плечи Биго.
— Не понимаю, почему она осталась с Биго, — осторожно сказал я.
«Аго! Сломай собаке ногу, она не может охотиться за костями — mais , non ! Боже, какой ты глупый англичанин!
«Почему интендант не запирает ее сейчас? Она опасна для него. Ты помнишь, что она сказала? —
Ты помнишь, что она сказала? —
— Тоннерре , вы увидите завтра, — ответил он. «Теперь все овцы идут блеять в колокольчик. Фанатик — фанатик — фанатик! Нет ничего, кроме Биго! Но, бля! Губернатор Водрей — великий человек, а Монкальм — ах! сын Магомета! Йон увидит. Теперь они пляшут под свисты Биго; завтра он надежно запрёт её, если только кто-нибудь не вмешается ей на помощь. До сегодняшнего вечера она никогда не говорила о нем перед всем миром — но бедняжка, дурак, ходит грустный и дикий. Сегодня она упустила свой шанс — ах!
«Почему ты не с солдатами Монкальма? » Я попросил. — Он тебе больше нравится.
«Я был с ним, но мое время вышло, и я ушел от него к Биго. Пиш! Я оставил его для Биго, для милиции! Он поднес большой палец к носу и растопырил пальцы. Меня снова осенило. На самом деле он все еще был с губернатором, хотя и служил на стороне Биго — своего рода стража интенданта.
Я увидел свой шанс. Если бы я только мог уговорить этого парня привести мне Вобана! До того, как я должен был отправиться в интенданс, оставался еще час.
Я вызвал самые искренние взгляды, на которые был способен, и прямо сказал ему, что хочу, чтобы Вобан передал для меня письмо сеньору Дюварне. При этом он навострил ухо и покачал кустистой головой, яростно поглаживая усы.
«Аго! » он сказал.
Я знал, что должен поставить на кон, если скажу, что это письмо для мадемуазель Дюварне, но я также знал, что если он все еще будет человеком губернатора на жалованье Биго, то поймет отношения сеньора с губернатором. А женщина в случае с солдатом — это кое-что значит. Поэтому я сказал, что это для нее. Кроме того, у меня не было другого средства, кроме как найти друга среди моих врагов, если бы я мог, пока еще был шанс. С меня словно сняли груз, когда я увидел, как его рот и глаза широко раскрылись в громком беззвучном смехе, который закончился безмолвным «9».0329 аго ! Вот я дал ему еще один бокал вина. Прежде чем взять его, он снова широко раскрыл рот и хлопнул себя по ноге. Выпив, он сказал: « Пум — что хорошего? Тебя повесят за шпиона».
— Эта веревка еще не готова, — ответил я. — Надеюсь, сначала я завяжу красивый узел на другой веревочке.
« Будь ты проклят, если у тебя нет духа! » сказал он. — Я знаю этого сеньора Дюварни. а я знаю его сына прапорщика — ванг , какая же он селитра! А мадемуазель — превосходно, превосходно; и лицо, такое лицо, и сиденье, как пиявки в седле. А ты, британский офицер, мяукнул, чтобы пинать себя пятками до дня виселицы! Так забавно, моя дорогая — аго!
— А Вобана не приведешь ? » Я сказал.
— Подстричься сегодня к ужину — а, вот так?
Сказав это, он выпятил свои красные щеки с широко раскрытыми мальчишескими глазами, раскрыл губы в еще одном беззвучном смехе и приложил палец к носу. Я видел, что за его удивительной невинностью взгляда и его крестьянской открытостью скрывались великая проницательность и ум — восхитительный человек для Водрейля, так же восхитительный для меня. Я хорошо знал, что если бы я попытался подкупить его, он бы меня выследил, а если бы я сделал попытку бежать, он бы застрелил меня без промедления. Но дама, — это ему понравилось; и то, что она была дочерью сеньора Дюварне, довершило все остальное.
Но дама, — это ему понравилось; и то, что она была дочерью сеньора Дюварне, довершило все остальное.
— Да, да, — сказал я, — надо быть хорошо устроенным душой и телом, когда ужинаешь с его превосходительством и господином Долтером.
«Известковое внутри и меловое снаружи», — радостно возразил он. — Но месье Долтеру известь не нужна, потому что у него нет души. Нет, клянусь милой Святой Элоизой! Добрый Бог не сотворил его. Дьявол расхохотался, и этот смех превратился в Мюзье Долтера. Но смелый! — в его теле нет ударного пульса.
«Ты пошлешь за Вобаном — сейчас? — тихо спросил я.
Он говорил, прислонившись к двери. Он потянулся и поставил стакан на полку, затем повернулся и открыл дверь, его лицо стало мрачным. «Подойди сюда, Лабрук! » он назвал ; а когда солдат подошел, он с презрением выпалил: «Вот этот английский капитан не может пойти на ужин без ножниц Вобана, чтобы подрезать его. Ступай за ним, а то я лучше послушаю теленка на скотном дворе, чем это хныканье «мсье Воана». раз начал уходить. Потом он закрыл дверь, снова повернулся ко мне и сказал более серьезно: — Сколько еще времени осталось до прихода мсье? — имеется в виду Долтер.
раз начал уходить. Потом он закрыл дверь, снова повернулся ко мне и сказал более серьезно: — Сколько еще времени осталось до прихода мсье? — имеется в виду Долтер.
«По крайней мере, час», — сказал я.
«Хорошо», — ответил он, а затем закурил, пока я сидел и думал.
Прошло около часа, прежде чем мы услышали шаги снаружи; потом постучали, и Вобана впустили.
— Быстро, мсье, — сказал он. — М-нсье почти идет за нами по пятам.
«Это письмо, — сказал я, — мадемуазель Дюварни», и я вручил четыре письма: ей и те губернатору Динвидди, Джорджу Вашингтону и моему компаньону.
Он быстро сунул их в пальто, кивая. Солдат, — я еще не назвал его имени, — Гахорд, не знал, что в руки Вобана перешло не одно.
— Снимите пальто, мсье, — сказал Вобан, выхватывая ножницы, отбрасывая в сторону кепку и скатывая фартук. — М-нсье стоит у дверей.
Я снял пальто, в мгновение ока оказался в кресле, а он тихо подрезал меня, когда рука Долтера повернула ручку двери.
«Осторожно — сегодня ночью! — прошептал Вобан.
«Приходи ко мне в тюрьму, если можешь, — сказал я. — Помни своего брата!
Его губы дернулись. — Мсье, — сказал он, — я приеду, если смогу. И эти письма будут доставлены». Это он сказал мне на ухо, когда Долтер вошел и выступил вперед.
« Клянусь жизнью ! — выпалил он.
«Эти английские кавалеры! Они идут в тюрьму свернувшись калачиком и замаскированные Вобаном. Вобан , — имя при дворе Короля, и оно украшает парикмахера. Кто тебя звал, Вобан?
«Моя мать, с помощью кюре, мсье».
Долтер помолчал, понюхав нюхательный табак у носа, и лениво ответил: «Я не сказал: «кто тебя звал Вобан ?» Вобан, но кто звал тебя сюда, Вобан?»
Я заговорил тогда раздраженно целеустремленно: «Что бы вы хотели, сударь? В цитадели мясники получше, чем парикмахеры. Я послал за ним».
Он пожал плечами и подошел к Вобану. — Повернись, мой Вобан, — сказал он. « Вобан — и такая цифра! колено, спина такая!
Затем, пока мое сердце остановилось, он выставил палец и коснулся груди парикмахера. Если он коснется букв! Я был готов схватить их — но спасет ли это их? Дважды, трижды палец ткнул Вобана в грудь, словно добавляя акцента к его словам. «В Квебеке вы неуместны, месье ле Вобан. Однажды оса попала в соты и умерла».
Если он коснется букв! Я был готов схватить их — но спасет ли это их? Дважды, трижды палец ткнул Вобана в грудь, словно добавляя акцента к его словам. «В Квебеке вы неуместны, месье ле Вобан. Однажды оса попала в соты и умерла».
Я знал, что он намекает на недовольство парикмахера судьбой бедной Матильды. Что-то странное и дьявольское мелькнуло в глазах человека, и он с горечью выпалил: «Медоносая пчела попала в осиное гнездо и умерла».
Я подумал о Алой Женщине на холме.
Вобан на мгновение посмотрел, как будто он может сделать что-то дикое. Его дух, его чертовщина понравились Долтеру, и он рассмеялся. «Кто бы мог подумать, что у нашего Вохана такой ум? Профессия парикмахера обоюдоострая. Бритвы должны быть в моде в Версале».
Потом он сел, а Вобан мило потрогал мою персону, а я подбадривал себя мыслью, что письма в кармане парикмахера в целости и сохранности. Так прошло несколько минут, в течение которых до нас отчетливо донеслись колокольный звон, крики народа, бой барабанов и звон рожков.
Через полчаса, по пути во дворец интенданта, мы услышали пение Бенедикта в церкви Богоматери Побед, когда мы проходили мимо, — сотни преклонили колени снаружи и откликнулись на пение, которое пели внутри: —
» Чтобы мы были спасены от наших врагов и от рук всех, кто нас ненавидит.»
На углу здания, мимо которого мы прошли, немного в стороне от толпы, я увидел одинокую фигуру в плаще. Я отчетливо слышал слова пения, следующего за нами: —
« Чтобы мы, избавившись от рук врагов наших, могли служить Ему без страха».
И тогда из темного угла донесся меланхоличный высокий голос: —
« Чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной и направить ноги наши на путь мира».
Приглядевшись, я увидел, что это была Матильда. «Аго! — раздался позади меня голос Габора.
Долтер улыбнулся, когда я повернулся и попросил минутку, чтобы поговорить с ней,
«Помолиться с пропавшим ангелом и поужинать с лейтендантом, и все в одну ночь, — либеральный вкус, мсье; но кто останется добрым самаритянином!
Они стояли поодаль, и я подошел к ней и сказал: «Мадемуазель, Матильда, вы меня не знаете?
Ее рассеянный взгляд вспыхнул, когда какой-то маленький призрак из Дома Памяти пронесся к ее мозгу и сказал ей, кто я такой.
«Было на свете двое влюбленных, — сказала она, — Богородица забыла их, и пришел дьявол. Я Багряная Женщина, — продолжала она. «Я сделал эту красную одежду из завес злого места».
Бедняжка! Моя собственная беда показалась ей тогда песчинкой среди звезд. Я взял ее руку и держал ее, снова говоря: «Ты меня не знаешь? Подумай, Матильда!
Я не был уверен, что она когда-либо видела меня, знала меня, но я думал, что это возможно; поскольку в качестве заложника я был замечен в Квебеке, и Вобан, без сомнения, указал ей на меня. Свет вырвался из ее синяка под глазом, а затем она сказала, приложив палец к губам: «Скажи всем любовникам, чтобы они прятались. Я видел сотню Франсуа Биго.
Я смотрел на нее, ничего не говоря, — я не знал, что сказать. Вскоре ее взгляд остановился на моем, и ее интеллект окреп. — Ты тоже арестант, — сказала она. «Но они не убьют тебя: они будут держать тебя, пока кольцо огня не вырастет в твоей голове, и тогда ты сделаешь свою багряную одежду и выйдешь, но никогда не найдешь Его, никогда. Сначала Бог спрятался, а потом Он прячется. . . . Оно прячет, то, что вы потеряли — Оно прячет, и вы не можете найти Его снова. Вы ходите на охоту, на охоту, но не можете Его найти».
Сначала Бог спрятался, а потом Он прячется. . . . Оно прячет, то, что вы потеряли — Оно прячет, и вы не можете найти Его снова. Вы ходите на охоту, на охоту, но не можете Его найти».
Мое сердце сжалось от боли. Я понял ее. Теперь она совсем не знала своего возлюбленного. Если бы Аликс и ее мать в поместье могли заботиться о ней, подумал я. Но увы ! что я мог сделать ? Было бесполезно просить ее пойти в поместье; она бы не поняла.
Быть может, в расстроенный разум приходят вспышки озарений, озарений и прорицаний, больших, чем дано здравомыслящему, ибо она вдруг сказала шепотом, касаясь меня нервным пальцем: «Я пойду и скажу ей, где спрятаться». . Они не найдут ее. Я знаю лесную тропинку к поместью. Тише! у нее будет все, что у меня есть, кроме алой мантии. Она показала мне, где растут майские яблоки. Иди, — она мягко оттолкнула меня, — иди в свою тюрьму и молись Богу. Но Франсуа Биго нельзя убить, он дьявол. Тогда она сунула мне в руки деревянный крестик, который она взяла у многих других на своем поясе. «Если ты наденешь это, огненное кольцо не будет расти», — сказала она. «Я пойду лесной дорожкой и дам ей тоже. Она будет жить со мной: я раскину кедровые ветки и разведу огонь. Она будет цела. оборотни повсюду!» Она на мгновение приложила пальцы к моим губам, а затем, повернувшись, тихонько побрела к реке Сент-Чарльз.0008
«Если ты наденешь это, огненное кольцо не будет расти», — сказала она. «Я пойду лесной дорожкой и дам ей тоже. Она будет жить со мной: я раскину кедровые ветки и разведу огонь. Она будет цела. оборотни повсюду!» Она на мгновение приложила пальцы к моим губам, а затем, повернувшись, тихонько побрела к реке Сент-Чарльз.0008
Насмешки Долтера вернули меня к себе.
« Вот вам и бусы аддледа ; теперь о чашах грешного человека, — сказал он.
III.
Когда я вместе с Долтером вошел во дворец интенданта, я испытал странное чувство восторга. Настроение мое необъяснимо поднялось, и мне казалось, что наступила праздничная ночь, и дневной долг закончился, настал час игры. Какой-то огонь вдруг заиграл в моих венах, и у меня появилась редкостная легкость на сердце. Должно быть, мне было бы стыдно за это тогда, да и теперь, если бы я не был уверен, что это какая-то непрошеная работа органов чувств. Я верю, что наступают времена, когда в нас переходят чувства, чуждые нашей воле. Мы думаем, что должны чувствовать то или иное, приспосабливая наш дух к событиям, и вот! где мы думали оплакивать, мы смеемся; где мысль о горячке остывает; танец, где думали тащить на себе тяжелые тяжести жизни. Здесь я был со всеми возможными признаками, чтобы показать себя в тяжести, с тенями позади меня и впереди, больной ради моей страны и для себя, отказавшись от единственного заложника моей судьбы — меча — перебивая его почти в главном стане моих врагов . Может быть, милостивый Дух видит, как, оставшись одни, мы должны были бы споткнуться и заблудиться в собственном унынии, и таким образом дает нам новый характер, соответствующий нашим нуждам. Или дело в том, что, когда определенные великие события посылают пробуждение в самые отдаленные уголки нашего существа, изначальные извращения в нас — зараза сатанинская и неизлечимая — также возникают и на мгновение развлекаются рядом с пробужденными глашатаями спящих добродетелей? ? Помню, что у большой двери я обернулась и улыбнулась развалинам амбара, и вдохнула воздух, наполненный запахом горелой кукурузы — народного хлеба; что я видел стариков и старух, не тронутых вестью о победе, дрожащих от холода даже у этой огромной печи и сварливо бормочущих от голода, и не сказал: «Бедные души! что на время как будто ушла сила чувствовать свои несчастья, и на меня нашло тяжелое, легкое равнодушие.
Мы думаем, что должны чувствовать то или иное, приспосабливая наш дух к событиям, и вот! где мы думали оплакивать, мы смеемся; где мысль о горячке остывает; танец, где думали тащить на себе тяжелые тяжести жизни. Здесь я был со всеми возможными признаками, чтобы показать себя в тяжести, с тенями позади меня и впереди, больной ради моей страны и для себя, отказавшись от единственного заложника моей судьбы — меча — перебивая его почти в главном стане моих врагов . Может быть, милостивый Дух видит, как, оставшись одни, мы должны были бы споткнуться и заблудиться в собственном унынии, и таким образом дает нам новый характер, соответствующий нашим нуждам. Или дело в том, что, когда определенные великие события посылают пробуждение в самые отдаленные уголки нашего существа, изначальные извращения в нас — зараза сатанинская и неизлечимая — также возникают и на мгновение развлекаются рядом с пробужденными глашатаями спящих добродетелей? ? Помню, что у большой двери я обернулась и улыбнулась развалинам амбара, и вдохнула воздух, наполненный запахом горелой кукурузы — народного хлеба; что я видел стариков и старух, не тронутых вестью о победе, дрожащих от холода даже у этой огромной печи и сварливо бормочущих от голода, и не сказал: «Бедные души! что на время как будто ушла сила чувствовать свои несчастья, и на меня нашло тяжелое, легкое равнодушие. Может ли одна часть души человека онеметь и отступить, а другая, предназначенная не для действия, а для искушения, выползти и проказничать, как эльфийский школьник? Это выше моего понимания, ибо я был и всегда был человеком больше действия и чувства, чем медитации, и я изложил их здесь лишь для того, чтобы показать, что не в моей воле было поступать так, как я поступал, и что это выходит за рамки моего понимания. .
Может ли одна часть души человека онеметь и отступить, а другая, предназначенная не для действия, а для искушения, выползти и проказничать, как эльфийский школьник? Это выше моего понимания, ибо я был и всегда был человеком больше действия и чувства, чем медитации, и я изложил их здесь лишь для того, чтобы показать, что не в моей воле было поступать так, как я поступал, и что это выходит за рамки моего понимания. .
Ибо это правда, что я вошел в большой обеденный зал интенданта и увидел длинный стол с сотнями свечей, кувшинами и кувшинами с вином, и лица стольких праздных, беспечных джентльменов, приглашающих на попойку. , с манерой,
Я полагаю, столь же безрассудной и бойкой, как их собственные. И я продолжал в том же духе, хотя и видел, что это не то, что они искали. Я не сразу понял, кто там, но вскоре увидел вдали от себя лицо Жюста Дюварни, брата моей милой Аликс, человека лет двадцати или около того, слывшего диким, ни о каком дурном я никогда не слышал, и за вспыльчивый характер. Состоял на службе у губернатора, прапорщик. Он мало бывал дома с тех пор, как я приехал в Квебек, поскольку до прошлого года служил на службе у губернатора Монреаля. Мы поклонились, но он не собирался подходить ко мне, и интендант почти тотчас вовлек меня в городские сплетни; внезапно, однако, расходятся по некоторым вопросам общественной тактики и гражданского управления. Он очень удивил меня, потому что, хотя я знал его храбрым и способным, я всегда думал о нем иначе, как об искусном политике и слуге короля, тиране и развратнике. Я мог бы догадаться по этой самой сцене за несколько часов до этого, что он широко и глубоко знает человеческую природу и презирает ее; в отличие от Долтера, который обладал более острым умом, был более утонченным даже в зле и, зная мир, больше смеялся над ним, чем презирал его, что было признаком большего ума. И в самом деле, несмотря на все причины, по которым я ненавидел Долтера, справедливо будет сказать, что он обладал от природы всеми великими дарами, хотя они были неправильно использованы и расстроены.
Состоял на службе у губернатора, прапорщик. Он мало бывал дома с тех пор, как я приехал в Квебек, поскольку до прошлого года служил на службе у губернатора Монреаля. Мы поклонились, но он не собирался подходить ко мне, и интендант почти тотчас вовлек меня в городские сплетни; внезапно, однако, расходятся по некоторым вопросам общественной тактики и гражданского управления. Он очень удивил меня, потому что, хотя я знал его храбрым и способным, я всегда думал о нем иначе, как об искусном политике и слуге короля, тиране и развратнике. Я мог бы догадаться по этой самой сцене за несколько часов до этого, что он широко и глубоко знает человеческую природу и презирает ее; в отличие от Долтера, который обладал более острым умом, был более утонченным даже в зле и, зная мир, больше смеялся над ним, чем презирал его, что было признаком большего ума. И в самом деле, несмотря на все причины, по которым я ненавидел Долтера, справедливо будет сказать, что он обладал от природы всеми великими дарами, хотя они были неправильно использованы и расстроены. Он был продуктом своего времени; не имея настоящего морального чувства, живя бессмысленно, создавая свой собственный закон о добре и зле. В детстве меня учили думать, что злой человек несет зло в своем лице, отталкивая здравый разум. Но давно я обнаружил, что это было ошибкой. Самые красивые и трогательные лица, которые я когда-либо видел, были у мужчин и женщин, которые отбросили все моральные обязательства. Временами они несли в себе деликатность и глубину, почти жалкую, даже когда ругались; что было, может быть, знанием жизни. Кто будет их измерять? У меня не было причин восхищаться Долтером, и все же до сих пор его красивое лицо с тенями и мерцающими огнями не дает мне покоя, очаровывает меня. Эта мысль пришла мне в голову, когда я разговаривал с интендантом, и я оглядел комнату. Некоторые из присутствовавших были грубого калибра — бродячие сыновья сеньоров и мелких дворян, лихие и нечестивые, и что-то варварское; но у большинства были дары личности и речи, и все казались способными.
Он был продуктом своего времени; не имея настоящего морального чувства, живя бессмысленно, создавая свой собственный закон о добре и зле. В детстве меня учили думать, что злой человек несет зло в своем лице, отталкивая здравый разум. Но давно я обнаружил, что это было ошибкой. Самые красивые и трогательные лица, которые я когда-либо видел, были у мужчин и женщин, которые отбросили все моральные обязательства. Временами они несли в себе деликатность и глубину, почти жалкую, даже когда ругались; что было, может быть, знанием жизни. Кто будет их измерять? У меня не было причин восхищаться Долтером, и все же до сих пор его красивое лицо с тенями и мерцающими огнями не дает мне покоя, очаровывает меня. Эта мысль пришла мне в голову, когда я разговаривал с интендантом, и я оглядел комнату. Некоторые из присутствовавших были грубого калибра — бродячие сыновья сеньоров и мелких дворян, лихие и нечестивые, и что-то варварское; но у большинства были дары личности и речи, и все казались способными.
Что касается меня, то я на какое-то время почти забыл о своем жалком состоянии, и мое настроение оставалось приподнятым. Я с готовностью бросился навстречу остроумию и сплетням, мой ум ловко бегал туда и сюда, я исполнял роль почетного гостя. Но когда пришел стол и вино, со мной произошла перемена. С первой капли, которую я выпил, мое настроение пошло на убыль. С одной стороны меня сплотил интендант, с другой — Долтер. Я ел, пил; но, улыбаясь силой воли, я мало-помалу становился серьезнее. И все же это была серьезность, не имевшая видимых причин, ибо я не думал ни о своих бедах, ни даже о ночном кочегаре и о возможном конце всего этого; просто какой-то серый цвет ума, неподвижность нервов, общая серьезность чувств. Я пил, и вино не действовало на меня, голоса становились все громче и громче, и звенели стаканы, и шпоры звенели на шаркающих каблуках, и ножны звенели на стуле. Я как бы видел и знал все это издалека, но меня не коснулся дух этого, я не был его частью. Я с каким-то далеким любопытством следил за раскрасневшимися щеками и развязавшимися обжигающими ртами вокруг себя, и грубые шутки, бросавшиеся направо и налево, совсем не остро поражали меня. Как будто я читал Книгу Вакха. Я пил равномерно, не упрямо, и отвечал на шутку на шутку без горячего дыхания опьянения. Я несколько раз взглянул на Жюста Дюварни, сидевшего неподалеку, с другой стороны стола, за большим серебряным камнем, усыпанным октябрьскими розами. Он много пил, и Долтер, сидевший рядом с ним, поддерживал его в этом. Наконец серебряная монета сдвинулась, и мы с ним могли хорошо видеть друг друга. Время от времени Долтер переговаривался со мной, но между Дюварни и мной почему-то не было ни слова.
Как будто я читал Книгу Вакха. Я пил равномерно, не упрямо, и отвечал на шутку на шутку без горячего дыхания опьянения. Я несколько раз взглянул на Жюста Дюварни, сидевшего неподалеку, с другой стороны стола, за большим серебряным камнем, усыпанным октябрьскими розами. Он много пил, и Долтер, сидевший рядом с ним, поддерживал его в этом. Наконец серебряная монета сдвинулась, и мы с ним могли хорошо видеть друг друга. Время от времени Долтер переговаривался со мной, но между Дюварни и мной почему-то не было ни слова.
Внезапно, как по волшебству — я знаю, что это было заранее спланировано — разговор зашел о событиях вечера и о поражении англичан. Тогда же я так же странно стал снова быть собой, и чувство своего положения росло во мне. Я был отстранен от всех настоящих чувств и жизни на несколько часов, но я верю, что это же отстранение было моим спасением. Ибо, когда все присутствующие вокруг меня были глубоко пьяны — все мужчины, кроме Долтера, — я был в здравом уме и уравновешен, и пришел в состояние большой бдительности, полный решимости бежать, если это возможно, и стремящийся использовать любой шанс, чтобы послужить моей цели. причина.
причина.
Время от времени я слышал, как мое собственное имя упоминается с насмешкой, затем с удивлением, затем с наглым смехом. Я все это видел. Еще до обеда некоторым стало известно о новом обвинении против меня, и они, по указанию, держали его до момента возгорания. Затем, когда вопрос о том, почему и почему я присутствовал на этом ужине, стал угрожать, был упомянут костер, как злая шутка Биго. Я мог видеть, как дюйм за дюймом растет пламя, подпитываемое Интендантом и Долтером, чей ненавистный последний ход мне еще предстояло увидеть. На мгновение я почувствовал своего рода страх, потому что я был уверен, что они имеют в виду, что я не должен выйти из комнаты живым; но тотчас же я разозлился и почувствовал, как сквозь меня течет огненная река, пробуждая меня, заставляя меня ненавидеть их лица. Но не все, ибо в одном теперь самом бледном, с темными, блестящими глазами я видел облик моего цветка мира: цвет ее волос в его, ясность бровей, постановку головы, — как красивый он был! — легкая пружинящая походка, как олень на июньском дерне. Я возражаю, когда впервые увидел его. Он сидел в окне поместья, только что приехав из Монреаля, и играл на скрипке, которая когда-то принадлежала де Кассону, знаменитому священнику, чья атлетическая сила и милый нрав снискали ему расположение Новой Франции. Его свежая щека склонилась к нежному коричневому дереву, и он играл сестре мелодию неумирающего шансона: «Je vais monrir pour ma belle reine». Мне нравился вид его лица, как у юного Аполлона, открытого, милого и дерзкого, во всем теле его была эпическая сила жизни. Я хотел, чтобы он был рядом со мной в качестве товарища, потому что из моего тяжелого опыта я мог бы многому его научить, а с юности он мог смягчить мою грубую натуру, товариществом делая извилистым жесткое и неприветливое.
Я возражаю, когда впервые увидел его. Он сидел в окне поместья, только что приехав из Монреаля, и играл на скрипке, которая когда-то принадлежала де Кассону, знаменитому священнику, чья атлетическая сила и милый нрав снискали ему расположение Новой Франции. Его свежая щека склонилась к нежному коричневому дереву, и он играл сестре мелодию неумирающего шансона: «Je vais monrir pour ma belle reine». Мне нравился вид его лица, как у юного Аполлона, открытого, милого и дерзкого, во всем теле его была эпическая сила жизни. Я хотел, чтобы он был рядом со мной в качестве товарища, потому что из моего тяжелого опыта я мог бы многому его научить, а с юности он мог смягчить мою грубую натуру, товариществом делая извилистым жесткое и неприветливое.
Я продолжал говорить с интендантом, а некоторые из гостей встали и разбежались по комнатам, за столами, чтобы играть в пикет, шутки над нашим делом и презрение ко мне ничуть не утихали. Я не хотел бы, чтобы что-либо считалось откровенно грубым или грубым; все это было инсинуациями, и вызывающими удивление, и сводящими с ума, иносказательными фразами, которые джентльмены считают уместным использовать вместо открытого обвинения. В улыбке было оскорбление, в повороте плеча — презрение, в взмахе платком — вызов. С большим удовольствием я мог бы сломать им носы одного за другим, а потом увидеть, как они мечут острие шпаги в том же порядке. Я удивляюсь теперь, что я не сказал им об этом, потому что я всегда был поспешно; но в ту ночь мой мозг был ясным, и я держал себя в узде, позволяя каждому движению исходить от моих врагов. Не было никакой причины, по которой я вообще должен был присутствовать на этом диком пиру, я, пленник, ложно обвиненный в шпионаже, кроме как из-за какого-то заговора, благодаря которому я должен был снова пострадать, а кому-то другому принести пользу, — хотя как что может быть, я сначала не мог догадаться.
В улыбке было оскорбление, в повороте плеча — презрение, в взмахе платком — вызов. С большим удовольствием я мог бы сломать им носы одного за другим, а потом увидеть, как они мечут острие шпаги в том же порядке. Я удивляюсь теперь, что я не сказал им об этом, потому что я всегда был поспешно; но в ту ночь мой мозг был ясным, и я держал себя в узде, позволяя каждому движению исходить от моих врагов. Не было никакой причины, по которой я вообще должен был присутствовать на этом диком пиру, я, пленник, ложно обвиненный в шпионаже, кроме как из-за какого-то заговора, благодаря которому я должен был снова пострадать, а кому-то другому принести пользу, — хотя как что может быть, я сначала не мог догадаться.
Но причина пришла довольно скоро, и тогда я все понял. У меня была незаслуженная репутация искусного фехтовальщика; и Биго и Долтер хорошо знали это, ибо я доказал это однажды, когда приехал в Квебек, с самым известным хулиганом и фехтовальщиком Новой Франции, который оскорбил меня в присутствии нескольких дам. Губернатор подмигнул заложнику войны, получившему меч для дуэли, и он, без сомнения, подмигнул бы снова, если бы я дожил до этого. Пока эти мысли проносились у меня в голове, я услышал, как молодой джентльмен через мое плечо сказал Дюварне:0008
Губернатор подмигнул заложнику войны, получившему меч для дуэли, и он, без сомнения, подмигнул бы снова, если бы я дожил до этого. Пока эти мысли проносились у меня в голове, я услышал, как молодой джентльмен через мое плечо сказал Дюварне:0008
«Ел сладости и держал пряжу — это он делал в вашем поместье, когда Долтер пришел за ним охотиться».
— Он обедал за вашим столом, Лэнси, — горячо бросил Дюварни.
«Но никогда с нашими дамами», — был резкий ответ.
« Должны ли заключенные ставить условия ? — последовал резкий, наглый ответ.
Оскорбление бросалось в глаза, и за этим могли последовать неприятности, но Долтер встал между ними, сместив атаку. — Заключенные, мой дорогой Дюварни. — сказал он, — очень деликатны и требовательны; их надо кормить вином и молоком, им надо есть дикий мед. Я бы был заключенным. Это легкая жизнь, и сердца становятся мягкими для них. Как так… Действительно, это очень грустно: так молодо и галантно; в речи тоже так доверчиво! А если мы болтаем ему обо всех наших делах, вы думаете, он принимает это всерьез? Нет, нет, — так весело и легкомысленно, там проезд от уха до уха, а на той стороне все пропало. Бедный простой джентльмен, он претендент на нашу любезность, рыцарь без меча, гость, не имеющий права уйти от нас, — он выставит условия, у него будет свой каприз. Ла, ла! мой дорогой Дюварни и мой Ланси!
Бедный простой джентльмен, он претендент на нашу любезность, рыцарь без меча, гость, не имеющий права уйти от нас, — он выставит условия, у него будет свой каприз. Ла, ла! мой дорогой Дюварни и мой Ланси!
Он говорил ясным, вызывающим тоном, положив руку на плечо каждого молодого джентльмена, когда говорил, его глаза лениво блуждали по мне и дальше меня. Я видел, что он сейчас точил серп в своем кабинете. Следующие его слова прояснили мне это: —
«А если дама подаст знак прощания тому, кто ей благоволит на данный момент, не примет ли узник его как своего собственного? Павлин кричит во все глаза — кто станет спорить с павлином? Должен ли цесарка петух? Золотую крошку бросили цесарке, но это неважно. Павлин стучит по крошке — и иноходью распускает свои хвосты в другом месте». Тут он что-то сказал на ухо Дюварне. Я увидел, что лицо парня покраснело, и он сердито посмотрел на меня.
Тогда я понял его цель: спровоцировать ссору между мной и этим молодым джентльменом, которая могла бы привести к злым последствиям; и участие интенданта в заговоре состояло в том, чтобы отомстить сеньору за его близкую дружбу с губернатором. Если бы Жюст Дюварни был убит на дуэли, которую они предвидели, то, с точки зрения Долтера, я был бы вне счета в глазах юной леди. В любом случае моя жизнь не имела значения, ибо она уже была определена, я был уверен. И все же казалось странным, что Долтер желал моей смерти, поскольку у него были причины оставить меня в живых, как мы увидим далее. Почему он сам не решил драться со мной, я не знаю, за исключением того, что он считал это более деликатной и занимательной местью.
Если бы Жюст Дюварни был убит на дуэли, которую они предвидели, то, с точки зрения Долтера, я был бы вне счета в глазах юной леди. В любом случае моя жизнь не имела значения, ибо она уже была определена, я был уверен. И все же казалось странным, что Долтер желал моей смерти, поскольку у него были причины оставить меня в живых, как мы увидим далее. Почему он сам не решил драться со мной, я не знаю, за исключением того, что он считал это более деликатной и занимательной местью.
Я знал, что когда-то я нравился Жюсту Дюварне, но тем не менее у него был темперамент француза, и ему всегда приходилось доказывать свое предубеждение против моей расы и лелеять ко мне доброе сердце; ибо он был молод и очень чувствителен к мнению своих товарищей. Не могу вам передать, какое горе охватило меня, когда я увидел, как он покидает Долтера, и, подойдя ко мне, когда я стоял в одиночестве у кресла, на котором только что сидел интендант, скажите: —
мсье?
Я понял насмешку — как будто я был обычным знаком для допроса, злоупотребляющий гостеприимством, отвратительный Пол Прай. Но я сдержался.
Но я сдержался.
— Месье, — сказал я, — я нашел секрет всякой хорошей жизни: благородную доброту к несчастным.
При этом раздался смех некоторых во главе с Долтером, согласованное влияние на молодого джентльмена. Я проклинал себя за то, что попался в эту ловушку.
«Наглец, — сказал Дюварни, — а не несчастный. ”
— По крайней мере, дерзость не преступление, — тихо ответил я, — иначе эта комната была тюрьмой.
Последовала минутная пауза, и вскоре, когда я не сводил с него глаз, он поднял платок и хлестнул меня им по лицу, говоря: «Тогда это будет добродетелью, и у тебя может быть больше таких добродетелей, как часто, как пожелаешь».
Несмотря на волю, кровь застучала в моих жилах, и дьявольский гнев на мгновение овладел мной. Когда меня ударил по лицу безбородый француз, едва достигший подросткового возраста, это потрясло меня больше, чем сейчас, я хочу признаться. Тем не менее, я могу быть легко прощен за обиды, которые я перенес впоследствии. Я почувствовал, как горит моя щека, стиснуты зубы, и я знаю, что от меня исходило что-то вроде рычания; но опять же, в одно мгновение, я уловил поворот его головы, движение руки, которое вернуло ко мне Аликс. Гнев угас, и я видел только раскрасневшегося от вина юношу, уязвленного внушениями, с той дурацкой гордостью, которую чувствует юноша, — а он был младшим из всех, будучи таким же хорошим человеком, как и лучший, и смелым, как худший, Я чувствовал, как бесполезно пытаться уладить там дела, хотя, будь мы вдвоем, хватило бы и дюжины слов. Но попытаться было моим долгом, и я старался изо всех сил; почти, ради Аликс, от всего сердца.
Я почувствовал, как горит моя щека, стиснуты зубы, и я знаю, что от меня исходило что-то вроде рычания; но опять же, в одно мгновение, я уловил поворот его головы, движение руки, которое вернуло ко мне Аликс. Гнев угас, и я видел только раскрасневшегося от вина юношу, уязвленного внушениями, с той дурацкой гордостью, которую чувствует юноша, — а он был младшим из всех, будучи таким же хорошим человеком, как и лучший, и смелым, как худший, Я чувствовал, как бесполезно пытаться уладить там дела, хотя, будь мы вдвоем, хватило бы и дюжины слов. Но попытаться было моим долгом, и я старался изо всех сил; почти, ради Аликс, от всего сердца.
«Не трудитесь пояснять, что вы имеете в виду», — тихо сказал я. \ наши фразы ясны и по делу».
— Ты мчишься от моих слов, — возразил он, — как пугливая кобыла на бордюре; ты терпишь оскорбления, как осел на колодезном колесе. До какой мухи поднимется английский флеш? Теперь он играет на мой крючок не больше, чем августовский голавль».
Я не мог не восхититься его духом и остротой речи, хотя это и привело меня в более глубокое затруднительное положение. Было ясно, что он не закалится до дружелюбия; ибо, как это часто бывает, когда люди говорят что-то гневно, их красноречие подпитывает их страсть и убеждает их в том, что они почти святы в своем деле. Спокойно, но с самым тяжелым сердцем, я ответил: —
Было ясно, что он не закалится до дружелюбия; ибо, как это часто бывает, когда люди говорят что-то гневно, их красноречие подпитывает их страсть и убеждает их в том, что они почти святы в своем деле. Спокойно, но с самым тяжелым сердцем, я ответил: —
«Я не хочу обижаться в ваших словах, друг мой, ибо в минувшие хорошие дни у нас с вами была приятная торговля, и я не могу забыть, что последние часы светлого заключения перед тем, как я попал в темное, были потрачены в доме твоего отца, по правую руку отважного сеньора, жизнь которого я когда-то спас.
Я уверен, что не должен был упоминать об этом ни в какой другой ситуации. казалось, я отдаюсь на его милость; но я чувствовал, что это единственный выход — что я должен урегулировать это дело, хотя и ценой некоторой репутации.
Этого не должно было быть. Тут Долтер, видя, что мои слова действительно подействовали на моего противника, сказал: «Двойное отступление! lle поклялся бросить вызов сегодня ночью, и он плачет, как овца от дикобраза; его храбрость так слаба, что он не осмеливается сделать шаг к своей свободе. Это была ставка, риск. Он должен был выпить стакан за стаканом с каждым из нас. и сразиться мечом за мечом с любым из нас, кто дал ему повод. Упиваясь своим мужеством до смерти, он теперь будет пастись у ног тех, кто дает ему шанс выиграть свою долю».
Это была ставка, риск. Он должен был выпить стакан за стаканом с каждым из нас. и сразиться мечом за мечом с любым из нас, кто дал ему повод. Упиваясь своим мужеством до смерти, он теперь будет пастись у ног тех, кто дает ему шанс выиграть свою долю».
Его слова звучали медленно и едко, но с чертовски небрежным видом.
1 огляделся. Все присутствующие были пьяны от вина; а поодаль, по обеим сторонам от него стоял интендант, отвратительно улыбаясь, и его маленькие круглые глаза сверкали проницательным львиным взглядом.
С меня хватит; Я больше ничего не слышал. Чтобы эти французы затравили вас, как медведя. — это было алоэ в моих зубах. Мне кажется, я не огорчился, что эти слова Жюста Дюварне не дали мне шанса уйти от борьбы; хотя я хотел бы, чтобы это был любой другой мужчина в комнате, чем он. У меня вертелось на языке, что если какой-нибудь джентльмен возьмется за свою ссору, я буду рад довести мою ссору до конца, хотя по причинам, по которым я не хотел драться с Дюварне. Но я этого не сделал, так как знал, что дальнейшее развитие этого вопроса может вызвать общее мнение об Аликс, и я не хотел усложнять ей жизнь. Всему свое время, и когда я буду свободен! Итак, не мудрствуя лукаво, я сказал ему: —
Но я этого не сделал, так как знал, что дальнейшее развитие этого вопроса может вызвать общее мнение об Аликс, и я не хотел усложнять ей жизнь. Всему свое время, и когда я буду свободен! Итак, не мудрствуя лукаво, я сказал ему: —
«Месье, ссора произошла по вашему выбору, а не по моему. Между нами не было нужды в ссоре. и тебе есть что терять больше, чем мне: больше друзей, больше лет жизни, больше надежд. Я избегал вашей приманки, как вы это называете, ради вас, а не ради себя. Теперь я беру это. а вы, сударь, покажите нам, какой вы рыбак.
Все устроилось в один миг. Когда мы повернулись, чтобы пройти из комнаты во двор, я заметил, что Биго ушел. Когда мы вышли на улицу, было всего час, как я понял по бою часов в соседней комнате. Было холодно, и кое-кто вздрогнул, когда мы ступили на белые, заиндевевшие камни. Октябрьский воздух щипал щеку, хотя изредка по двору пробегала теплая, едкая струя — дыхание народной горелой кукурузы. Даже еще на небе было отражение огня; и далекие звуки пения, крика и кутежа доносились до нас из Нижнего города.
Мы отошли в угол двора и сняли пальто; нам вручили мечи — оба превосходны, потому что у нас был выбор из многих. Было неполное лунное сияние, но плывут облака. Однако для того, чтобы у нас был свет, были принесены сосновые факелы, и они воткнуты в стену. Я стоял спиной к внешней стене двора, и я увидел Биго в окне дворца, смотрящего на нас сверху вниз. Долтер стоял немного в стороне от нас, внизу, но так, чтобы он мог видеть нас в выгодном свете. Прежде чем мы вступили в бой, я внимательно посмотрел в лицо моему противнику и тщательно измерил его своим глазом, чтобы точно определить его рост и телосложение; ибо я знаю, как лунный свет и огонь искажают, как можно обмануть глаз. Я искал каждую кнопку; за то место в его худом, здоровом теле, где я мог бы вывести его из строя, плюнуть на него и все же не убить, — ибо это было самым далеким от моих желаний, видит Бог. Теперь смертоносный характер события, казалось, произвел на него впечатление, ибо он был бледен, а от выпитого спиртного вокруг глаз у него образовались темные впадины, а на щеках выступил серый блестящий пот. Но сами глаза его были до некоторой степени огненными и острыми, и в каждом движении его тела была безрассудная смелость.
Но сами глаза его были до некоторой степени огненными и острыми, и в каждом движении его тела была безрассудная смелость.
Я не замедлил найти его качество, потому что он с самого начала яростно набросился на меня, и я также имел возможность узнать его силу и слабость. Его рука была быстрой, взгляд ясным и уверенным, его познания до определенного момента были самыми определенными и практическими, его владение мечом было восхитительным; но у него было мало воображения, он не угадывал, он был просто блестящим исполнителем, он не зачинал. Я видел, что если я поставлю его в оборону, то получу преимущество, ибо он не обладал искусством настоящего фехтовальщика, тем даром предвидения, который предугадывает действия противника и готовится к нему. Там я имел над ним фатальное преимущество, я чувствовал, что могу дать ему последнюю награду за оскорбление, когда мне заблагорассудится. Тем не менее, жажда драки охватила меня, и мне было трудно держать себя в узде, и нелегко было встречать его затаившие дыхание и ловкие авансы. Потом замечания посторонних довели меня до глубокой злости, и я почувствовал, как Долтер смотрит на меня с этим неподвижным, холодным лицом, с иронической улыбкой на губах. Время от времени со стороны какого-нибудь молодого хулигана раздавалась непристойная шутка, и то, что я стоял один среди насмешливых врагов, доводило меня до чего-то вроде ненависти, до такой степени, что гордость действовала сильнее всего на свете. Я стал его немного давить и один раз уколол, и тут мною овладело странное чувство. Я бы покончил с этим, когда досчитаю до десяти; Я попадал в цель, когда говорил «десять».
Потом замечания посторонних довели меня до глубокой злости, и я почувствовал, как Долтер смотрит на меня с этим неподвижным, холодным лицом, с иронической улыбкой на губах. Время от времени со стороны какого-нибудь молодого хулигана раздавалась непристойная шутка, и то, что я стоял один среди насмешливых врагов, доводило меня до чего-то вроде ненависти, до такой степени, что гордость действовала сильнее всего на свете. Я стал его немного давить и один раз уколол, и тут мною овладело странное чувство. Я бы покончил с этим, когда досчитаю до десяти; Я попадал в цель, когда говорил «десять».
Итак, я начал, и тогда я не осознавал, что считаю вслух. » Раз два три ! Зрителям это было странно, потому что двор затих, и слышно было только топот ног или тяжелое дыхание. » Четыре пять шесть ! В воздухе повисло напряжение, и Жюст Дюварни, словно почувствовав угрозу в этих словах, как будто потерял всякое чувство осторожности и бросился на меня, бросаясь, бросаясь с великой быстротой и жаром. Сначала я хотел ранить его слегка, не смертельно, но теперь я был в ярости, и он должен взять то, что пошлет ему судьба; вы не можете направлять свой меч туда, где он причинит наименьший вред, когда вы сражаетесь, как это делали мы.
Сначала я хотел ранить его слегка, не смертельно, но теперь я был в ярости, и он должен взять то, что пошлет ему судьба; вы не можете направлять свой меч туда, где он причинит наименьший вред, когда вы сражаетесь, как это делали мы.
Я потерял кровь, и игра больше не могла продолжаться. » Восемь! — Я резко надавил на него. » Девять ! Я уже готовился к трюку, который положит конец делу, когда я поскользнулся на инеистых камнях, теперь остекленевших от нашего хождения взад и вперед, и, пытаясь прийти в себя, оставил свой бок открытым для его меча. Он пришел домой, хотя я частично отклонил его. Меня заставили встать на колени, но тут, безумный, непростительный юноша, он сделал еще один яростный бросок на меня. Я отпрянул назад, ловко уклонился от удара, и он навалился на мой меч, издал долгий вздох и рухнул вниз. В этот момент двери двора открылись, и внутрь вошли люди, один из которых быстро вышел вперед. Это был губернатор, маркиз де Водрей. Он говорил, но что он сказал, я не знал, потому что прямо передо мной стояло запрокинутое лицо Жюста Дюварни, в ушах у меня стояло сильное гудение, и я снова провалился в темноту.
Гилберт Паркер .
Письменный стол: август 2022 г.
Новое от Amazon UK и Amazon US
Присоединяйтесь к Киту в захватывающем историческом шпионском романе! Что происходит, когда правой рукой мастера шпионской сети оказывается женщина…?
Женщины, вдохновившие Кита Скарлетт
Один грубый читатель однажды спросил меня: «Разве женщины из прошлого не могут рассказать много историй?» Это был заданный вопрос, который, как вы понимаете, оставил меня онемел, и мне было трудно поднять челюсть с пола. Мало того, что прошлое полно женских историй, которые еще предстоит услышать, но они могут по-настоящему ослепить. Возможно, не всегда так легко услышать женские голоса в мире, где мужчины занимали самые высокие посты и писали письменные отчеты, но голоса можно найти, если мы потратим время на их поиски.
В итоге хочу познакомить вас с тремя такими женскими сказками, которые меня вдохновили. Каждая из этих женщин эпохи Возрождения по-своему помогла создать Кит Скарлетт, главного героя моей дебютной книги «Женщина-шпион». увлекательной жизнью, и, конечно же, у них есть собственная история, которую они могут рассказать о своей тайной деятельности.
увлекательной жизнью, и, конечно же, у них есть собственная история, которую они могут рассказать о своей тайной деятельности.
«Злая леди» – Кэтрин Феррерс (1634 – ок. 1660)
Эта женщина семнадцатого века, которую иногда называют «Злой леди», несколько окутана мифами и легендами. В какой-то степени, кто знает, где проходит грань между фактом и вымыслом, но реальная женщина дала жизнь этому мифу и восхищала людей на протяжении веков. Женщина-разбойница с большой дороги, или разбойница с большой дороги, если хотите, говорят, что она нападала на путешественников в Хартфордшире со своими сообщниками, прежде чем умерла от огнестрельных ранений во время ограбления. Одетая в мужскую одежду и оставив свои прекрасные платья дома в принадлежащем ей поместье, Кэтрин вела двойную жизнь.
Это миф. Что же касается известных фактов, то они рисуют картину женщины, которая выросла без постоянного дома или родителей-руководителей, которые, возможно, были предоставлены самой себе.
Кэтрин родилась в богатой протестантской семье. Семейным домом Кэтрин была Маркиэйт Сел, ныне известная как Селл Парк, которая стоит и по сей день. После смерти брата Кэтрин стала единственной наследницей деда. Справедливости ради стоит сказать, что ее воспитание было сложным. Перед смертью ее частично воспитывала мать, а затем она была передана на попечение отчима, а после его заключения была отправлена под опеку к сводному дяде. Используемая в качестве пешки благодаря своему богатому наследству, она вышла замуж за племянника своего отчима, когда ей было четырнадцать лет.
Когда протекторат рухнул после смерти Оливера Кромвеля, муж Кэтрин, Томас Фэншоу, оказался вовлеченным в восстание Бутов и в сентябре 1659 года был заключен в тюрьму. С этого начинается легенда.
Согласно местным легендам, чтобы наверстать угасающее состояние, Кэтрин занялась грабежом на большой дороге. В компании местного фермера Ральфа Чаплина они вместе вели войну в этом районе, хотя мало фактов, подтверждающих этот слух о ее связи с Чаплином. Предположительно, история проистекает из ее призрака, который по сей день преследует Markyate Cell.
Предположительно, история проистекает из ее призрака, который по сей день преследует Markyate Cell.
Хотите вы верить в эту сказку или нет, интригует само ее существование. Что, если в этой истории есть крупица правды? Пока ее муж находился в заключении, Кэтрин взяла свое состояние в свои руки? Некоторые говорят, что она умерла от огнестрельных ранений после неудачного ограбления. Найденная возле своего дома с ранами и в мужской одежде, она была доставлена внутрь, но персонал не смог ее спасти. Записи показывают, что она была похоронена в церкви Святой Марии в Уэре 13 июня 1660 года, скорее всего, в возрасте двадцати шести лет.
Если мы вернемся к идее, что в этой сказке есть правда, как мы узнаем наверняка? Если Кэтрин переодевалась мужчиной во время совершения своих преступлений, то она приложила большие усилия, чтобы скрыть свою личность, и вполне правдоподобно предположить, что любой оставшийся в живых член семьи захочет защитить свою репутацию от пятна преступника и дистанцироваться от него. эта история. Кто знает, может, в этой сказке и есть доля правды.
эта история. Кто знает, может, в этой сказке и есть доля правды.
«Шотландская настоятельница и шпионка» — Изабелла Хоппрингл (1460-1538)
Мало что известно о деятельности Изабеллы в качестве шпиона в пользу Англии на шотландских границах, но ее выживание в это время и в этом месте впечатляет. Шпионы могли быть в любом случае в тюдоровской Англии, даже скрываясь в религиозных монастырях.
Изабелла родилась в 1470 году и принадлежала к семье Прингл, которая часто отправляла настоятельниц в цистерцианский монастырь Колдстрим. Чтобы понять эпоху, в которой жила Изабелла, и напряженность, важно распознать политический и военный ландшафт вокруг нее. После заключения договора о «вечном мире» в 1502 году король Шотландии Яков IV женился на сестре Генриха VIII, Маргарет Тюдор, чтобы укрепить союз. Хотя ясно, что в названии договора есть определенная доля иронии, так как в 1513 году мир закончился. После нападения Генриха VIII на Францию Яков IV согласился помочь Франции и уведомил Генриха VIII о надвигающемся вторжении в Нортумберленд.
Изабелла находилась на границе во время этих действий и растущей напряженности. Можно прочитать, какие доказательства существуют на Изабеллу, и утверждать, что она была шпионом в пользу Англии, едва в пределах шотландских границ, разделенных половиной ширины реки, или есть другой способ полностью прочитать доказательства. Поскольку ее монастырь находился посреди того, что могло стать полем битвы, где ее монастырь вполне можно было использовать в качестве убежища, сообщения Изабеллы, возможно, были тем самым, что спасло ее монастырь. Натравливая правящие силы Англии и Шотландии друг против друга, она никогда не позволяла рассматривать монастырь как врага ни для одной из сторон, тем самым укрепляя свои позиции. Более того, она дала убежище Маргарет Тюдор, шотландской королеве, и они остались друзьями. Имея богатый союз, она считалась доверенным лицом шотландцев, сохраняя при этом эту важную связь для защиты монастыря и женщин, которые там жили.
В 1513 году, когда между англичанами и шотландцами разгорелась война, ущерб был значительным. Некоторые источники утверждают, что в битве при Флоддене было убито до 10 000 или даже 14 000 шотландцев. Это была битва, унесшая жизнь Якова IV. После этого Изабелла и ее община в монастыре помогали раненым, принимая их и помогая, чем могли, и хоронили мертвых. Это показывает готовность бросить вызов англичанам и защитить раненых шотландцев, и все же английские войска никогда не трогали монастырь. Он пережил битву, что заставило многих задаться вопросом, как Изабелла гарантировала, что англичане не нападут. Одна теория состоит в том, что англичане считали ее своим величайшим союзником на своей границе.
Некоторые источники утверждают, что в битве при Флоддене было убито до 10 000 или даже 14 000 шотландцев. Это была битва, унесшая жизнь Якова IV. После этого Изабелла и ее община в монастыре помогали раненым, принимая их и помогая, чем могли, и хоронили мертвых. Это показывает готовность бросить вызов англичанам и защитить раненых шотландцев, и все же английские войска никогда не трогали монастырь. Он пережил битву, что заставило многих задаться вопросом, как Изабелла гарантировала, что англичане не нападут. Одна теория состоит в том, что англичане считали ее своим величайшим союзником на своей границе.
Многое омрачено тайной мотивов Изабеллы и ее коммуникаций. Однако из фактов можно сделать вывод, что вплоть до реформации она руководила монастырем во времена не только великих политических потрясений, но и военных потрясений, и ей удавалось обеспечивать его безопасность. Если бы мы только знали, что было в ее письмах, которые вполне могли быть сожжены около полувека назад, навсегда храня ее секреты.
«Один из летающей эскадрильи Медичи» — Шарлотта де Сов (1551-1617)
Рожденная во французском дворянстве, дочь Жака де Бона, барона Семблансе, виконта Турского, многое известно о жизни Шарлотты, в том числе о ее ранних браках. Самая захватывающая часть жизни Шарлотты приходится на 1572 год, когда она, по слухам, была завербована Екатериной Медичи в группу под названием «Летучая эскадрилья», или, по-французски, «Летучий эскадрон», группа прекрасных шпионов. и информаторы. Считается, что цель Медичи, наняв Шарлотту, заключалась в том, чтобы убедить ее соблазнить Генриха Наваррского, который станет править Францией как Генрих IV в 1589 году., чтобы разлучить его с женой. Шарлотта так преуспела в своей цели, что жена Генриха написала о ней: «Мадам де Сов так полностью заманила в ловушку моего мужа, что мы больше не спали вместе и даже не разговаривали».
Явно весьма опытный заклинатель, это будет не последний мужчина, которого Шарлотта очаровала по завещанию Медичи, и не ее последняя задача в целях защиты трона или, скорее, контроля над ним королевы-матери. Шарлотта упоминалась как источник информации, которая привела к казни Жозефа Бонифация де ла Моля и Аннибала де Коконнаса, которые планировали свергнуть Медичи и ее правящего сына Карла IX. В 1575 году Медичи поручил Шарлотте соблазнить сына Медичи и младшего брата короля Франсуа, герцога Алансонского. Это дело вызвало раскол между Наваррой и Алансоном, раскол настолько сильный, что, согласно письменным отчетам французского двора, мужчины были заняты своими спорами о Шарлотте больше, чем обсуждали государственные дела.
Шарлотта упоминалась как источник информации, которая привела к казни Жозефа Бонифация де ла Моля и Аннибала де Коконнаса, которые планировали свергнуть Медичи и ее правящего сына Карла IX. В 1575 году Медичи поручил Шарлотте соблазнить сына Медичи и младшего брата короля Франсуа, герцога Алансонского. Это дело вызвало раскол между Наваррой и Алансоном, раскол настолько сильный, что, согласно письменным отчетам французского двора, мужчины были заняты своими спорами о Шарлотте больше, чем обсуждали государственные дела.
Успехи, достигнутые Шарлоттой при дворе Франции, хорошо описаны и во многом задокументированы в мемуарах Маргариты де Валуа, однако в сохранившихся записях отсутствует собственный голос Шарлотты. Считала ли Шарлотта свое участие в летающей эскадрилье необходимостью для выживания при французском дворе? Она обиделась? Или, может быть, она наслаждалась властью, которую давала ей ее связь с Екатериной Медичи.
Эти три женщины очаровывали меня много лет. Двое — шпионы, один — предполагаемый преступник, но их собственные мысли и мнения остаются загадкой. Именно их истории, а также то, что о них скрыто и что известно, создали Кит Скарлетт. Возможно, у нее нет ни таланта Шарлотты де Сов к соблазнению, ни потребности Изабеллы Хоппрингл в защите дома, но у Кит есть цели, которые проявляются почти так же. Желая довести себя до крайности, чтобы защитить дело, в которое она верит, королеву Елизавету, Кит учится справляться с трудностями, стоящими перед ней, во многом так же, как эти три вдохновляющие женщины.
Именно их истории, а также то, что о них скрыто и что известно, создали Кит Скарлетт. Возможно, у нее нет ни таланта Шарлотты де Сов к соблазнению, ни потребности Изабеллы Хоппрингл в защите дома, но у Кит есть цели, которые проявляются почти так же. Желая довести себя до крайности, чтобы защитить дело, в которое она верит, королеву Елизавету, Кит учится справляться с трудностями, стоящими перед ней, во многом так же, как эти три вдохновляющие женщины.
Чтобы узнать больше об истории Кит Скарлетт, посетите сайт getbook.at/GentlewomanSpy.
Адель Джордан
Источники:
The Reivers: The Story of the Border Reivers, Алистер Моффат, Бирлин, 1 июля 2011 г.
Биографический словарь шотландских женщин, Элизабет Иннес Сьюэн. Шиан Рейнольдс, Дата авторского права: 2007 г., Издано: Edinburgh University Press
Властные женщины: жизнь и времена Екатерины Медичи, Стрейдж, Марк (1976). Нью-Йорк и Лондон: Харкорт Брейс Йованович.
Королева червей: Маргарита Валуа, 1553–1615, Холдейн, Шарлотта (1968). Лондон: констебль. OCLC 460242.
Лондон: констебль. OCLC 460242.
Воспоминания Маргариты де Валуа, отредактированные Ивом Казо, Париж: Mercure de France, 1986
Екатерина Медичи, перевод Шарлотты Холдейн, Эритье, Жан. Лондон: Джордж Аллен и Анвин, 1963.
Екатерина Медичи, Кнехт, Р. Дж. (1998). Лондон: Longman
«Феррерс [имя в браке Фэншоу], Кэтрин (1634–1660)». Оксфордский национальный биографический словарь (онлайн-изд.). Уайт, Барбара (2004). Издательство Оксфордского университета.
«Кэтрин Феррерс, Злая Леди». Барбер, Джон (2009). Проверено 2 мая 2018 г.
История Хартфордшира. Кассанс, Джон Эдвин (1881). Издательство EP.
Дневник Сэмюэля Пеписа. Пепис, Сэмюэл. Воскресенье, 23 февраля 1667/68
# # #
Об авторе
Адель Джордан — писатель, увлекающийся историей. Ее внимание сосредоточено на художественной литературе эпохи Тюдоров, рассказывающей истории о женщинах и приключениях. Вдохновлено ли это реальными событиями или создано чисто из воображения, она хочет писать истории из этой захватывающей эпохи, которые никогда не были написаны прежде, о тех, кто находится на обочине общества, нищих, шпионах, рабочих и тех, кто не имел голос.

