Я не знаю откуда возникло это чудное состояние но я переживал: укажите все цифры, на месте которых… – Рамблер/класс
Дидактический материал по русскому языку в 9 классе по теме «Сложные предложения с разными видами связи»
класс Сложные предложения с разными видами связи
1.От холода мне захотелось спать и хотя я знал что этого не стоит делать но перебороть себя никак не мог.
2. Ольга вошла к Рябовскому без звонка и когда в передней снимала калоши ей послышалось как будто в мастерской кто-то тихо пробежал.
3.К вечеру пошел дождь и пока мы ехали по проселку лошади еле переступали будто потеряли последние силы.
4.Сестра ничего не ответила и чтобы отвлечься от неприятного ей разговора она подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать зерно в кормушки хотя они уже были полны.
5.Дверь подъезда внезапно распахнулась и на улицу выскочил неопрятного вида крепкий молодой человек который если бы Алексей не успел в последний момент посторониться наверняка налетел бы прямо на него.
6.После замечаний инструктора ребята зашагали быстрее и когда стало смеркаться до места ночлега оставалось всего три километра.
7. Сбоев положил солому крест-накрест чтобы она не быстро слежалась сунул под голову заплечный мешок и хотя в трюме было темновато принялся за чтение.
8.Рука Николая дрожала и когда он передавал лошадь коноводу чувствовал как со стуком приливает кровь к сердцу.
9.В доме было тихо и если бы не яркий огонь в окошке то можно было бы подумать что там уже все спят.
10.Здесь все было по-старому и если кому-то вдруг становилось грустно то это лишь потому что с этим местом у всех было связано много воспоминаний.
11.Мальчик рос смышленым и здоровым и когда он стал старше отец разрешил ему делить с рыбаками трудности и опасности морского промысла.
12.Как только приезжие разложили в комнатах свои вещи они немедленно решили осмотреть город но так как экскурсионные автобусы отправлялись только через два часа все решили идти пешком.
13.Князя в имении не ждали так как никто не знал приедет ли он и поэтому его появление стало для всех неожиданностью.
14. И все же он доехал быстрее чем я думал потому что когда я спустился во двор на скамейке под липой уже виднелась его темная фигура.
И все же он доехал быстрее чем я думал потому что когда я спустился во двор на скамейке под липой уже виднелась его темная фигура.
15.Я не знаю откуда возникло это чудное состояние но я переживал его много раз хотя если вспомнить всю жизнь то бывало оно не так уж часто.
16.Говоря что доброта лечит от одиночества и когда я поселился в деревне мне предоставилась возможность убедиться в этом.
17.Зрители затихли в ожидании и когда занавес медленно поднялся и показались великолепные декорации в зале послышались восхищенные возгласы.
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/348861-didakticheskij-material-po-russkomu-jazyku-v-
История курса ФАЛТ МФТИ выпуска 1981 в стихах и прозе
МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ
(стройотрядовская сказка-быль)
Васе Носику посвящается
В те дальние, дальние, дальние годы, когда звали нас по имени, а отчества не было и в помине, жил да был на свете Мальчиш по прозвищу Кибальчиш. Жил он с Отцом и Старшим Братом, а Матери у них не было. Отец целый день котлован под аэродинамическую трубу роет, старший брат землю из того котлована вывозит, да и сам Мальчиш без дела не сидит: то вместе с другими мальчишами на «военку» ходит, то пулю пишет. Растут «горы», свистят «пули»: «Вист… вист… вист…». Вот как-то раз, дело к вечеру, приходит Мальчиш в институт на пятую пару, но никак ему не спится, никак не засыпается: то ли ему лабу Додонову сдавать, то ли он утюг в общаге забыл выключить. Вдруг, видит Мальчиш: стоит у двери мужик. Джинсы на нем американские, прическа модная, куртка стройотрядовская, а значков на ней — ну, просто, видимо-невидимо! — Эй! Вставайте! — крикнул мужик, — В Приморский отряд набор объявляют! — Достал Отец свой старый рюкзак и говорит сыновьям:
Жил он с Отцом и Старшим Братом, а Матери у них не было. Отец целый день котлован под аэродинамическую трубу роет, старший брат землю из того котлована вывозит, да и сам Мальчиш без дела не сидит: то вместе с другими мальчишами на «военку» ходит, то пулю пишет. Растут «горы», свистят «пули»: «Вист… вист… вист…». Вот как-то раз, дело к вечеру, приходит Мальчиш в институт на пятую пару, но никак ему не спится, никак не засыпается: то ли ему лабу Додонову сдавать, то ли он утюг в общаге забыл выключить. Вдруг, видит Мальчиш: стоит у двери мужик. Джинсы на нем американские, прическа модная, куртка стройотрядовская, а значков на ней — ну, просто, видимо-невидимо! — Эй! Вставайте! — крикнул мужик, — В Приморский отряд набор объявляют! — Достал Отец свой старый рюкзак и говорит сыновьям:
— Ну что ж, Старший, котлован я глубоко вырыл — долго его тебе засыпать придется!
- Ну что ж, Кибальчиш, жизнь я круто прожил, доживать ее, видно, тебе придется!
И ушел Отец в Приморский отряд. Вот день-другой проходит, снова сидит Мальчиш на лекции.
Вот день-другой проходит, снова сидит Мальчиш на лекции.
И все вроде бы так, да что-то не так. Но вдруг видит Мальчиш: стоит у двери мужик. Джинсы на нем польские, стрижка военная, куртка спортивная, а на куртке — значок ударника ССО. — Эй, вставайте! — крикнул мужик, — пришла радость откуда не ждали — Казахстанский отряд набор объявляет! Снял Старший Брат свою штормовку и говорит: — Ну что ж, Мальчиш, щи — в столовке, конспекты — у Вовки, живи, как знаешь, а меня не дожидайся! — И уехал Старший Брат в Казахстан. Снова не спится Кибальчишу на лекции. Вдруг, видит Мальчиш: стоит у двери мужик суровый. Джинсы на нем тираспольские, волосы всклокочены, куртка порвана. — Эй, вставайте! — крикнул суровый мужик, — пришла радость откуда не ждали. Подмосковный отряд набор объявляет! И цемент есть, и песок есть, и комиссар есть, да бойцов не хватает! — Поглядел Мальчиш вокруг, а никого уж не осталось, только стоит у доски один старый дед во сто лет и иероглифы какие-то пишет. И такой он старый, что даже с доски стереть не может, только все стоит и пишет, и пишет, не оглядывается… Больно-больно стало тогда Мальчишу, побежал он в общагу и громко-громко крикнул: — Эй вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам мальчишам только «пулю» писать, да в «военку» играть?! Или нам дожидаться, когда нас во внутренний отряд запишут?! Выходи на подмогу! Даешь — Подмосковье! — Как услышали такие слова мальчиши, как закричали на разные голоса: «даешь?!», «да — ёшь!», «ну, ты даешь!» — кто в дверь выбегает, кто в окно вылетает — все хотят на подмогу! Только один Мальчиш-Плохиш захотел поехать в шабашку, но никому ничего не сказал, штаны подтянул — и побежал вместе со всеми.
И вот работают мальчиши от светлой зари, до темной ночи: утром собирают, а вечером разбирают, вечером построят, а с утра снесут. И только один Плохиш не работает, только все ходит и высматривает. Вот, как-то раз, заходит он за сарай… и видит: громада ящиков, а в ящиках цемент да песок, цемент да песок. — Ага, — обрадовался Плохиш… А в это самое время спрашивает Главный Шабашник своих Шабашников: — Ну, что, шабашнички, как наши делишки-то? — Отвечают ему Шабашники: — И Отцы без цемента сидят, и Старшие Братья без песка, но, откуда не возьмись, появился тут Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним не справимся! — Вот сидят Шабашники – думают: что бы им такое сделать? Вдруг видят: вылезает из кустов Мальчиш-Плохиш и кричит: — Радуйтесь, радуйтесь, Шабашники! Это я, Плохиш, придумал, как вам услужить! — Обрадовались Шабашники, записали Плохиша в свою Шабашку и выдали ему полбанки… варенья и полбанки… печенья! Сидит Плохиш, жрет — и радуется.
А на следующий день выходит Мальчиш-Кибальчиш по утру за сарай… и видит: нет ящиков! — Измена! — закричал Кибальчиш. — Измена! — закричали мальчиши, но тут налетели Шабашники, схватили Мальчиша и привели его к Главному Шабашнику. И спрашивает его Главный Шабашник: — Отвечай мне, Гордый Мальчиш, нет ли у вас каких-то тайных ходов, по которым к вам цемент поступает? Нет ли какого-такого слова, от которого, как у вас скажут — так у нас задумаются? Нет ли у вас какого тайного закона? Ведь и не платят вам ничего, и не кормят вас совсем, а работаете вы от светлой зари до темной ночи?! — Отвечает гордый Мальчиш: — Есть у нас и Крепкое Слово и Великий Сухой Закон, но как бы вы, Шабашники, не старались, все равно вам его не выполнить! А больше я вам, проклятым шабашникам, ничего не скажу. Долго мучили Кибальчиша Шабашники, но вдруг нагрянула в Шабашку Ревизия, а вскоре погнала Шабашников Принимающая Организация за синие моря, за высокие горы, в комариные болота, в места не столь отдаленные. И с тех пор: идет пароход — кирпич Мальчишу! Идет поезд — цемент Мальчишу! Летит самолет — инструмент Мальчишу!, а идет Райштаб — салют Мальчишу!
— Измена! — закричали мальчиши, но тут налетели Шабашники, схватили Мальчиша и привели его к Главному Шабашнику. И спрашивает его Главный Шабашник: — Отвечай мне, Гордый Мальчиш, нет ли у вас каких-то тайных ходов, по которым к вам цемент поступает? Нет ли какого-такого слова, от которого, как у вас скажут — так у нас задумаются? Нет ли у вас какого тайного закона? Ведь и не платят вам ничего, и не кормят вас совсем, а работаете вы от светлой зари до темной ночи?! — Отвечает гордый Мальчиш: — Есть у нас и Крепкое Слово и Великий Сухой Закон, но как бы вы, Шабашники, не старались, все равно вам его не выполнить! А больше я вам, проклятым шабашникам, ничего не скажу. Долго мучили Кибальчиша Шабашники, но вдруг нагрянула в Шабашку Ревизия, а вскоре погнала Шабашников Принимающая Организация за синие моря, за высокие горы, в комариные болота, в места не столь отдаленные. И с тех пор: идет пароход — кирпич Мальчишу! Идет поезд — цемент Мальчишу! Летит самолет — инструмент Мальчишу!, а идет Райштаб — салют Мальчишу!
Владимир Самонов
Байки ветерана.

Что Вам рассказать: главы из романа Михаила Алексеева «Александр Гончаров»? В стихах, минут на 40. Или про свое боевое прошлое в прозе. Про то, чего у Вас нет, а у нас было. Или, наоборот, — у нас не было, а у вас есть. Вот, мы, например, на первом курсе жили не на Гагарина 20, а на Мичурина 10, на четвертом этаже общежития Работников ЦАГИ. Нет, девушки первого курса, уже тогда жили в нашем, на будущий год общем физтеховском доме, ну а для нас, мужиков, устроили на этот год карантин.
Вот я сказал — мужиков, хотя какие мы тогда были мужики? Мальчишки. Я-то уж точно. Так вот, год, проведенный на Мичурина, стал для нас первой школой жизни, боевым крещением. Курс занимал полностью этаж. Система коридорная. Комнаты на четверых, а то и сколько поместится, холл в этом самом коридоре, — общий, телевизионная комната — общая, общие места общего, не трудно догадаться чего. Какая система — такая и жизнь. Частности почти не помню, общее — еще туда-сюда. Да и вообще, память нашего брата, ветерана, штука сложная, двоичная: здесь помню — 1, здесь нет — 0.
Вот пока я общее вспоминал, тут и частное на ум пришло, личное. У меня случилась беда. Перед самой весенней сессией я потерял зачетку. Нет зачетки — это ж все — конец. Она ж — честь, когда в обмен красный диплом получаешь, ум, если сдал без завалов, и совесть, если, у тебя ее отняли, чтобы неуд поставить и из института вышибить. Опечалился я страшно. Где мог оставить — ума не приложу. Всех друзей знакомых озадачил своей неприятностью, но все тщетно. И вот, проходит несколько дней, захожу я в общагу, задерживаюсь, как обычно, у почтового стеллажа, где по ячейкам были разложены так ожидаемые нами тогда конверты писем, е-мэйлов то всяких еще ведь не было. Захватив с собой пачку пришедшей мне и моим дружбанам корреспонденции, собираюсь уже подняться на свой этаж, как слышу за спиной женский голос: — Молодой человек, подождите, это вы зачетку потеряли? — Окликает меня тогдашний комендант этой общаги Эльмира Ованесовна, приятная маленькая женщина, армянской, а не кавказкой, как бы сейчас сказали, национальности. Я, конечно, ее тоже тогда на всякий случай проинформировал о своей беде.
Перед самой весенней сессией я потерял зачетку. Нет зачетки — это ж все — конец. Она ж — честь, когда в обмен красный диплом получаешь, ум, если сдал без завалов, и совесть, если, у тебя ее отняли, чтобы неуд поставить и из института вышибить. Опечалился я страшно. Где мог оставить — ума не приложу. Всех друзей знакомых озадачил своей неприятностью, но все тщетно. И вот, проходит несколько дней, захожу я в общагу, задерживаюсь, как обычно, у почтового стеллажа, где по ячейкам были разложены так ожидаемые нами тогда конверты писем, е-мэйлов то всяких еще ведь не было. Захватив с собой пачку пришедшей мне и моим дружбанам корреспонденции, собираюсь уже подняться на свой этаж, как слышу за спиной женский голос: — Молодой человек, подождите, это вы зачетку потеряли? — Окликает меня тогдашний комендант этой общаги Эльмира Ованесовна, приятная маленькая женщина, армянской, а не кавказкой, как бы сейчас сказали, национальности. Я, конечно, ее тоже тогда на всякий случай проинформировал о своей беде.
- Кажется, Вашу (Вашу — это мою, значит) зачетку нашел Паша Матвеев, водитель восемнадцатого отделения.
- Да! А где он живет?
- В Триста двадцать первой.
- Спасибо Вам большое! — Окрыленный радостью, я уже было кинулся бежать к своему спасителю, но голос с приятным акцентом меня снова остановил:
- Куда Вы, молодой человек? Нет же его сейчас, он же работает, не в пример вам, на ответственной должности: возит руководство, возвращается поздно. Его в выходные можно только застать. И вот еще что. Вы не спешите, подумайте: как отблагодарить человека, ему приятное сделать.
- Как — отблагодарить? — задал я наивный до глупости вопрос.
- Вот я и говорю: подумайте!
- … А чего тут думать, — сказали более опытные по жизни друганы: — Купишь бутылку и — вперед!
- Бутылку чего?
- Водки, чего. На коньяк у тебя денег не хватит!
Легко сказать — купишь бутылку. Надо признаться, что пороха, то есть водки, я еще тогда и не нюхал даже. Более того, первый раз мне отец налил, сильно ударившего сначала в нос, а потом рикошетом в голову, шампанского — за удачу! — только перед моим первым самостоятельным шагом: отъездом в Москву на вступительные экзамены. Подходить к вино-водочному отелу в гастрономе я просто стеснялся. Так было, не вру!
Более того, первый раз мне отец налил, сильно ударившего сначала в нос, а потом рикошетом в голову, шампанского — за удачу! — только перед моим первым самостоятельным шагом: отъездом в Москву на вступительные экзамены. Подходить к вино-водочному отелу в гастрономе я просто стеснялся. Так было, не вру!
- А, может быть, что-нибудь другое подарить? — в сомнениях спросил я.
- Можно Сивухина — первый том!
Что ж, делать нечего. Поплелся я ближайшим субботним утром в магазин. Долго выбирал, хотя это было делом совершенно напрасным: денег хватило только на «коленвал», так тогда называлась самая дешевая водка. Я сначала думал, что она так называется потому, что выпитое зелье тебя сначала на колени ставит, а потом с колен и валит (аллегорист или аллегатор, как правильно — не знаю, я еще тот тогда был). А оказалось все проще: буковки названия на этикетке были напечатаны не в одну линию, а с разбивочкой по вертикали, ну точно как коленца коленчатого вала. Ну вот, значит, с покупкой вернулся в общагу, собрался с духом, друзьям сообщил — если что, там… долго не вернусь (у нас с работягами отношения были непростыми). Пошел. Спустился этажом ниже, нашел нужную комнату в конце коридора. Стучу. Тишина. Снова стучу. Снова тишина. Ну, что, думаю, не судьба, может, и к лучшему… Отошел уже по гулкому и пустынному в полдень выходного дня коридору несколько шагов, вдруг слышу за спиной шум от вращения ключа в замочной скважине, скрип. Оглядываюсь: из-за нужной мне двери выглядывает чернявый парень постарше меня лет на 5 или 6:
Пошел. Спустился этажом ниже, нашел нужную комнату в конце коридора. Стучу. Тишина. Снова стучу. Снова тишина. Ну, что, думаю, не судьба, может, и к лучшему… Отошел уже по гулкому и пустынному в полдень выходного дня коридору несколько шагов, вдруг слышу за спиной шум от вращения ключа в замочной скважине, скрип. Оглядываюсь: из-за нужной мне двери выглядывает чернявый парень постарше меня лет на 5 или 6:
- Эй, тебе чего?
- Вы, говорят, мою зачетку нашли…
- А, да, да — парень вышел, почесывая затылок, в коридор. Был он босым, а из одежды на нем была, похоже, только накинутая виде тоги римского патриция, простыня. Я еще подумал: неужели у них в комнатах душ есть, и они не спускаются помыться на первый этаж, или, того хуже, не ходят по этому делу, как мы иной раз, на Гагарина 20. Парень, казалось, был в замешательстве. Он стоял, почесываясь и поправляя, просвечиваемую насквозь светом, бьющим из торцевого окна, простынную накидку, явно туго соображая, что же ему со мной делать. Потом он обратил внимание на пакет в моих руках.
Потом он обратил внимание на пакет в моих руках.
- Так, чего у тебя там? Ну, чего, принес то?
Я показал.
- Ой, — как горько произнес парень, приложившись руками к голове. Я уже присмотрелся к нему получше: вид его, конечно, был несколько помятый.
- Ой, бяда мне с вами, мальчики! — сказал он, шумно пропустив воздух через свои ноздри и сладко потягиваясь, — Лучше бы ты ящик пива принес!
Я уже собирался было повернуться, чтобы идти за пивом, но парень меня остановил:
— Да, ладно, черт с ним, заходи! — сказал он и гостеприимно толкнул передо мной дверь.
Когда я вошел, мне тут же захотелось выйти. Комната была такая же, как и у нас, стол под окном у торцевой стены, четыре койки вдоль боковых. Три постели застелены, а на четвертой, прикрывшись простыней, лежала молодая девушка.
- Я, наверное, не во время…
- Не, в натуре, тебе документ твой нужен или нет? Садись, же говорю, — сказал он, начиная сердиться.
- Это дружок мой, по делу,
— веско разъяснил он девушке без представлений. Он сел за стол, начал рыться в каких то бумагах, не оставив мне выбора: мне пришлось занять стул у изголовья кровати хлопавшей глазами крашеной блондинки моего примерно возраста. Наконец, в руках парня оказалась моя зачетка, я ее сразу узнал.
Он сел за стол, начал рыться в каких то бумагах, не оставив мне выбора: мне пришлось занять стул у изголовья кровати хлопавшей глазами крашеной блондинки моего примерно возраста. Наконец, в руках парня оказалась моя зачетка, я ее сразу узнал.
- Так, фамилия? Имя? Отчество? — Я робко ответил на эти строгие вопросы. — Ну, ладно, — сказал чернявый удовлетворенно, откладывая мою зачетку куда то себе за спину. — Доставай! — обратился он ко мне, и сразу же к подруге: — Ты водку будешь?
- Да ну ее, не хочу, — ответила та капризно.
Я сидел между ними с бутылкой на вытянутых руках.
- Ну, чего ты жмешься, Вован, давай разливай.
- Видете ли, я не пью. Спасибо вам большое, это вам от меня, — промямлил я тихо, выставляя бутылку на стол.
- Ты че, придуряешься? Мне че, больше всех надо что ли? Да мне это не надо, твои ж документы — не мои ж, тебе же вышку получать — не мне же, но так же не делают, надо же полюдски, как принято-положено, — с обидой причитал Павел, зубами надрывая язычок пробки и разливая прозрачную жидкость в стоявшие тут же на столе стаканы.
От сказанных слов мне стало стыдно, а от распространившегося запаха зеленого змия — дурно. Но отступать было некуда — впереди была сессия.
Как я добрался до своего этажа, не помню. Как меня встретили мои, тоже не помню. Но с Пашкой мы потом стали друзьями, работали вместе: он моего научного руководителя возил. Даже жили вместе, все в той же общаге, на Мичурина 10, но это уже после Гагарина 20 было. По возможности — он меня прямо к подъезду подвозил. А пришло время — и я его не раз выручал… и не только трешкой или пятеркой. Я ему про самолеты рассказывал, а он мне про девчонок. А потом я женился. А теперь я стою перед вами и думаю: годы идут, а главное остается. Физтех остается. ФАЛТ остается. Школа жизни.
Владимир Азарт =Владимир Самонов
Под нашими спортивными знаменами(День физкультурника)
Над вами когда-нибудь смеялись десять тысяч человек сразу и так, чтобы взахлеб и до слез? И чтоб вспомнить было не стыдно, а приятно. Со мной такое было. Нет, я не клоун, не выходил на «бис», не уходил под гром аплодисментов, не били мне в лицо лучи софитов, и занавес за мной не закрывался. Вообще-то, я программист. Случившись однажды, история эта живет подобно «иконке» на экране компьютера. Представляете? Живет себе тихо и незаметно, пока рука Судьбы пальчиком Случая не пошевелит, а как пошевелит, так Память-мышка хвостиком нечаянно махнет, какую-то, даже мне неведомую клавишу, заденет — и «иконка» разворачивается в картину, можно даже сказать, в полотно. Полотно с размахом панорамы Микеланджело Антониони, но с цветами знамени сейчас уже всеми забытого Добровольного Спортивного Общества «Урожай»: зеленым и желтым.
Со мной такое было. Нет, я не клоун, не выходил на «бис», не уходил под гром аплодисментов, не били мне в лицо лучи софитов, и занавес за мной не закрывался. Вообще-то, я программист. Случившись однажды, история эта живет подобно «иконке» на экране компьютера. Представляете? Живет себе тихо и незаметно, пока рука Судьбы пальчиком Случая не пошевелит, а как пошевелит, так Память-мышка хвостиком нечаянно махнет, какую-то, даже мне неведомую клавишу, заденет — и «иконка» разворачивается в картину, можно даже сказать, в полотно. Полотно с размахом панорамы Микеланджело Антониони, но с цветами знамени сейчас уже всеми забытого Добровольного Спортивного Общества «Урожай»: зеленым и желтым.
Желтый — цвет лета. Очень жаркого, активно-солнечного, олимпийского лета, мало осознаваемого периода глубокого застоя.
Зеленый — это цвет солдатской формы, которую я тогда надел единственный, надеюсь, — тьфу-тьфу-тьфу — раз, для того, чтобы, проведя два месяца на сборах, сдать там экзамены по военной подготовке и получить за это звание лейтенанта запаса.
Обычно, для истории важно содержание, но у этой главное — форма. Я и мои друзья (студенты одного из московских институтов, главными предметами в котором являются физика и математика), дослуживались до первых в своей жизни званий под Смоленском, в одном авиационном соединении. Наше пребывание здесь, как говорил замполит полка (человек словоохотливый и остроумный), явилось недоношенным плодом непрочного союза Министерства Обороны и Министерства Высшей Школы. Армия активно заявляла о себе, как о высшей школе жизни, а Высшая Школа уступала этому напору только на два месяца. Все понимали, что за два месяца солдатами не становятся, но изо дня в день мы ходили строем, запевая любимую строевую песню «Пусть бегут неуклюже…», отбывали по очереди наряды вне очереди, косили капониры, изучали матчасть (не часть речи, а часть самолета). Когда-то я мог с закрытыми глазами отыскать на огромном металлическом теле красы и гордости нашей тогдашней авиации заветный «крантик»- так называл эту штуку наш прапорщик по прозвищу Борман. Откроешь его — и прольется божественная жидкость, «массандра», антифриз, то есть противообледенительная жидкость, хорошо согревающая и веселящая при внутреннем употреблении личным составом… Больше я вам ничего не скажу — военная тайна. Продолжу главное. Возвращаясь с занятий или нарядов, мы культурно отдыхали от службы: откидывали пологи больших палаток, служивших нам кровом, загорали, перекидываясь в картишки, или играли в футбол прямо перед окнами штаба. Эта большая военная игра была нам не в тягость, но к концу второго месяца стала несколько надоедать, хотелось на волю, дни до «дембеля» считались нами уже так же тщательно, как если бы мы «оттрубили» обычные два года.
Откроешь его — и прольется божественная жидкость, «массандра», антифриз, то есть противообледенительная жидкость, хорошо согревающая и веселящая при внутреннем употреблении личным составом… Больше я вам ничего не скажу — военная тайна. Продолжу главное. Возвращаясь с занятий или нарядов, мы культурно отдыхали от службы: откидывали пологи больших палаток, служивших нам кровом, загорали, перекидываясь в картишки, или играли в футбол прямо перед окнами штаба. Эта большая военная игра была нам не в тягость, но к концу второго месяца стала несколько надоедать, хотелось на волю, дни до «дембеля» считались нами уже так же тщательно, как если бы мы «оттрубили» обычные два года.
И вот в один из таких дней, будучи дежурным по учебному корпусу, после занятий я вернулся в расположение нашей роты позднее других. Вернувшись, обнаружил вместо обычной тишины заслуженного отдыха оживленную суету. Мои друзья выскакивали из палаток и, на ходу поправляя амуницию, бежали к огромному «Уралу» с закрытым брезентом кузовом, стоявшему неподалеку. Вскоре удалось выяснить, что отбирают 30 человек спортсменов, но куда повезут — оставалось загадкой. Я подбежал к машине, когда отсчет был закончен: 29, 30. Наш взводный (Валентин) попытался остановить меня: — Ты куда? Полна уже коробочка, — но его сопротивление было сломлено: Да, ладно тебе, Валик, одним больше, одним меньше! — я кинулся на борт кузова, как Валерий Брумель на рекордную высоту. Перенося через дощатую планку свое легкое еще в те годы тело (по три килограмма на каждый год из всех прожитых мною лет), почувствовав, наверное, что лечу в историю, я улыбнулся своему веселому будущему. Друзья приняли меня в свои объятья как победителя.
Вскоре удалось выяснить, что отбирают 30 человек спортсменов, но куда повезут — оставалось загадкой. Я подбежал к машине, когда отсчет был закончен: 29, 30. Наш взводный (Валентин) попытался остановить меня: — Ты куда? Полна уже коробочка, — но его сопротивление было сломлено: Да, ладно тебе, Валик, одним больше, одним меньше! — я кинулся на борт кузова, как Валерий Брумель на рекордную высоту. Перенося через дощатую планку свое легкое еще в те годы тело (по три килограмма на каждый год из всех прожитых мною лет), почувствовав, наверное, что лечу в историю, я улыбнулся своему веселому будущему. Друзья приняли меня в свои объятья как победителя.
Полтора месяца околоармейской жизни все-таки сказались. Словно завороженные мы тихо сидели на лавках и смотрели в незачехленный проем кузова, наблюдая как разворачивается ковровой дорожкой асфальтовое полотно с убегающими вдаль стежками телеграфных столбов, как стелятся по бокам салатовые скатерти еще не созревших хлебных полей, обрамленных узорчатой вышивкой деревьев, как блестит голубым атласом лента речушки, сначала безымянной, но через несколько секунд нареченной, позабытым уже сейчас именем с надписи на указателе. Пахло дымком местных сигарет, крылья брезентового полога изредка хлопали, как большие стертые ладони, выражая за нас тихий восторг удовлетворения зрелищем.
Пахло дымком местных сигарет, крылья брезентового полога изредка хлопали, как большие стертые ладони, выражая за нас тихий восторг удовлетворения зрелищем.
Ехали долго. Наконец, въехали в какой-то населенный пункт и вскоре остановились. Было слышно, как хлопнула дверь кабины, кто-то куда-то побежал, потом машина резко дернулась, развернулась, и водитель заглушил двигатель. Команды выходить не было. Я сидел у самого борта с краю, прямо перед глазами видел красную кирпичную стену и светлую мраморную доску со стихами:
«И еще доволен я,
Хоть смешна причина,
Что на свете есть моя
Станция Починок».
Высунув голову из кузова, я сначала подтвердил наше местоположение: «Вокзал. Починок», — затем прочитал вслух текст под стихами о том, что А.Т. Твардовский здесь тогда-то учился. »Ну и что же здесь смешного?» — спросил кто-то из товарищей. Вопрос был риторическим, но был таким недолго. Ответ уже зрел. Через некоторое время дверь кабины опять хлопнула, мотор завелся, и мы поехали, но недалеко, не выезжая за пределы городка, скоро остановились, и на этот раз сразу прозвучала команда: «Выходи строиться!»
Когда я спрыгнул на землю и, разгибая, истомленное долгим сидением тело поднял голову вверх, то первым посетившим меня чувством был испуг, вторым было слово, и слово было: «Воздух». Я его хотел крикнуть, но, видимо, от неожиданности увиденного, мои голосовые связки недостаточно точно выразили интонацию момента. «Да-а! Воздух — класс!» — засопел ноздрями рядом стоящий дружок. Однако, что не услышало ухо — увидел глаз. И вот уже все мы стоим, запрокинув головы. В синем чистом небе висел маленький зеленый, как будто игрушечный, самолетик, из него сыпались черные горошины, которые разворачивались и превращались в разноцветные лоскуты. Десант. Это был десант. Из охватившего всех оцепенения нас вывели повторная команда строиться и… аплодисменты.
Я его хотел крикнуть, но, видимо, от неожиданности увиденного, мои голосовые связки недостаточно точно выразили интонацию момента. «Да-а! Воздух — класс!» — засопел ноздрями рядом стоящий дружок. Однако, что не услышало ухо — увидел глаз. И вот уже все мы стоим, запрокинув головы. В синем чистом небе висел маленький зеленый, как будто игрушечный, самолетик, из него сыпались черные горошины, которые разворачивались и превращались в разноцветные лоскуты. Десант. Это был десант. Из охватившего всех оцепенения нас вывели повторная команда строиться и… аплодисменты.
К моменту, когда наша группа, ожидая приказов, стояла построенная в две шеренги, массивное тело «Урала» отползло, недовольно фыркая, в сторону, занавес раскрылся, и наше положение в пространстве отчетливо определилось. Мы находились позади трибун небольшого, но почти полностью заполненного людьми стадиона. Трибуны были невысоки, но все же выше человеческого роста, их кольцо не было сплошным, и нам была хорошо видна часть футбольного поля с зеленой травой.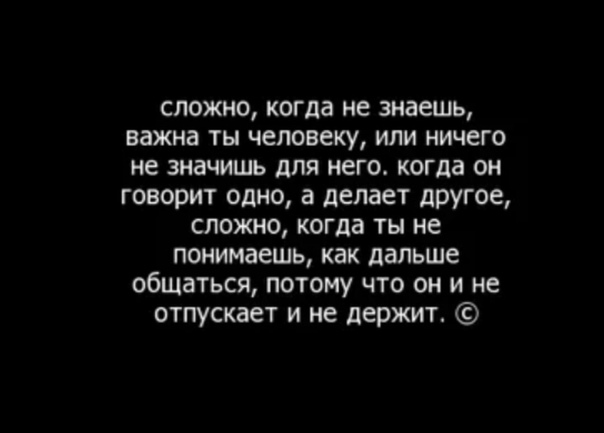 Шла поверка, до моей фамилии дошли в тот момент, когда на поле выступала всадница на вороном коне. Конь был с белыми «чулочками», всадница в белых, обтягивающих крепкие ноги, лосинах, в черном фраке и в черном, как у трубочиста, цилиндре. Лицо девушки, было совсем не брюлловское: круглое, румяное, с озорными веселыми глазами. Смотрели те глаза на меня. Но тут пришла моя очередь крикнуть: Я! Вскоре поверка была закончена, и мы пошли.
Шла поверка, до моей фамилии дошли в тот момент, когда на поле выступала всадница на вороном коне. Конь был с белыми «чулочками», всадница в белых, обтягивающих крепкие ноги, лосинах, в черном фраке и в черном, как у трубочиста, цилиндре. Лицо девушки, было совсем не брюлловское: круглое, румяное, с озорными веселыми глазами. Смотрели те глаза на меня. Но тут пришла моя очередь крикнуть: Я! Вскоре поверка была закончена, и мы пошли.
Боевую задачу нам разъяснил молодой лейтенант, замполит батальона, с глазами близко посаженными к переносице, как две его звездочки к голубой полоске на погоне. «Вы находитесь на стадионе города Починок (это мы уже знали). Сегодня здесь открывается Всесоюзная Спартакиада спортивного общества «Урожай». Руководство области обратилось к командованию нашего гарнизона за помощью, а командование доверило ее осуществление вам. Будете знаменосцами, пойдете в голове парада. Спортивную форму и знамена сейчас принесут. Начало торжественного марша через 40 минут. Парад будет снимать телевидение. Дело серьезное. Все ясно?»
Парад будет снимать телевидение. Дело серьезное. Все ясно?»
Поначалу было ясно все. В ожидании можно было покурить и подумать о том, что приятно ощущать себя избранным. На всю область мы оказались самыми спортивными (особенно я) солдатами с высоким идейно-политическим и интеллектуальным уровнем подготовки. «Вы из Москвы и служите недолго» — вот еще одна из причин, определивших выбор начальства. Наконец, принесли знамена — красивые разноцветные полотнища. Народ кинулся разбирать кому что нравится: «Спартак», «Динамо», «Буревестник», «ЦСКА», «Урожай», флаги республик, родов войск. Мне достался «Зенит». Вместе со знаменами принесли форму: белые трусы, белые майки, белые полукеды — все чистенькое и свежее. Но с этой то белизной и возникли проблемы.
Здесь придется сделать отступление не лирическое, а, скорее, теоретическое. Знаете ли Вы, что является законом армейской жизни? — Законом армейской жизни является: правильно, УСТАВ! Каковы основные положения УСТАВА? Основные положения УСТАВА есть: первое — подчинение командирам — верно, второе — дисциплина для всех — точно, третье. .. третье…, ну, третье — это единообразие во всем, — правильно! На первых двух принципах останавливаться здесь не будем, так как это вещи естественные и необходимые Армии, как государству — Конституция, Конституции — Президент, а Президенту — Дума, понимаешь. Силу же и преобразующее действие Единообразия поясним на примере. Даю вводную: сотня юных бойцов из веселой Москвы послужить под Смоленск прикатила. Что мы собой представляли тогда в целом? В целом — ничего. Кем мы были? Ноликами нестрижеными. А кем мы стали, когда каждого подвели под одну гребенку после чистилища солдатской бани? Мы стали боевым расчетом (раз, два,…29, 30,… 99,100), стали боевой единицей. Почему сумма стриженых ноликов дает единицу, а сумма нестриженых не дает? Оказывается, дело в Единообразии, дающем разнообразно-хаотичному внутреннему содержанию каждого индивидуума единую форму, простую и строгую. Наша форма была, ко всему прочему, уникальной, в гарнизоне в такой ходили только мы. Как ее сумели сохранить интенданты-каптерщики — останется загадкой навсегда, но факт остается фактом: мы надели форму образца 1943 года, и когда мы «шли по городу, по незнакомой улице», к нам подходили женщины, всучивали кто что мог: помидоры, хлеб, ягоды, молоко — уж больно вид у нас был трогательный, все были уверены, что мы снимаемся в кино про войну.
.. третье…, ну, третье — это единообразие во всем, — правильно! На первых двух принципах останавливаться здесь не будем, так как это вещи естественные и необходимые Армии, как государству — Конституция, Конституции — Президент, а Президенту — Дума, понимаешь. Силу же и преобразующее действие Единообразия поясним на примере. Даю вводную: сотня юных бойцов из веселой Москвы послужить под Смоленск прикатила. Что мы собой представляли тогда в целом? В целом — ничего. Кем мы были? Ноликами нестрижеными. А кем мы стали, когда каждого подвели под одну гребенку после чистилища солдатской бани? Мы стали боевым расчетом (раз, два,…29, 30,… 99,100), стали боевой единицей. Почему сумма стриженых ноликов дает единицу, а сумма нестриженых не дает? Оказывается, дело в Единообразии, дающем разнообразно-хаотичному внутреннему содержанию каждого индивидуума единую форму, простую и строгую. Наша форма была, ко всему прочему, уникальной, в гарнизоне в такой ходили только мы. Как ее сумели сохранить интенданты-каптерщики — останется загадкой навсегда, но факт остается фактом: мы надели форму образца 1943 года, и когда мы «шли по городу, по незнакомой улице», к нам подходили женщины, всучивали кто что мог: помидоры, хлеб, ягоды, молоко — уж больно вид у нас был трогательный, все были уверены, что мы снимаемся в кино про войну.
Галифе — очень удобная форма, скажу я вам. Внутренняя полость, изнанка, этого модного когда-то фасона, была одним сплошным карманом. Мы, физики-экспериментаторы, тщательно исследовали его объемно-емкостные свойства. Результаты говорят сами за себя: один курсант мог вынести все необходимое на троих в количестве, от которого мало не покажется, и при этом он мог стоять правофланговым и даже пройти, после некоторой тренировки, строевым шагом, приветствуя командира. Галифе — это только внешняя сторона дела, а в нашем случае, тела солдата. Принцип армейского единообразия вездесущ и всепроникающ. Что у нас было под галифе? Под ними у нас всех были солдатские кальсоны, прошу прощения за такие пикантные подробности. Все знают, что это такое? Хорошо. А я тогда надел их впервые. Белье, похоже, тоже образца 1943 г., было добротным, удобным, теплым и справно нам служило, до тех пор, пока мы не оказались вот на этом спортивном празднике. Здесь вышел конфликт между кальсонами и спортивными трусами. Вовка Михайлов, которого, видимо, за габариты, как у профессионалов из НХЛ, все звали «Бостон» (ударение на первом слоге), приложил изящные белые трусики поверх своих сероватых кальсон и обратился к нашему «старшему»: Ну, как, товарищ лейтенант, пойдет? — Тот долго соображал, в чем дело, но все же сообразил: — А без них можно? — Без чего, без трусов? — Нет, без кальсон. — Сейчас попробуем. — Вовка быстро сначала разоблачился, а затем предстал во всей спортивной красе. Замполит повернул его направо, налево и кругом, заставил пройти строевым, присесть 10 и отжаться от пола 20 раз, а после всего заключил: — Нормально. Не видно ничего, переодевайтесь. — В раздевалке сразу стало весело и шумно. Приятно было стянуть с себя надоевшие сапоги, развернуть пропитанные потом портянки, сменить слишком теплые в такое жаркое лето гимнастерки на ослепительно белые легкие майки. Опять началась суета со знаменами. Уже выбегая на построение, я не обнаружил своего «Зенита», пришлось довольствоваться «Урожаем».
Вовка Михайлов, которого, видимо, за габариты, как у профессионалов из НХЛ, все звали «Бостон» (ударение на первом слоге), приложил изящные белые трусики поверх своих сероватых кальсон и обратился к нашему «старшему»: Ну, как, товарищ лейтенант, пойдет? — Тот долго соображал, в чем дело, но все же сообразил: — А без них можно? — Без чего, без трусов? — Нет, без кальсон. — Сейчас попробуем. — Вовка быстро сначала разоблачился, а затем предстал во всей спортивной красе. Замполит повернул его направо, налево и кругом, заставил пройти строевым, присесть 10 и отжаться от пола 20 раз, а после всего заключил: — Нормально. Не видно ничего, переодевайтесь. — В раздевалке сразу стало весело и шумно. Приятно было стянуть с себя надоевшие сапоги, развернуть пропитанные потом портянки, сменить слишком теплые в такое жаркое лето гимнастерки на ослепительно белые легкие майки. Опять началась суета со знаменами. Уже выбегая на построение, я не обнаружил своего «Зенита», пришлось довольствоваться «Урожаем». Народу в парадной колонне собралось порядочно. Стадион подходил тыльной своей стороной вплотную к лесу, может быть, это был парк, но выглядел он достаточно дремуче. Построение шло на опушке среди сосен и елей на дорожке, засыпанной хвоей и шишками. Нам уже конкретно поставили задачу: — Идем в голове парада в шеренгу по четыре, дистанция между рядами два метра, равнение направо, правый локоть на уровне подбородка, левый кулак — на уровне пупка, проходим круг и встаем по центру поля, ясно? — Так точно! — Вольно, разойдись!
Народу в парадной колонне собралось порядочно. Стадион подходил тыльной своей стороной вплотную к лесу, может быть, это был парк, но выглядел он достаточно дремуче. Построение шло на опушке среди сосен и елей на дорожке, засыпанной хвоей и шишками. Нам уже конкретно поставили задачу: — Идем в голове парада в шеренгу по четыре, дистанция между рядами два метра, равнение направо, правый локоть на уровне подбородка, левый кулак — на уровне пупка, проходим круг и встаем по центру поля, ясно? — Так точно! — Вольно, разойдись!
Разошлись надолго, что-то там не ладилось, или ждали кого. Некоторые наши успели раза по три «стрельнуть» покурить, самые смелые и заводные веселили девчонок-спортсменок в ярких купальниках, но большинство, среди которого находился и я, тихо переживало особенное внутреннее состояние. Похожее, наверное, чувство возникает, когда искупаешься нагишом среди бела дня в прохладных водах дикой реки, ощутив себя единственным сотворенным в этом мире человеком. Мы дремали в тени огромных елей, ветер гулял по опушке, приводя в трепет полотнища поставленных шалашиком знамен.
Гром прогрохотал неожиданно и резко вместе с командой: Парад, становись! Все вскочили, толкаясь, построились, хрипло грянул оркестр, и колонна тронулась. Черная туча, как большой партизанский отряд, резко выскочила из-за леса и стала стремительно наползать на синее небо и белые облака, но убегающее на запад солнце ей было не доступно, и поэтому все дальнейшее происходило на фоне феерического, как мне сейчас кажется, освещения. Как только наша группа вступила на гаревую дорожку стадиона, ливанул дождь. Как из ведра, как из сотни брандспойтов сразу. А дальше, как в клипе (тогда мы слов-то таких не знали). У меня на глазах спортивная форма Бостона становится абсолютно прозрачной. Опустил глаза, вижу — бог ты мой! Команда взводного: ряды сомкнуть, знамена приспустить! — чуть запоздала (левый кулак и так уже на две ладошки ниже заданной высоты), но последующая — равнение направо! — заставляет повернуть голову и увидеть кровавые разводы на щеке товарища, зеленые струйки на собственном плече и локте, все еще остающемся на должном уровне. Догадка, что это сходит краска со знамен, приходит не сразу, вместе с ней, в тоже мгновение мозг выделяет какой-то рокот. Это не раскаты грома, это не вода под ногами пузырится, не знамена хлопают на ветру. Это хохот. Взгляд пробился сквозь призмы серебряных струй и сфокусировался на трибунах. Там очень много народу, очень. Кто-то под пестрыми зонтиками, кто-то пытается укрыться плащами, газетой, сумкой, но все с раскрытыми ртами, с закатывающимися глазами. Все хохочут взахлеб, до слез, до упаду. Смеются над нами, понятно! Очень много женщин, их звонкий смех выделяется, они себя не сдерживают. Я оглядываюсь и замечаю, что и мы все смеемся, все чумазые, разноцветные, голые, мокрые, но знамена никто ниже необходимого не опустил, некоторые, наоборот, вернули их на прежнюю высоту. Мы прошли на один круг больше. Не по сценарию, на бис. Для истории. Операторы сначала прекратили снимать, руки были заняты — держались за животы, но потом запечатлели наш круг почета; в эфир, я думаю, это не пошло.
Догадка, что это сходит краска со знамен, приходит не сразу, вместе с ней, в тоже мгновение мозг выделяет какой-то рокот. Это не раскаты грома, это не вода под ногами пузырится, не знамена хлопают на ветру. Это хохот. Взгляд пробился сквозь призмы серебряных струй и сфокусировался на трибунах. Там очень много народу, очень. Кто-то под пестрыми зонтиками, кто-то пытается укрыться плащами, газетой, сумкой, но все с раскрытыми ртами, с закатывающимися глазами. Все хохочут взахлеб, до слез, до упаду. Смеются над нами, понятно! Очень много женщин, их звонкий смех выделяется, они себя не сдерживают. Я оглядываюсь и замечаю, что и мы все смеемся, все чумазые, разноцветные, голые, мокрые, но знамена никто ниже необходимого не опустил, некоторые, наоборот, вернули их на прежнюю высоту. Мы прошли на один круг больше. Не по сценарию, на бис. Для истории. Операторы сначала прекратили снимать, руки были заняты — держались за животы, но потом запечатлели наш круг почета; в эфир, я думаю, это не пошло.
Память — штука двоичная: не помню — ноль, а помню — единица. У всех, кого коснулась эта история, теперь свое виденье событий, свой набор ноликов и единиц. Люди стареют медленнее компьютеров, но память их ненадежна, годы берут свое: адресация нарушается. Но ведь где-то на полке лежит эта пленка, а в ней такая массовка, так много смеха и молодости. Я бы с удовольствием ее посмотрел, сравнил впечатления.
Владимир Азарт.
Тренер по жизни
Владимир Азарт
А.И. Полунину с благодарностью
Старший брат вечером прилетел крестить своего годовалого племянника, уважив тем самым просьбу младшего: — Ну, найди момент, очень мы хотим, чтобы ты крестным был, и мама тебя все ждет, не дождется. Сидели уже не первый час, сначала всей семьей за большим столом, потом братья остались вдвоем на кухне. Женщины, мать и жена брата, покинули их, уводя детей укладываться на боковую, а теперь, видимо, решили дать мужикам поговорить. Времени у них было немного — две ночи и день. Привезенная из столицы бутылочка была уже уговорена. Почали новую, местную — «Губернскую».
Времени у них было немного — две ночи и день. Привезенная из столицы бутылочка была уже уговорена. Почали новую, местную — «Губернскую».
Они были разными. Разница эта была большой не только по возрасту. Старший был высоким и худощавым, а младший — среднего роста и крепко сбитым. Старший был подвижным и даже несколько суетливым, когда нервничал, младший — с виду само степенство и спокойствие. Старший, окончив школу с медалью, уехал продолжать учение в Москву, а младший остался доволен и похвальной грамотой. Правда, пришло время — он тоже покинул отчий дом, но уехал учиться в соседний город, где его после первого курса призвали в армию. Из Афгана младшему пришлось вернуться и остаться в родных стенах, поддержать матушку, так как отца к тому времени уже не стало: сгорел батя в переживаниях за сына; у врачей, как водится, диагноз был другой — рак.
При всей видимой разнице и непохожести по отдельности, вместе братья подходили друг другу, как соседние частички одной большой семейной фотографии, разбитой на фрагменты, «паззлы», плотно соприкасаясь по очень замысловатому рисунку, очерченному жизнью. Действие силы кровного родства и обоюдного притяжения никогда не прерывалось, несмотря на расстояние в тысячу с лишним верст, их разделявшее, иногда сводя братьев вместе: то по поводу серьезных событий в семьях, то для совместных заработков, то просто в отпуск, что с приходом новых времен случалось редко. Было у них и еще одно общее по духу: будучи людьми, причастными когда-то в разной степени к спорту (опять же разному: старший любил бегать, но за неимением соответствующей секции, занимался лыжами, а младший увлекся боксом, а потом еще и мини-футболом), теперь они стали рьяными болельщиками, заразив этим своих домашних. Когда разговор перевалил за полночь, были уже обсуждены и резкий взлет «Крыльев», и футбольный бум в родном городе по поводу этого, и последние матчи сборной, на которые старший ходил вместе с сыном, а один раз даже уговорил пойти жену, футбол не любившую; ей понравилось.
Действие силы кровного родства и обоюдного притяжения никогда не прерывалось, несмотря на расстояние в тысячу с лишним верст, их разделявшее, иногда сводя братьев вместе: то по поводу серьезных событий в семьях, то для совместных заработков, то просто в отпуск, что с приходом новых времен случалось редко. Было у них и еще одно общее по духу: будучи людьми, причастными когда-то в разной степени к спорту (опять же разному: старший любил бегать, но за неимением соответствующей секции, занимался лыжами, а младший увлекся боксом, а потом еще и мини-футболом), теперь они стали рьяными болельщиками, заразив этим своих домашних. Когда разговор перевалил за полночь, были уже обсуждены и резкий взлет «Крыльев», и футбольный бум в родном городе по поводу этого, и последние матчи сборной, на которые старший ходил вместе с сыном, а один раз даже уговорил пойти жену, футбол не любившую; ей понравилось.
— Слушай, а где сейчас Юрок, помнишь, в нашем доме жил в соседнем подъезде на пятом этаже?
— Посадили Юрка за криминал, рэкет.
— Ничего себе! Он же хорошим борцом был — все время что-то выигрывал или в призеры входил.
— Был да сплыл, его уже давно в другую сторону потянуло: в бои без правил.
—
— Да, дела…
— Ты чего загрустил?
— Да, так… знаешь, как меня еще иногда друзья называют?
— ???
— Боёк. А знаешь, кто мне бойцовские качества первый привил?
— Отец, наверное.
— Ну, батя, конечно, тоже, но всё же руки к этому сначала Юрок приложил.
— Что-то я эту историю не помню, расскажи!
— Мне лет десять было, а тебе, соответственно, два. Я думаю, что это матушка отца подговорила: отведи сына в секцию спортивную, а то он у нас уж больно робок, но только, чтоб по голове не били, не бокс чтобы. Приходим с батей на стадион, заходим в спортивный зал, а там как раз под одним баскетбольным кольцом канаты натянуты, груши висят и пацаны на скакалках скачут, а под другим кольцом маты расстелены, рядом с ними ватага мальчишек слушает высокого, широкоплечего человека в очках на резинке. Что-то он им сказал, и они, выстроившись гуськом, побежали вокруг зала. Отец подошел к очкастому, о чем-то с ним немного поговорил и меня подзывает.
Что-то он им сказал, и они, выстроившись гуськом, побежали вокруг зала. Отец подошел к очкастому, о чем-то с ним немного поговорил и меня подзывает.
— — Ну что, Владимир, хочешь борьбой заниматься?
— Можно…
— Ладно, сейчас поглядим. Мелконян! Иди сюда. –
Я обмер. Из головы бегущей сороконожки к нам устремился Юрок. Мой враг. Он года на три меня младше был -да?, почти на голову ниже, но во дворе я старался с ним не сталкиваться — ничего хорошего это не сулило. Смуглый, крепкий и юркий, как зверёк, и он всё время задирался.
— Так они же южане, они к нам после страшного землетрясения переехали, к родне — Юрок говорил.
— Точно! Ну, так вот — говорит этот, очки на резиночке, тренер, словом, — я тебя возьму, если его — и на Юрка показывает — на лопатки положишь, идёт?
Я смотрю на отца, тот кивает: надо! — а у меня голова опускается и слёзы наворачиваются, была такая слабость.
— Ну так что, не будешь бороться?
-Бу-ду-у-у!
— Тогда выходим на середину! Так, борьба у нас классическая, без подножек! Юрок, аккуратнее! — Юрок кивнул, улыбаясь, стал в стойку: лев готовится к прыжку. — Начали!
— Начали!
Пыль взметнулась, я моргнуть не успел, а уже лежу припечатанный на обе свои выпирающие лопатки (отец как-то спросил — это у тебя что, крылья, что ли растут?). — Встали! — командует тренер, — продолжим, или как? — смотрит вопросительно сначала на меня, потом на отца. Батя ко мне подбежал, отряхивает, волосы ерошит, по плечу прихлопывает, в ухо шепчет: — Ничего, ничего, Вовкин, вставай! — Продолжаем? — Да — ответил я тренеру сквозь слезы. Где-то на третий или четвертый раз моего падения я сильно разозлился. На себя, на гогочущих пацанов, на отца, который предложил безнадежным голосом: — Может, хватит? — на очкастого, который безучастно смотрел на мои слезы и только спрашивал: — Продолжаем? Вскоре он спрашивать перестал. Как заводной я вскакивал после очередной неудачной попытки, готовый противостоять моему сопернику снова. Я уже ни чего кроме этих черных наглых, мне казалось, глаз не видел, ничего не слышал кроме многоголосного счета своих поражений: шестнадцать! семнадцать! восемна… Я это число до сих пор помню! В восемнадцатой схватке я оказался сверху! Как — сам не понял! Только услышал: Туше! Всё закончили! — Юрок удивленно таращился на меня, кто-то крикнул: — Не правильно, он подножку ставил! — Но тренер отвел все протесты: — Всё по правилам, кончили с этим, продолжаем тренировку, ну-ка, еще три круга, все кроме Юрка. Юрок, сходи умойся! А ты, — обращаясь уже ко мне, — приходи в ближайшую среду к 18-00, идет? — Сил у меня не было даже на кивок, за меня ответил отец: — Он придет, в среду в 6 — придет. Вот так.
Юрок, сходи умойся! А ты, — обращаясь уже ко мне, — приходи в ближайшую среду к 18-00, идет? — Сил у меня не было даже на кивок, за меня ответил отец: — Он придет, в среду в 6 — придет. Вот так.
— А что-то я не помню у нас такого тренера по борьбе: высокого, в очках…
— А он недолго у нас секцию вел. Полгода не прошло, приходим как-то на тренировку, а нам говорят: всё занятий больше не будет! — Почему? — По кочану! Тренер уехал, другого пока нет. — Другого так и не нашлось, ребята разбрелись кто куда: кто в бокс, кто в хоккей, а мне не куда было; если честно, то больше всего мне нравилось на наших тренировках легкоатлетическая разминка, я, наверное, тогда это впервые осознал, что мне нравится бегать; но такой секции у нас не было.
— Это тогда Юрок в дзю-до ушел?
— Нет, это позже, даже не знаю когда, наверное, когда я в Москву уехал, потому что до этого мы вместе в одной дворовой команде в футбол играли, сдружились, кстати… Вот скажи, чего ему не хватило?
— Ума.
— Умными-то не рождаются, мы в детстве все в одной весовой категории были. Я был старше, но умнее не был. Думаю так: тренеры по спорту у него нормальные были, а вот по жизни таковых не оказалось. Я часто об этом размышлять стал. Тут недавно собирались курсом, юбилей выпуска праздновали — знаешь — я тебе по телефону говорил. На лекции в таком многочисленном составе редко ходили: больше чем полкурса пришло народу, преподавателей позвали. И встретил я там одного человека, которого давно знаю, давно не видел, но все время помнил… А познакомились так.
Я был старше, но умнее не был. Думаю так: тренеры по спорту у него нормальные были, а вот по жизни таковых не оказалось. Я часто об этом размышлять стал. Тут недавно собирались курсом, юбилей выпуска праздновали — знаешь — я тебе по телефону говорил. На лекции в таком многочисленном составе редко ходили: больше чем полкурса пришло народу, преподавателей позвали. И встретил я там одного человека, которого давно знаю, давно не видел, но все время помнил… А познакомились так.
Я первокуром был, по физике-математике экзамены еще были впереди, а по физподготовке уже надо было нормы ГТО сдать. Все сдавали их в один день на самом большом в городе стадионе. Кто бы ты ни был: студент, рабочий, летчик-испытатель — приходи, когда хочешь, записывайся на любой вид и — скорее, дальше, больше! Народу полно: кто-то сдает, кто-то принимает, кто-то смотрит; знамена полощутся, музыка играет — просто праздник! Погода на удивление: октябрь, но тепло, солнечно. Я тогда впервые на этот стадион попал. Симпатичное такое сооружение, сталинской архитектуры. Центральные трибуны по краям обрамлены ротондами, ну, такие беседки с колоннами. А еще запомнился запах: сильно хвоей пахло. Присмотрелся, вижу: стадион одним боком в настоящий сосновый бор выходит, потом оказалось, что это кусочек городского парка такой — просто нетронутый лес. С утра дождичек прошел — вот и благоухает. Записался я сразу на сто, длину, высоту и тыщу: чего, думаю, тянуть. Слышу, стартер сотки выкрикивает мою фамилию. На старт! Внимание! Марш! Прибежал третьим, но что меня поразило — не только старт с колодок и по выстрелу — круто! — так еще и хронометристы, я их секундантами называл, на каждой дорожке стояли. Финишировал — тебе уже через три секунды результат: 12 и 8. Нормально, для меня нормально — я ж в школе, без колодок и стартового пистолета, из 13-ти не выбегал. Только дух перевел, слышу на планку меня зовут, солидно так в матюгальник, в мегафон то есть: такой то, такой то, высота метр сорок, или сколько я там прыгал? — не помню, — первая попытка! Кричу: — готов! — и прямо с гаревой дорожки разбегаюсь, толкаюсь, а дальше, как у Высоцкого — «во рту опилки, слезы из-под век».
Центральные трибуны по краям обрамлены ротондами, ну, такие беседки с колоннами. А еще запомнился запах: сильно хвоей пахло. Присмотрелся, вижу: стадион одним боком в настоящий сосновый бор выходит, потом оказалось, что это кусочек городского парка такой — просто нетронутый лес. С утра дождичек прошел — вот и благоухает. Записался я сразу на сто, длину, высоту и тыщу: чего, думаю, тянуть. Слышу, стартер сотки выкрикивает мою фамилию. На старт! Внимание! Марш! Прибежал третьим, но что меня поразило — не только старт с колодок и по выстрелу — круто! — так еще и хронометристы, я их секундантами называл, на каждой дорожке стояли. Финишировал — тебе уже через три секунды результат: 12 и 8. Нормально, для меня нормально — я ж в школе, без колодок и стартового пистолета, из 13-ти не выбегал. Только дух перевел, слышу на планку меня зовут, солидно так в матюгальник, в мегафон то есть: такой то, такой то, высота метр сорок, или сколько я там прыгал? — не помню, — первая попытка! Кричу: — готов! — и прямо с гаревой дорожки разбегаюсь, толкаюсь, а дальше, как у Высоцкого — «во рту опилки, слезы из-под век». Нет, слез не было, сбил — и ладно, в следующий раз возьму. Да и некогда мне переживать — уже на длину вызывают. Не успел даже разбег подобрать, положил только подвернувшийся камешек на место начала разгона, как учили, и — ходу! Доска толчковая хорошая там была, широкая и заметная, но с первого раза я на нее не попал — недоступ! Смотрю, как прыжок замеряют, стою отряхиваюсь — 5.10 — Нормальненько! И это с недоступом! Стало мне весело, азартно. А уже на вторую попытку в высоту зовут. Бегу. Прыгаю — есть!
Нет, слез не было, сбил — и ладно, в следующий раз возьму. Да и некогда мне переживать — уже на длину вызывают. Не успел даже разбег подобрать, положил только подвернувшийся камешек на место начала разгона, как учили, и — ходу! Доска толчковая хорошая там была, широкая и заметная, но с первого раза я на нее не попал — недоступ! Смотрю, как прыжок замеряют, стою отряхиваюсь — 5.10 — Нормальненько! И это с недоступом! Стало мне весело, азартно. А уже на вторую попытку в высоту зовут. Бегу. Прыгаю — есть!
— А каким вы тогда прыгали, фесбори?
— Там ребята были нормальные — в трусах — они уже прыгали фесбори, а я — в выцветших трениках с вытянутыми коленками — и не перекатом даже, а ножницами обычными. Но, надо сказать, таких тоже было немало. Ну, так вот, скачу кузнечиком между двумя секторами, но тут состав очередного забега на тысячу метров объявляют. Человек двенадцать набралось, и я в том числе. Бегу на старт, прыжки бросил: норматив есть — и хватит. А бегать я всегда больше любил, и чем дальше — тем больше. Это от мамы, что ли пошло? Она же у нас чемпионкой области по лыжам среди девушек была, знаешь?
Это от мамы, что ли пошло? Она же у нас чемпионкой области по лыжам среди девушек была, знаешь?
— Конечно.
— Ну, что же, с места — в карьер. Я за спинами засиживаться никогда не любил, а тут, какая тактика? — все незнакомые, в общем, чуть подержался в группе и — вперед и с песней! Я, когда бегу и до финиша еще далеко, обязательно мотив какой-нибудь напеваю. Я его не выбираю, он сам приходит на старте, под настроение, под дистанцию — не знаю как. Ту песню я запомнил: «…был час пик, бежали все куда-то…» — Леонтьев её пел. Когда я последнего обгонял, на первую дорожку выходя, одной ногой — случайно — в лужу попал, брызги все в него и ушли. У- ё! — слышу за спиной, прибавил — от греха. В начале второго круга, чувствую — «сажусь», слишком быстро, допрыгался! Начался терпеж. Мы, люди периферии, терпеть умеем, но терпи, не терпи, а ноги не бегут, и уже в спину уже дышат. И тут я слышу на предпоследнем вираже: — Делай хилого, он сдох! — Зря это они. Силы меня почти оставили, но слух еще не отказал: я понял, что хилым поминали меня. Злость околоспортивная кнутом стеганула по спине: из виража вылетел, как камень из пращи, рванув что было духу. Очнулся от удара резкого запаха в ноздри. У бровки. За финишной чертой. Вокруг люди суетятся. Мне даже неловко стало.
Злость околоспортивная кнутом стеганула по спине: из виража вылетел, как камень из пращи, рванув что было духу. Очнулся от удара резкого запаха в ноздри. У бровки. За финишной чертой. Вокруг люди суетятся. Мне даже неловко стало.
— Какой я? — спрашиваю.
— Второй, — говорят.
— Да? Что-то я не помню никого впереди себя.
Обидно. Сижу, в себя прихожу. И тут подходит ко мне он: такой невысокий, складный, с острым взглядом — и обращается на «вы».
— Как себя чувствуете?
— Ничего, нормально, спасибо.
— Бегом занимались раньше?
— Специально нет, так — за школу бегал.
— Приходите ко мне в секцию легкой атлетики.
— Не-а, не могу.
— Почему?
— Да я уже записан и занимаюсь.
— Чем же, если не секрет?
— Альпинизмом!
— Ну, вам для альпинизма атлетизма не хватает.
— А я легкий такой атлет.
— Да, я заметил, как вы тут Хлестаковым скакали.
— ??
— Ну, помните, в школе же проходили, Иван Александрович говаривал про себя: «легкость в мыслях необыкновенная!». У вас, видится мне, такая же в движениях. Вы мне верьте, я человек опытный и знающий свое дело, и людей способных замечаю по весьма малозаметным деталям.
У вас, видится мне, такая же в движениях. Вы мне верьте, я человек опытный и знающий свое дело, и людей способных замечаю по весьма малозаметным деталям.
— Каким, например?
— Ну, во-первых, по вашей «скачущей» походке, во-вторых, кроссовки у вас стоптаны показательно.
Я удивленно осмотрел подошвы своих стоптанных на один бок спортивных тапочек.
— Что тут можно понять?
— Знающий человек может. Ну, так что же, придете?
Не пошел я. В самом деле, очень мне нравилось в альпсекции. Впечатлили слайды из походов бывалых, гор-то я никогда не видел настоящих, опять же ребята там подобрались душевные, веселые, на гитарах играющие. Романтики, словом. А потом, я же всегда был, ты ведь знаешь, человеком коллектива, друзья меня позвали — я пошел. И бегал там в удовольствие много на тренировках, как у нас здесь, дома, в «лыжке». Но с тренером этим я все же пересекся.
Оказалось, что он у нас на факультете кафедрой физкультуры заведовал. Здорово нас гонял и в спортивном зале, и на дорожках институтского стадиончика, и даже в свободное от занятий время доставал. Наш первый курс жил в те времена отдельно от всего факультета, занимая целый этаж здания рабочей общаги. Однажды появился у нас в комнатах, не знаю откуда, пес совершенно дворянской породы. Мы ему имя дали, и отчество, и фамилию. В честь нашего Физкультурника. Совсем глупыми тогда еще были: ну, пришел препод, ну, проверил санитарное состояние комнат, ну, устроил разгон, а мы в отместку — полкана приблудного в честь него назвали. Долго тот пес у нас не прожил, ушел — видно, имя не понравилось. Не захотел он с такими дураками жить, да и голодно было. А тренера, между прочим, звали как Хлестакова, только наоборот — Александр Иванович. И мы с ним подружились. Он все не оставлял попыток зазвать меня легкой атлетикой заниматься, но я все время чем-то другим увлекался, начав с альпинизма, который пришлось вскоре оставить, так как наука давалась мне поначалу очень тяжело. Я учился много, чуть ли не больше всех в читалке сидел, а сдавал — плохо, хуже своих друзей. Меня это злило. Я сидел над книгами еще больше.
Наш первый курс жил в те времена отдельно от всего факультета, занимая целый этаж здания рабочей общаги. Однажды появился у нас в комнатах, не знаю откуда, пес совершенно дворянской породы. Мы ему имя дали, и отчество, и фамилию. В честь нашего Физкультурника. Совсем глупыми тогда еще были: ну, пришел препод, ну, проверил санитарное состояние комнат, ну, устроил разгон, а мы в отместку — полкана приблудного в честь него назвали. Долго тот пес у нас не прожил, ушел — видно, имя не понравилось. Не захотел он с такими дураками жить, да и голодно было. А тренера, между прочим, звали как Хлестакова, только наоборот — Александр Иванович. И мы с ним подружились. Он все не оставлял попыток зазвать меня легкой атлетикой заниматься, но я все время чем-то другим увлекался, начав с альпинизма, который пришлось вскоре оставить, так как наука давалась мне поначалу очень тяжело. Я учился много, чуть ли не больше всех в читалке сидел, а сдавал — плохо, хуже своих друзей. Меня это злило. Я сидел над книгами еще больше. А результатов не было. Они пришли позже. И к этому Александр Иванович руку приложил. Он меня накануне экзамена по диффурам буквально в шею из читалки выгонял:
А результатов не было. Они пришли позже. И к этому Александр Иванович руку приложил. Он меня накануне экзамена по диффурам буквально в шею из читалки выгонял:
— Хватит, Влад, сгоришь. Сегодня дискотека, иди попрыгай!
— Да, что Вы, Александр Иванович, какие танцы!
— Иди, говорю, приду проверю!
И приходил, с девушками нашими немногочисленными красиво танцевал, а потом подходил ко мне, подпирающему стенку, и говорил:
— Я сегодня дежурю в общежитии, у вас чайку не найдется в хозяйстве? Если зайду, не помешаю?
Вместе с ним и моими друзьями по комнате я пил грузинский байховый чай с коврижками из студенческой столовой, непринужденно разговаривая о чем-то интересном, а на утро сдавал эти чертовы диффуры на «хорошо». И хоть в секцию я не ходил, но как только где какие соревнования — я всегда участвовал с удовольствием: за группу, курс, факультет, один раз даже за институт весенний кросс бежал. Мне очень нравилось ездить с командой на выездные старты, слушать, сидя на жестких скамьях в электричках, рассказы Иваныча.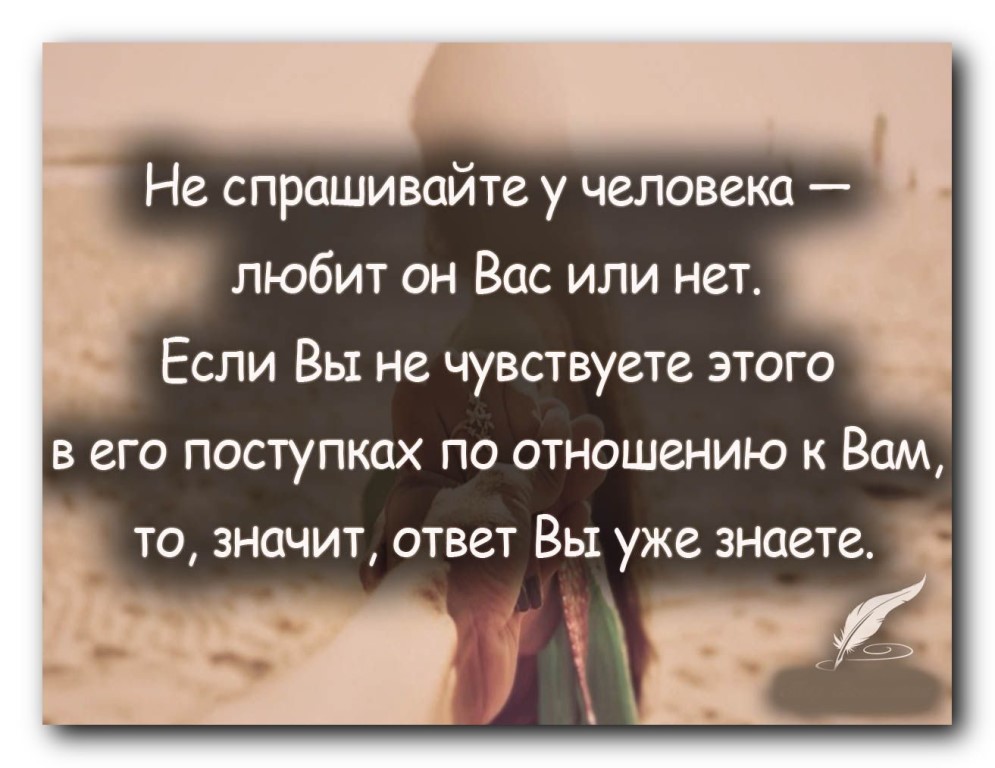 С учебой постепенно стало налаживаться, хотя я стал меньше уделять ей внимания, больше отдаваясь новым привязанностям: изготовлению и испытанию дельтаплана, работе на факультетском радио в команде с кодовым названием «Радикалы и сын», бальным танцам (больше болел за друзей), изготовлению каяков для водного слалома … Моя активность расходовалась мною на широком фронте моих же интересов. На пятом курсе затянуло на общественную работу. Я заведовал факультетской печатью, а именно — газетой «Кассиопея». В газете подобралась тогда очень самобытная команда: ребята на курс младше меня писали удивительно веселые и живые тексты, а художниками были дипломники-шестикурсники. Свобода выбора будущего раскрепостила их настолько, что они уже мало сдерживали полет своей изобретательной, надо сказать, фантазии. А я был выпускающим. То есть почти ничего не делал, но брал на себя ответственность. Ну и однажды, и даже не однажды, а не один, в общем, раз, взял на себя больше, чем смогли вынести более ответственные люди.
С учебой постепенно стало налаживаться, хотя я стал меньше уделять ей внимания, больше отдаваясь новым привязанностям: изготовлению и испытанию дельтаплана, работе на факультетском радио в команде с кодовым названием «Радикалы и сын», бальным танцам (больше болел за друзей), изготовлению каяков для водного слалома … Моя активность расходовалась мною на широком фронте моих же интересов. На пятом курсе затянуло на общественную работу. Я заведовал факультетской печатью, а именно — газетой «Кассиопея». В газете подобралась тогда очень самобытная команда: ребята на курс младше меня писали удивительно веселые и живые тексты, а художниками были дипломники-шестикурсники. Свобода выбора будущего раскрепостила их настолько, что они уже мало сдерживали полет своей изобретательной, надо сказать, фантазии. А я был выпускающим. То есть почти ничего не делал, но брал на себя ответственность. Ну и однажды, и даже не однажды, а не один, в общем, раз, взял на себя больше, чем смогли вынести более ответственные люди. Наша газета с тиражом один экземпляр в месяц, но при этом размером шесть метров на два, была не просто местом самовыражения студенчества, но РУПОРОМ и ОРГАНОМ — говорили мне сначала на закрытом заседании в кабинете декана мои старшие товарищи-педагоги, а потом и мои бывшие товарищи-студенты на общем собрании факультета по пункту регламента «личное дело…». На последнем собрании выступил Александр Иванович. Вступился. Защитил меня. Газету переименовали в «Андромеду». Набрали другую команду. А я же, ты знаешь, — человек команды. Ушел из газеты.
Наша газета с тиражом один экземпляр в месяц, но при этом размером шесть метров на два, была не просто местом самовыражения студенчества, но РУПОРОМ и ОРГАНОМ — говорили мне сначала на закрытом заседании в кабинете декана мои старшие товарищи-педагоги, а потом и мои бывшие товарищи-студенты на общем собрании факультета по пункту регламента «личное дело…». На последнем собрании выступил Александр Иванович. Вступился. Защитил меня. Газету переименовали в «Андромеду». Набрали другую команду. А я же, ты знаешь, — человек команды. Ушел из газеты.
И опять не в легкую атлетику, а актером в театр под названием «Группа товарищей << За бой>> (когда вслух произносили, то делали уточнение: «за» — отдельно). Ну, это увлечение меня завлекло надолго. Несколько лет подряд по вечерам я вместе с когда-то друзьями-однокурсниками, а теперь коллегами по работе, спешил в стены родного института, вновь приютившего нас на сцене актового зала. Мы были известной в городе труппой, выезжали даже с гастролями, но сначала всегда выступали на родных подмостках. Иваныч приходил почти на все премьеры, кажется, ему нравились наши исключительно оригинальные детища, которые мы сами придумывали, писали, ставили, играли. Как-то раз, на первое апреля, мы демонстрировали абсолютный хит сезона: джаз-балет «Ревизор», на музыку многих известных авторов, а также собственного сочинения и исполнения: — весь вечер за роялем «Комрад Пи»! — так мы звали нашего композитора Сашку Пиликало. Народу пришло полный зал — 500 человек. Я танцую партию Хлестакова, такой спортсмен-дистрофик, а мой товарищ и тезка Ухов — Мария Антоновна, кругленькая, ниже меня на голову, в галошах альпиниста и штанишках-бриджах. Наш совместный танец заканчивался трюком, который я сам придумал: из стойки на руках падаю бревном со страшным грохотом на спину. Главное было не прогнуться, упасть плашмя, всем телом, а дальше быстренько вскочить и отпрыгать весело с Уховым за кулисы. На репетициях я этот «смертельный номер» проделывал раза четыре без проблем совершенно. Но на премьере сделать чисто не получилось.
Иваныч приходил почти на все премьеры, кажется, ему нравились наши исключительно оригинальные детища, которые мы сами придумывали, писали, ставили, играли. Как-то раз, на первое апреля, мы демонстрировали абсолютный хит сезона: джаз-балет «Ревизор», на музыку многих известных авторов, а также собственного сочинения и исполнения: — весь вечер за роялем «Комрад Пи»! — так мы звали нашего композитора Сашку Пиликало. Народу пришло полный зал — 500 человек. Я танцую партию Хлестакова, такой спортсмен-дистрофик, а мой товарищ и тезка Ухов — Мария Антоновна, кругленькая, ниже меня на голову, в галошах альпиниста и штанишках-бриджах. Наш совместный танец заканчивался трюком, который я сам придумал: из стойки на руках падаю бревном со страшным грохотом на спину. Главное было не прогнуться, упасть плашмя, всем телом, а дальше быстренько вскочить и отпрыгать весело с Уховым за кулисы. На репетициях я этот «смертельный номер» проделывал раза четыре без проблем совершенно. Но на премьере сделать чисто не получилось. Когда после «аргентинского танго» вышел в стойку, весь вытянувшись в струнку, ноги вдруг повело, я почувствовал резкую боль в пояснице, покачнувшись, удержался, кое- как выправился, бухнулся о пыльный пол сцены мене удачно, чем обычно, но зрителям показалось, что так и надо. Вставал я на ноги значительно медленнее, чем хотел, но тапер Сашка придержал ритм, играя на фоно «в живую», дав возможность мне спокойно отползти. За кулисами никто ничего не заметил, так как все следили за собой и своим делом: когда вступать, включать и прочее. Я повис на какой-то перекладине декораций. Сделал пару вращательных движений туловищем. Боль притупилась, позволив мне закончить выступление, после которого ее приглушила эйфория успеха. Прием был очень хорошим, видимо, получилось действительно смешно. Сразу после представления к нам на сцену стали заходить знакомые ребята поздравлять, хвалить и делать замечания. Вдруг кто-то взял меня за локоть, отводя в сторону. Это был Иваныч:
Когда после «аргентинского танго» вышел в стойку, весь вытянувшись в струнку, ноги вдруг повело, я почувствовал резкую боль в пояснице, покачнувшись, удержался, кое- как выправился, бухнулся о пыльный пол сцены мене удачно, чем обычно, но зрителям показалось, что так и надо. Вставал я на ноги значительно медленнее, чем хотел, но тапер Сашка придержал ритм, играя на фоно «в живую», дав возможность мне спокойно отползти. За кулисами никто ничего не заметил, так как все следили за собой и своим делом: когда вступать, включать и прочее. Я повис на какой-то перекладине декораций. Сделал пару вращательных движений туловищем. Боль притупилась, позволив мне закончить выступление, после которого ее приглушила эйфория успеха. Прием был очень хорошим, видимо, получилось действительно смешно. Сразу после представления к нам на сцену стали заходить знакомые ребята поздравлять, хвалить и делать замечания. Вдруг кто-то взял меня за локоть, отводя в сторону. Это был Иваныч:
— Как спина? Я видел: ты надломился.
— Да с чего Вы взяли, Александр Иванович, это так было задумано, для хохмы.
— Не может быть, я видел, у тебя ноги ушли.
— Да нет, все в порядке!
Тут меня позвали, и я, извинившись, оставил зам декана (к тому времени Иваныч поднялся уже и по учебно-воспитательной лестнице) со своими сомнениями наедине. Больше в стенах института нам увидеться не пришлось, так как нашему театру вскоре дали собственное помещение.
Встретились мы с ним через год или два на стадионе нашего первого знакомства. У меня родился Сережка. Здоровье его, помнишь, было неважнецким. Жил я уже в Москве, а работал на прежнем месте, далеко в Подмосковье. На дорогу уходила уйма времени, но очень уж нравилась работа, да и перспективы на будущее отдельное жилье, также не вызывали охоты к перемене мест. Мне нужны были отгулы. В нашей конторе существовало тогда три основных способа их заработать: либо бродишь по улицам вечернего города с красной повязкой на рукаве, либо перебираешь гнилье на овощной базе, либо защищаешь честь фирмы в спортивных состязаниях. Последний способ, конечно, привлекал меня больше других, тем более что с капитаном нашей команды мы еще студентами вместе бегали; он меня в нее и позвал. Так вот, сижу я на скамейке трибуны, согнувшись над шнурком настоящих «адидасовских» шиповок, единственных тогда на всю нашу бедную команду, переходящих из ног в ноги, от забега к забегу, от прыжков к метаниям. Сейчас будет мой черед покрасоваться. Вдруг слышу со спины до боли знакомый голос:
Последний способ, конечно, привлекал меня больше других, тем более что с капитаном нашей команды мы еще студентами вместе бегали; он меня в нее и позвал. Так вот, сижу я на скамейке трибуны, согнувшись над шнурком настоящих «адидасовских» шиповок, единственных тогда на всю нашу бедную команду, переходящих из ног в ноги, от забега к забегу, от прыжков к метаниям. Сейчас будет мой черед покрасоваться. Вдруг слышу со спины до боли знакомый голос:
— Привет, Влад! Ты все еще бегаешь? Есть, значит, порох в пороховницах?
— Есть и ягоды в ягодицах! Ой, здравствуйте, Александр Иванович!
— За «Науку» бежишь?
— Угу.
— Полторашку?
— Нет, круг.
— Да ты что?! Это ж не твоя дистанция.
— В интересах команды. У нас полторы Иван Дементьев бегает, я ему там не ровня, а здесь некому.
— А, теперь понятно. Он, по-моему, недавно кандидатом стал.
— Точно.
— С кем тренируешься?
— С лифтом, Александр Иванович. Новая метода. Моя лично. Живу я на 16-ом этаже, но на лифте только спускаюсь, а поднимаюсь всегда бегом, наперегонки с ним.
— Ну, и кто кого? — спросил кто-то из заинтересовавшихся нашим разговором ребят.
— Если меньше трех раз остановится, то он меня, если больше — я его. Еще у меня есть один спаринг-партнер — автобус 642 маршрута. Я в 6-15 утра из подъезда выхожу — он как раз мимо меня и проезжает, но ему надо поворачивать на 90 градусов, потом скорость перед остановкой снижать, а я наискосок — и в двери.
— И интересно тебе так носиться?
— Интересно. В этом автобусе у заднего стекла женщина обычно красивая стоит, за ней и бегаю.
— Познакомился?
— Пока нет, боялся: неинтересно станет, когда заговорит, стимул пропадет, к соревнованиям не подготовлюсь как надо.
— Ну вот, сегодня пробежишь, а завтра и познакомишься.
— Не, завтра не смогу, у меня после круга неделю все тело болит.
— А спина тебя не тревожит? — вкрадчиво спросил Иваныч.
— Да нет, вроде, — уклонился я, — а что, должна?
— Не знаю, но, по-моему, ты тогда в «Ревизоре» надломился.
— Нет, Александр Иванович, все нормально. Ну, пойду я.
Ну, пойду я.
— Давай, удачи!
— Спасибо.
— Слушай, подожди! А что вы сейчас ставите?
— «Страсти по Кортасару».
— Приглашаешь?
— Конечно!
— Ну, все, беги готовься…
Потом мы с ним встретились уже в Москве, я тогда на улице Радио работал, и бежал, опаздывая, к Курскому вокзалу, куда-то мне надо было по делам. А он, видимо, на Казакова спешил, там Институт Физкультуры находится, заметил, окликнул, и встретил как родного.
— Ну, как ты, Влад!
— Да бегаю, Александр Иванович.
— Неужели все-таки серьезно стал бегать?
— Да, нет, это я фигурально выразился. Я пока в науке, автоматизацией конструирования занимаюсь.
— Слушай, что-то у тебя походка изменилась, или спина болит?
— Да вот, иногда прихватывать стало в пояснице. Старые травмы.
— Ну, я помню, а ты все отнекивался, или что-то еще было?
— Да вроде, нет…
Разговор получился коротким, очень я тогда спешил, хотя мне самому приятна была эта встреча, хотелось его подробнее расспросить о новой работе: от товарища я слышал, что Иваныч теперь стал тренером легкоатлетической сборной России по выносливости.
А в следующий раз я уже его имя услышал из приемника у себя на кухне. Александр Курашев по «Маяку» поздравлял «Заслуженного Тренера России» с 50-летием. Мне жутко приятно было, как будто меня поздравляли, я криком позвал жену, потом рассказал ей о нем, как вот тебе сейчас. И вот теперь, оказывается, кто-то его пригласил вместе с другими педагогами, с нами работавшими, на встречу курса…
— Вы с ума сошли, мальчишки! Три часа ночи! Младший, ты бы хоть пожалел старшего, он же с дороги, а дети завтра все равно в шесть проснутся и спать не дадут, и в церковь нам рано нужно. Ну-ка, кончайте свои разговоры, завтра продолжите.
Это матушка, спавшая в ближней к кухне комнате со старшим внуком, проснувшись от громких разговоров, устроила разгон ночных посиделок.
Утром за завтраком, завершавшимся крепким чаем, матушка продолжала немножко сердиться:
— Ну, вот, не выспались, да и головы, наверняка, болят. И стоило так долго сидеть?
— Стоило, мам, стоило. Да что нам, здоровым мужикам, будет с… Старший установку мне давал.
— Ничего я не давал…
— Да, ладно, я же шучу. Так ты скажи, был на встрече тренер-то?
— Был. Я с ним минут сорок, наверное, проговорил.
— И что? Как он?
— Нормально, в сборной по-прежнему работает. Но он меня, по-моему, не узнал, не вспомнил, или с другим спутал. Таких, как я, у него ведь несколько сотен было…
Владимир Азарт.
Эльфрида Елинек. Тень (Эвридика говорит). Перевод В. Колязина — Вестник Европы
Автор: Елинек ЭльфридаТемы: Литература
01.06.2020
Эльфрида Елинек
Эльфрида Елинек (нем. Elfriede Jelinek; род. в 1946 году) — австрийская писательница, драматург, поэтесса и литературный критик, лауреат Нобелевской премии 2004 года по литературе, лауреат премии Генриха Бёлля (Кёльн, 1986), премии Георга Бюхнера (1998), премии Генриха Гейне (2002), чешской премии Франца Кафки (2004).
Перевод с немецкого Владимира Колязина
Невéсть что скользит по мне вниз, нет, скорее снизу вверх ползёт, щекочет пятку, до колен уже дошло? Что-то мягкое, тонкое, как паутинка, бегущее как ручеек, ласковое, словно кошка.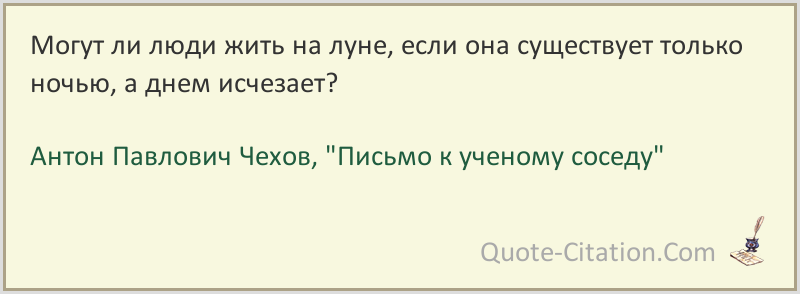 Вот оно, вот! Проникло что-то внутрь, как больно, резануло там, что это было, честно вам скажу: знать не знаю. Оно скользнуло в меня, и мне вдруг жарко стало, секунду, кажется, пора избавиться немного от балласта, одежду с себя долой? Что-то потекло, наверно, я уж не смогу ни у плиты стоять, ни работать над начатой рукописью, что раньше шла из меня так гладко. Да. Пожалуй, все шло слишком гладко. Писания мои текут потоком, так я ощущаю, а мой муж — мой антипод, поет. Мчится на собственном саундтреке. Это его и прославило. До того как он стал петь, тишина казалась огромной, священной, теперь ее больше нет, его голос прошил тишину и пришил. А я осталась тихой. Пишу, если кому интересно. Знаете, как это происходит: с моих губ стекает струйка, льется на белый лист бумаги, я истекаю. Движению конец, мое крепкое существо как бы размягчается, кажется, я машу руками, будто из меня вынули суставы, будто и в моем сознании их нет, нет шарниров, благодаря которым оно бы двигаться могло; я не могу того, чего себе желаю, и желаю того, чего не могу: писать.
Вот оно, вот! Проникло что-то внутрь, как больно, резануло там, что это было, честно вам скажу: знать не знаю. Оно скользнуло в меня, и мне вдруг жарко стало, секунду, кажется, пора избавиться немного от балласта, одежду с себя долой? Что-то потекло, наверно, я уж не смогу ни у плиты стоять, ни работать над начатой рукописью, что раньше шла из меня так гладко. Да. Пожалуй, все шло слишком гладко. Писания мои текут потоком, так я ощущаю, а мой муж — мой антипод, поет. Мчится на собственном саундтреке. Это его и прославило. До того как он стал петь, тишина казалась огромной, священной, теперь ее больше нет, его голос прошил тишину и пришил. А я осталась тихой. Пишу, если кому интересно. Знаете, как это происходит: с моих губ стекает струйка, льется на белый лист бумаги, я истекаю. Движению конец, мое крепкое существо как бы размягчается, кажется, я машу руками, будто из меня вынули суставы, будто и в моем сознании их нет, нет шарниров, благодаря которым оно бы двигаться могло; я не могу того, чего себе желаю, и желаю того, чего не могу: писать.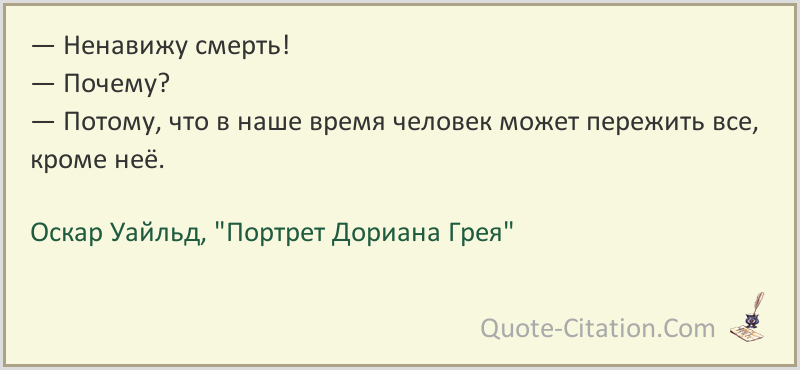 Моя ли поступь зыблет землю, или Мать-Земля сама стучится снизу? Пытается сбросить меня? Противостоять мне нечем. Когда я вижу сей пейзаж, кое-что приходит на ум, но ничего с моих губ не стекает. А у него дело покуда идет, как-то функционирует. Его рупор трубит, миф его уже другими сотворен, его не разрушить, он может сам себя разрушить, но другим это не удастся, он трубит из всех рупоров, певец, вот сейчас что-нибудь споет, споет со своей рок-группой, но может и соло, ни у кого, кто молод так, как он, группы еще нет. Я топчу землю ногами, это как бы легальный секс, священное преображенье брака. Что вы себе позволяете? – нынче никто не спрашивает. Все дозволено, но одновременно этот танец, под запретом или вроде того, сейчас затопчем друг друга. Возбуждает. Запретов больше нет. У меня луженая глотка, но у него тоже. Иначе бы никто его не услышал. Но, по-моему, у него все это нарочно. Так больно дерет, думаю, это яд, мне нужно облегченье, на мне слишком много всего, слишком много. А теперь вопрос: теперь я стану тенью, или останусь как есть, стану скорее притворяться тенью? Нет, я стану тенью, куском тени, тенью окажусь.
Моя ли поступь зыблет землю, или Мать-Земля сама стучится снизу? Пытается сбросить меня? Противостоять мне нечем. Когда я вижу сей пейзаж, кое-что приходит на ум, но ничего с моих губ не стекает. А у него дело покуда идет, как-то функционирует. Его рупор трубит, миф его уже другими сотворен, его не разрушить, он может сам себя разрушить, но другим это не удастся, он трубит из всех рупоров, певец, вот сейчас что-нибудь споет, споет со своей рок-группой, но может и соло, ни у кого, кто молод так, как он, группы еще нет. Я топчу землю ногами, это как бы легальный секс, священное преображенье брака. Что вы себе позволяете? – нынче никто не спрашивает. Все дозволено, но одновременно этот танец, под запретом или вроде того, сейчас затопчем друг друга. Возбуждает. Запретов больше нет. У меня луженая глотка, но у него тоже. Иначе бы никто его не услышал. Но, по-моему, у него все это нарочно. Так больно дерет, думаю, это яд, мне нужно облегченье, на мне слишком много всего, слишком много. А теперь вопрос: теперь я стану тенью, или останусь как есть, стану скорее притворяться тенью? Нет, я стану тенью, куском тени, тенью окажусь. Голова идет кругом, и я что-то сбрасываю, мертвый груз. Вот так. Думала, я что- то сбросила, а сбросила вдруг самое себя. Хрустящее нечто, чьи часы остановились, и оно не знает, что с собой делать. Приходят посланцы, да, теперь я их узнаю, чтобы обсудить со мной будущее устройство моей жизни. Удобно ли мне, если софу поставить там, а стол здесь. Там мне придется теперь обустроиться, вместе с тенями, тенью среди теней, и ни деревца, ни кустика. Мы, тени, должны жить сами собой и оставаться в своем кругу. Должны бы создавать из себя большее, но мы этого не делаем. Я же остаюсь теперь далеко позади своих возможностей, остаюсь теперь далеко позади самой себя. Там, где я была, меня больше нет. Что-то шелестит в траве, не оставляя следа, ни стебелек не дрогнет, повеял ветер, но меня он больше не коснется, разве это я? Моя судьба и мой образ жизни изменятся, не будет больше ни следа меня, мой нектар бессмысленно стечет из глотки, и я поверю, что с меня содрали кожу, и однажды сама стану сброшенной шкуркой.
Голова идет кругом, и я что-то сбрасываю, мертвый груз. Вот так. Думала, я что- то сбросила, а сбросила вдруг самое себя. Хрустящее нечто, чьи часы остановились, и оно не знает, что с собой делать. Приходят посланцы, да, теперь я их узнаю, чтобы обсудить со мной будущее устройство моей жизни. Удобно ли мне, если софу поставить там, а стол здесь. Там мне придется теперь обустроиться, вместе с тенями, тенью среди теней, и ни деревца, ни кустика. Мы, тени, должны жить сами собой и оставаться в своем кругу. Должны бы создавать из себя большее, но мы этого не делаем. Я же остаюсь теперь далеко позади своих возможностей, остаюсь теперь далеко позади самой себя. Там, где я была, меня больше нет. Что-то шелестит в траве, не оставляя следа, ни стебелек не дрогнет, повеял ветер, но меня он больше не коснется, разве это я? Моя судьба и мой образ жизни изменятся, не будет больше ни следа меня, мой нектар бессмысленно стечет из глотки, и я поверю, что с меня содрали кожу, и однажды сама стану сброшенной шкуркой. Тенью. Тут в меня забралось что-то и выбросило меня из себя словно море из воздуха чующего, чующего с первоосновой: но какой? Теперь он воздуха не получает, срочно нужен воздух, так, и именно сейчас! Чующий задыхается на опушке леса и превращается в бездушное виденье. Хотя он прежде чуял так красиво, к тому же так много чувствовал, так много. В сущности, я любила только эти платья, интересовалась модой, вечно хотела быть кем-то другим благодаря платьям. По-настоящему мне это никогда не удавалось. По утрам я, как обычно, слишком долго ломала голову, что надеть. Не успевала проснуться, уже эти мысли. Будто я ничего не просчитала. Как будто пейзаж хотел меня покинуть, отказаться от меня, чтобы увидеть меня в новом наряде. Я как будто превратилась в мою матушку, так я заботилась о своей внешности, с нежными чувствами к себе, кто бы еще этим занялся? Певец? Он и его фанатки? Я слышу рев, это ужасно. Он преследует меня, этот крик. Это рев за моей спиной? Или фанатки не преследуют никакой цели и не преследуют меня? Если чего-то и надо бояться, так это крика маленькой девочки, которую ухватили за юбку; она может вселить в человека только ужас, эта свора девчонок.
Тенью. Тут в меня забралось что-то и выбросило меня из себя словно море из воздуха чующего, чующего с первоосновой: но какой? Теперь он воздуха не получает, срочно нужен воздух, так, и именно сейчас! Чующий задыхается на опушке леса и превращается в бездушное виденье. Хотя он прежде чуял так красиво, к тому же так много чувствовал, так много. В сущности, я любила только эти платья, интересовалась модой, вечно хотела быть кем-то другим благодаря платьям. По-настоящему мне это никогда не удавалось. По утрам я, как обычно, слишком долго ломала голову, что надеть. Не успевала проснуться, уже эти мысли. Будто я ничего не просчитала. Как будто пейзаж хотел меня покинуть, отказаться от меня, чтобы увидеть меня в новом наряде. Я как будто превратилась в мою матушку, так я заботилась о своей внешности, с нежными чувствами к себе, кто бы еще этим занялся? Певец? Он и его фанатки? Я слышу рев, это ужасно. Он преследует меня, этот крик. Это рев за моей спиной? Или фанатки не преследуют никакой цели и не преследуют меня? Если чего-то и надо бояться, так это крика маленькой девочки, которую ухватили за юбку; она может вселить в человека только ужас, эта свора девчонок. Их крохотные, совершенно неподвижные лица, ни одной морщинки, что они изведали, неужто страх одиночества? Вряд ли, ведь эти девки прут толпами, это жуткое скопленье лиц, что может быть ужаснее ужаснейшего роя, ужасного сплетенья грез, их каменные лица, поглядите, невозмутимы, крохотные девичьи лица, и этот дикий крик, вечный крик поверх всего, завис над всем, над произведением гор, произведением равнин, этот смертоносный рой в вышине, жужжащий словно паразиты, мухи, ужасный рой! Сплошь девки! Девочки, ура! Ко мне! Кровь могут высосать из крепчайшего существа! Изо ртов их словно град камней летит, вокруг ни воды, ни земли, виден только он, девок рой, мой муж – он тоже девок рой! Кричит, орет, но лица неподвижны, маленькие девки, сплошной ужас, пронизывающий, страшный крик из их глупых, надорванных, пахнущих зубною пастой рыбьих глоток. Эти детки! Еще не так далеко ушедшие от детства и от его страхов, когда они пали, пинают певца, колошматят его ногами, надрывая глотки, да, теперь они сам ужас, далеко уйдяот детства, слишком далеко, совсем с детством порвав и ревут так, как они никогда не ревели в младенчестве, нагонят еще, быть может, жестокие маленькие девки, пугающие человека, да и его тоже, моего певца, я знаю это твердо, ибо однажды он пережил настоящий, ужасный приступ страха из-за них.
Их крохотные, совершенно неподвижные лица, ни одной морщинки, что они изведали, неужто страх одиночества? Вряд ли, ведь эти девки прут толпами, это жуткое скопленье лиц, что может быть ужаснее ужаснейшего роя, ужасного сплетенья грез, их каменные лица, поглядите, невозмутимы, крохотные девичьи лица, и этот дикий крик, вечный крик поверх всего, завис над всем, над произведением гор, произведением равнин, этот смертоносный рой в вышине, жужжащий словно паразиты, мухи, ужасный рой! Сплошь девки! Девочки, ура! Ко мне! Кровь могут высосать из крепчайшего существа! Изо ртов их словно град камней летит, вокруг ни воды, ни земли, виден только он, девок рой, мой муж – он тоже девок рой! Кричит, орет, но лица неподвижны, маленькие девки, сплошной ужас, пронизывающий, страшный крик из их глупых, надорванных, пахнущих зубною пастой рыбьих глоток. Эти детки! Еще не так далеко ушедшие от детства и от его страхов, когда они пали, пинают певца, колошматят его ногами, надрывая глотки, да, теперь они сам ужас, далеко уйдяот детства, слишком далеко, совсем с детством порвав и ревут так, как они никогда не ревели в младенчестве, нагонят еще, быть может, жестокие маленькие девки, пугающие человека, да и его тоже, моего певца, я знаю это твердо, ибо однажды он пережил настоящий, ужасный приступ страха из-за них.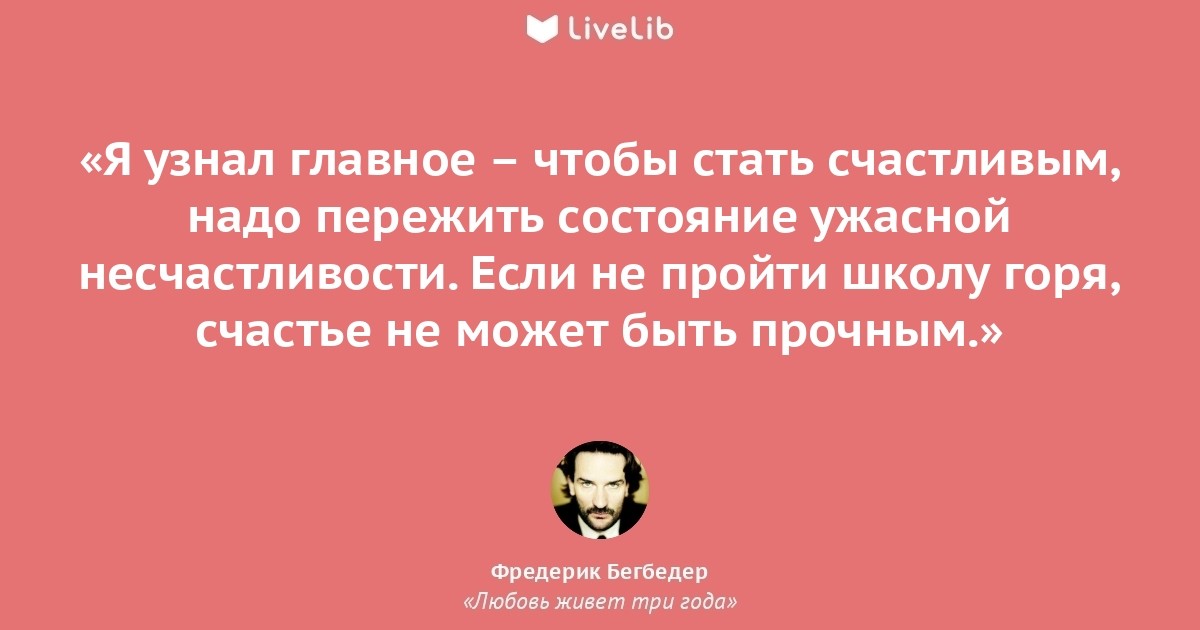 Вытряхивая из него дерьмо от страха, все сотрясая и тряся, эта маленькая похотливая банда, с тельцами, похожими на вилки, растопырены уж ноги, чтоб ухажера принять. Кого — они не знают, но жаждут единственного, что быть должно, поведайте же, девки, что вы вытворяете и с кем! Но то, что льет ручьем с ваших ртов, похоже на поток, что дамбы сносит, крах-тарарах! Этот поток историй вскоре сметут осколки скал, и искать придется другое ложе, потом снова другое и новое потом. То хмель, что распаляет их, хмель, что распаляет их. Того не ведают они, оборону держат за горой, за которой все равно ничего не видно, они же не видят дальше, чем звук проникает сквозь их затычки, поток воды, который удержать не в силах, разбивается о плотину экрана, за которым они прячут свои маленькие соски. Мерцающая в полумраке публика только того и ждала по другую сторону. Ужас. Эти малышки не проявляют никакого интереса, у них нет интереса, ни к чему, кроме интереса к сиськам, которые они показывают, они показывают все, идут на все, показывают больше, чем вообще имеют, а потом становятся воющими, ревущими инструментами.
Вытряхивая из него дерьмо от страха, все сотрясая и тряся, эта маленькая похотливая банда, с тельцами, похожими на вилки, растопырены уж ноги, чтоб ухажера принять. Кого — они не знают, но жаждут единственного, что быть должно, поведайте же, девки, что вы вытворяете и с кем! Но то, что льет ручьем с ваших ртов, похоже на поток, что дамбы сносит, крах-тарарах! Этот поток историй вскоре сметут осколки скал, и искать придется другое ложе, потом снова другое и новое потом. То хмель, что распаляет их, хмель, что распаляет их. Того не ведают они, оборону держат за горой, за которой все равно ничего не видно, они же не видят дальше, чем звук проникает сквозь их затычки, поток воды, который удержать не в силах, разбивается о плотину экрана, за которым они прячут свои маленькие соски. Мерцающая в полумраке публика только того и ждала по другую сторону. Ужас. Эти малышки не проявляют никакого интереса, у них нет интереса, ни к чему, кроме интереса к сиськам, которые они показывают, они показывают все, идут на все, показывают больше, чем вообще имеют, а потом становятся воющими, ревущими инструментами. Уи-уи-уиии, малютки! Что вы тут делаете? Пронзительно кричат и бегут и вновь кричат и бегут с каменными лицами. Следует избегать этой рискованной ситуации, чтобы у певца не развился страх, похищающий у него голос. Мои наряды меня скрывают и являют свету. Это как с криком. Эти писюшки, обсикавшие всю округу, писают снизу, писают сверху, не умеют даже подождать, чтоб дырочки открыть. Охотно заимели б еще больше дырок, чтоб все нутро открыть и наготове быть. Вырываются с криком из своей детской беззаботной жизни, влезают в любое пространство, молодость же вечно открывает себя заново, расползаются, пока певец, распаленный другими глотками, другими баламутами, на сцену не вскочит и пару гитарных риффов, ааа!, риффчиков не выдаст. Говорит, что он малышек так боится. От страха может наложить в штаны. Потом они сами срываются с места. И что уж тут творится! Что за черт сидит в этих крохотных тельцах? Кто хочет это видеть? Кому ж захочется видеть, как они на белый свет выставляют грязные желанья, как жадно рвутся ко всему, о чем они понятья не имеют? Шелупень, болото, ноготь обкусанный! Певец ни перед кем от страха так не дрожит, как перед ними.
Уи-уи-уиии, малютки! Что вы тут делаете? Пронзительно кричат и бегут и вновь кричат и бегут с каменными лицами. Следует избегать этой рискованной ситуации, чтобы у певца не развился страх, похищающий у него голос. Мои наряды меня скрывают и являют свету. Это как с криком. Эти писюшки, обсикавшие всю округу, писают снизу, писают сверху, не умеют даже подождать, чтоб дырочки открыть. Охотно заимели б еще больше дырок, чтоб все нутро открыть и наготове быть. Вырываются с криком из своей детской беззаботной жизни, влезают в любое пространство, молодость же вечно открывает себя заново, расползаются, пока певец, распаленный другими глотками, другими баламутами, на сцену не вскочит и пару гитарных риффов, ааа!, риффчиков не выдаст. Говорит, что он малышек так боится. От страха может наложить в штаны. Потом они сами срываются с места. И что уж тут творится! Что за черт сидит в этих крохотных тельцах? Кто хочет это видеть? Кому ж захочется видеть, как они на белый свет выставляют грязные желанья, как жадно рвутся ко всему, о чем они понятья не имеют? Шелупень, болото, ноготь обкусанный! Певец ни перед кем от страха так не дрожит, как перед ними. Этот рев. Людей сбивают с ног. Топчут лежащих на полу, влезают на все что попадется. Гром, визг. Спасибо за ваше драгоценное участие, спасибо, что вы певца хотели раздавить, в клочья разорвать, проглотить, на каждую из вас певца клочочек. Сжевать — и жвачку тут же на потраву своим оставить. Все выплюнуть — и точка, окна плоти распахнулись, сюда пожалуйте и вот сюда еще! Вот тут пасть еще одна могла бы уместиться и тут еще местечко! В детском возрасте, в конце концов, не треснешь от сексуальных побуждений, пока не треснешь сам. Все это созревает в детстве, развей себя сейчас, позднее извращенкой станешь! Аномальная реакция на сексуальное впечатленье, воплощенное в певце, на этот раз в певце, в другой раз в ком-то другом. И потом переживанья эти снова в памяти становятся гвоздевыми, это проклятие певца, уже я говорила и говорила не раз и буду это часто повторять, тут можно певца лишь проклятиями осыпать за это. Выдерните крюком их маленькие письки, и следы их воспоминаний смогут отражаться в памяти, словно глубокий от омнибуса след, на котором разыграется афинский вечер, пускай и неумелый, разве ж это кого-то удовлетворит.
Этот рев. Людей сбивают с ног. Топчут лежащих на полу, влезают на все что попадется. Гром, визг. Спасибо за ваше драгоценное участие, спасибо, что вы певца хотели раздавить, в клочья разорвать, проглотить, на каждую из вас певца клочочек. Сжевать — и жвачку тут же на потраву своим оставить. Все выплюнуть — и точка, окна плоти распахнулись, сюда пожалуйте и вот сюда еще! Вот тут пасть еще одна могла бы уместиться и тут еще местечко! В детском возрасте, в конце концов, не треснешь от сексуальных побуждений, пока не треснешь сам. Все это созревает в детстве, развей себя сейчас, позднее извращенкой станешь! Аномальная реакция на сексуальное впечатленье, воплощенное в певце, на этот раз в певце, в другой раз в ком-то другом. И потом переживанья эти снова в памяти становятся гвоздевыми, это проклятие певца, уже я говорила и говорила не раз и буду это часто повторять, тут можно певца лишь проклятиями осыпать за это. Выдерните крюком их маленькие письки, и следы их воспоминаний смогут отражаться в памяти, словно глубокий от омнибуса след, на котором разыграется афинский вечер, пускай и неумелый, разве ж это кого-то удовлетворит. А кто еще не удовлетворен, руку пускай тотчас подымет. Они объявятся естественно тотчас. Поголовно. Все могут объявиться. Все должны объявиться. Быть может, симптомы истерии есть в этом крике, хранящем воспоминанье, стало быть, крик: воспоминанье, а не наоборот, может быть, этот крик возникает лишь с помощью воспоминаний, или только воспоминание его творит? Одного без другого не бывает, господа! Господин певец, вы доводите этих девочек до болезни! Они теперь, раз с их тел однажды снят замок, ключ выброшен, раз открыты они любому, открыты даже страху смерти, которого они еще не испытали, всегда открыты для всего, открытые в нахожденье в стороне от всех зависимостей, представленные только на потребу, открытые все шире, они же сарая врата, в котором нет ничего, что можно было б подоить или заколоть. Все они бы выплеснули из себя, даже то, чего в них вовсе нет, все отдали бы прежде, чем его бы заимели, девки. Зверь! Топчут, все ломают на пути. Мне это чуждо. Какая тут может быть услада? Если гулкий, свистящий, ревущий поток мчится из голосовых щелей, словно в них влезли все духи мира и теперь, хоть умри, вырваться должны.
А кто еще не удовлетворен, руку пускай тотчас подымет. Они объявятся естественно тотчас. Поголовно. Все могут объявиться. Все должны объявиться. Быть может, симптомы истерии есть в этом крике, хранящем воспоминанье, стало быть, крик: воспоминанье, а не наоборот, может быть, этот крик возникает лишь с помощью воспоминаний, или только воспоминание его творит? Одного без другого не бывает, господа! Господин певец, вы доводите этих девочек до болезни! Они теперь, раз с их тел однажды снят замок, ключ выброшен, раз открыты они любому, открыты даже страху смерти, которого они еще не испытали, всегда открыты для всего, открытые в нахожденье в стороне от всех зависимостей, представленные только на потребу, открытые все шире, они же сарая врата, в котором нет ничего, что можно было б подоить или заколоть. Все они бы выплеснули из себя, даже то, чего в них вовсе нет, все отдали бы прежде, чем его бы заимели, девки. Зверь! Топчут, все ломают на пути. Мне это чуждо. Какая тут может быть услада? Если гулкий, свистящий, ревущий поток мчится из голосовых щелей, словно в них влезли все духи мира и теперь, хоть умри, вырваться должны. Притом что в них нет ничего. Девки эти воплощают одно Ничто, ибо, кроме плоти, не имеют ничего. Ничего не создают, пожирают взором поводыря, трудягу, сами ничто в большом Ничто, которое все же хочет вон, понимаете, кто? Я нет. И даже у кого есть уши, кто слышит, тот не может ничего другого. Уи-уи-уиии! Каменные лица и пошло-поехало, красные, невольно перекошенные, истекающие потом и слезами лица с пустотой за ними, хлещет из носов, из ртов и глаз, уи-уи-уиии! Фонтаны бьют! Да, совершенно нейтральные, неподвижные лица, и при этом зачахшие, перекошенные, меченые пустотой, уи-уи-уиии! Тела альпинистов, готовые сорваться в пропасть! Пока постель не станет мокрой. В свои шкатулочки они писают сами, любовь увлажняет, они сами распаляются и тушат себя сами, а вдобавок вопят, вопят вопят вопят. Лично я, если вы меня спросите, этого не знаю. Как поэту мне это незнакомо. Должна бы знать, но не знаю. У моего певца это получается хорошо, да, верно, так хорошо, что я думаю, что он во время родов при отделении от своей матери, этой музы понятия не имею чего, вряд ли испытывал какую-нибудь боль, чтобы это отняло ему голос, простите, я всего лишь нимфочка, по сравнению с ним я Ничто, так пытаюсь только пописывать немного, но простите, не выходит, будучи отделенным от матери, от музы, стало быть, ребенком, мать сама при этом еще ребенок, отделение от нее он не мог ощущать как переживание страха, это невозможно.
Притом что в них нет ничего. Девки эти воплощают одно Ничто, ибо, кроме плоти, не имеют ничего. Ничего не создают, пожирают взором поводыря, трудягу, сами ничто в большом Ничто, которое все же хочет вон, понимаете, кто? Я нет. И даже у кого есть уши, кто слышит, тот не может ничего другого. Уи-уи-уиии! Каменные лица и пошло-поехало, красные, невольно перекошенные, истекающие потом и слезами лица с пустотой за ними, хлещет из носов, из ртов и глаз, уи-уи-уиии! Фонтаны бьют! Да, совершенно нейтральные, неподвижные лица, и при этом зачахшие, перекошенные, меченые пустотой, уи-уи-уиии! Тела альпинистов, готовые сорваться в пропасть! Пока постель не станет мокрой. В свои шкатулочки они писают сами, любовь увлажняет, они сами распаляются и тушат себя сами, а вдобавок вопят, вопят вопят вопят. Лично я, если вы меня спросите, этого не знаю. Как поэту мне это незнакомо. Должна бы знать, но не знаю. У моего певца это получается хорошо, да, верно, так хорошо, что я думаю, что он во время родов при отделении от своей матери, этой музы понятия не имею чего, вряд ли испытывал какую-нибудь боль, чтобы это отняло ему голос, простите, я всего лишь нимфочка, по сравнению с ним я Ничто, так пытаюсь только пописывать немного, но простите, не выходит, будучи отделенным от матери, от музы, стало быть, ребенком, мать сама при этом еще ребенок, отделение от нее он не мог ощущать как переживание страха, это невозможно. Иначе он не был бы в состоянии петь так дивно, что камни сдвигались с места. Он не ведает страха, кроме как перед девками, не ведает он страха, и глотку как зарезанный дерет. Только этих вопящих он боится, как преисподней. Здесь есть только или-или. Тут есть только страх иль никакого страха. Третьего нет. И то, как из меня тут истекает, меня, конечно, тоже приводит в ужас. Чувство, которого я до сих пор не знала и которое я себе запрещала. Однако теперь я это постоянно вижу, страх возвращается, и тут я делать могу, что хочу. Я чую уж его, о нем твержу, он тут, и вряд ли я знаю что другое. Я долго совершала ошибку, относя его к определенным органам, страх, и это до сих пор мне кажется правдой, меня тут что-то укусило, я думаю, змея, я вижу рану, она не там, где быть ей должно, рана новая открылась. А если бы у меня возник страх в мягкой долине, путешествовала я бы там или нет, у меня бы везде был страх. Он владеет мною целиком. Что я могу о нем сказать больше того, что я его испытываю, словно бы я не я, а ком дерьма, нет, вы посмотрите: мой гардероб! Его можно назвать дерьмом, но в нем пыльник, макинтош, пальто-свингер, то, что можно бы напялить на себя, чтобы под ним моей не видеть дрожи, с какой топчу я землю.
Иначе он не был бы в состоянии петь так дивно, что камни сдвигались с места. Он не ведает страха, кроме как перед девками, не ведает он страха, и глотку как зарезанный дерет. Только этих вопящих он боится, как преисподней. Здесь есть только или-или. Тут есть только страх иль никакого страха. Третьего нет. И то, как из меня тут истекает, меня, конечно, тоже приводит в ужас. Чувство, которого я до сих пор не знала и которое я себе запрещала. Однако теперь я это постоянно вижу, страх возвращается, и тут я делать могу, что хочу. Я чую уж его, о нем твержу, он тут, и вряд ли я знаю что другое. Я долго совершала ошибку, относя его к определенным органам, страх, и это до сих пор мне кажется правдой, меня тут что-то укусило, я думаю, змея, я вижу рану, она не там, где быть ей должно, рана новая открылась. А если бы у меня возник страх в мягкой долине, путешествовала я бы там или нет, у меня бы везде был страх. Он владеет мною целиком. Что я могу о нем сказать больше того, что я его испытываю, словно бы я не я, а ком дерьма, нет, вы посмотрите: мой гардероб! Его можно назвать дерьмом, но в нем пыльник, макинтош, пальто-свингер, то, что можно бы напялить на себя, чтобы под ним моей не видеть дрожи, с какой топчу я землю. Ни помысла о сексе при этой топотне. Скорее все что угодно, только не он, не опять он! Все, что я пыталась повесить поверх этого крайнего чувства отвращения, находится в этом шкафу. Точно не знаю. Я сама сейчас своего рода платье, под которым лужа. Я та, кто жил лишь миг, след на песке ничуть ни старше той змеи, что на меня упала, на что теперь мне шкурка моей одежды, мой платьев выводок, мой бесполезный клад? Я выхожу с моим оружием, оружием девы и выскальзываю тотчас из самой себя, на эту сброшенную кожи, по такому ходить я не привыкла, разве мне она принадлежит? А не змее? Не знаю. Одному из нас эта кожа принадлежит. Они ничем мне не помогли, мои чудеснейшие платья, выбрасываю их теперь, ведь я отныне и сама отброс. Охотно стану снова на краю леса, где это произошло. Мои подруги убежали. Сами кричат о помощи, хватаются за свои смартфоны, спасения хотят, которого не существует. Снова повсюду рев, повсюду.
Ни помысла о сексе при этой топотне. Скорее все что угодно, только не он, не опять он! Все, что я пыталась повесить поверх этого крайнего чувства отвращения, находится в этом шкафу. Точно не знаю. Я сама сейчас своего рода платье, под которым лужа. Я та, кто жил лишь миг, след на песке ничуть ни старше той змеи, что на меня упала, на что теперь мне шкурка моей одежды, мой платьев выводок, мой бесполезный клад? Я выхожу с моим оружием, оружием девы и выскальзываю тотчас из самой себя, на эту сброшенную кожи, по такому ходить я не привыкла, разве мне она принадлежит? А не змее? Не знаю. Одному из нас эта кожа принадлежит. Они ничем мне не помогли, мои чудеснейшие платья, выбрасываю их теперь, ведь я отныне и сама отброс. Охотно стану снова на краю леса, где это произошло. Мои подруги убежали. Сами кричат о помощи, хватаются за свои смартфоны, спасения хотят, которого не существует. Снова повсюду рев, повсюду.
Что это я так чувствительна к шуму, ах, теперь бог с ним, я почти ничего не слышу. Вероятно, я уже в безместье, но не на курорте, вы что подумали. Ничего здесь нет. Нет, не так, со мной еще мое платье. Я платье. Я платье! Это наказание? За что? За то, что я всю жизнь интересовалась только платьями? Маниакально таскалась, гонялась за покупками из одного бутика в другой, где, быть может, есть что-то еще лучше: еще и это! Не тратя вопросов на спасенье, моим спасеньем были тряпки — от кого? Не знаю. За что благодарить мне страх? Не знаю, честно говоря, ибо состояния без страха я не знаю. У других – ответ на опасность. У меня: всегда и всюду. Даже если опасности нет. Я всегда могу вызвать это состояние, но зачем, оно и так всегда со мной. Всегда в моем распоряженье. Прежде он имел смысл, теперь он больше не нужен, страх без смысла и без повода. Этой змеи в траве я даже не заметила, ответила на позднее остолбененье необходимой мерой, но эта мера уже, когда к ней я прибегла, как вижу, без толку была, сидит занозой, и остается только страх. Пытаюсь свой страх решительно упредить, мне ничего не нужно, страх ест меня, не я боюсь, он ест меня.
Вероятно, я уже в безместье, но не на курорте, вы что подумали. Ничего здесь нет. Нет, не так, со мной еще мое платье. Я платье. Я платье! Это наказание? За что? За то, что я всю жизнь интересовалась только платьями? Маниакально таскалась, гонялась за покупками из одного бутика в другой, где, быть может, есть что-то еще лучше: еще и это! Не тратя вопросов на спасенье, моим спасеньем были тряпки — от кого? Не знаю. За что благодарить мне страх? Не знаю, честно говоря, ибо состояния без страха я не знаю. У других – ответ на опасность. У меня: всегда и всюду. Даже если опасности нет. Я всегда могу вызвать это состояние, но зачем, оно и так всегда со мной. Всегда в моем распоряженье. Прежде он имел смысл, теперь он больше не нужен, страх без смысла и без повода. Этой змеи в траве я даже не заметила, ответила на позднее остолбененье необходимой мерой, но эта мера уже, когда к ней я прибегла, как вижу, без толку была, сидит занозой, и остается только страх. Пытаюсь свой страх решительно упредить, мне ничего не нужно, страх ест меня, не я боюсь, он ест меня. Одежды на себя, обшарила все, лишь под платьями моими могу быть в безопасности, чтоб меня никто не видел, а потом покой, спокойствие, до следующего испуга, а он вечно тут. Он ждет, что я помчусь на своей судьбе, словно на лошади. Страх это платье, висящее наготове, без пуговок, и я в него влезаю, не могу сказать, что я его накидываю, ведь оно было бы мне чуждым телом, он мое платье, всегда другое, всегда один и тот же страх, я положиться на него могу, быть уверенной. Но что мне в этом пользы ныне? Я себя теряю, я это чую. Меня уж нет. Я правлю тризну по собственной потере, уверена, певец потом еще восполнит это с прицепом, он выделит на это время, время для печали, оно необходимо, должно быть столько времени на траур, сколько требуют приличья. Певец проверит реалии глубоко, заметит, что меня нет больше рядом, еще разок проверит и под влияньем этого экзамена реалий поймет, целиком под влиянием траура поймет, да, это он сумеет, и они этого от него категорически потребуют, что он должен со мной, своим объектом, теперь расстаться, потому что меня, этого объекта, больше вовсе не существует.
Одежды на себя, обшарила все, лишь под платьями моими могу быть в безопасности, чтоб меня никто не видел, а потом покой, спокойствие, до следующего испуга, а он вечно тут. Он ждет, что я помчусь на своей судьбе, словно на лошади. Страх это платье, висящее наготове, без пуговок, и я в него влезаю, не могу сказать, что я его накидываю, ведь оно было бы мне чуждым телом, он мое платье, всегда другое, всегда один и тот же страх, я положиться на него могу, быть уверенной. Но что мне в этом пользы ныне? Я себя теряю, я это чую. Меня уж нет. Я правлю тризну по собственной потере, уверена, певец потом еще восполнит это с прицепом, он выделит на это время, время для печали, оно необходимо, должно быть столько времени на траур, сколько требуют приличья. Певец проверит реалии глубоко, заметит, что меня нет больше рядом, еще разок проверит и под влияньем этого экзамена реалий поймет, целиком под влиянием траура поймет, да, это он сумеет, и они этого от него категорически потребуют, что он должен со мной, своим объектом, теперь расстаться, потому что меня, этого объекта, больше вовсе не существует. Много труда ему будет стоить, это отступление от меня, своего объекта, да. Это важно, не смейтесь!, от меня, которая бесценной стала, просто потому, что я его объект, и это отсупление от меня, объекта, на всех уровнях и во всех фазах своей жизни, он должен провести, аккуратно провести, на всех замесах, в которых я, объект, была объектом, стало быть, трудов высоких, я первое занятие была, без сомненья, высокое занятие, быть может, меня он возвысил слишком высоко, может быть, возвысил по ошибке, быть может, задав ложный тон, при шуме-то вряд ли кто слышит, возвысил по ошибке и по ошибке вел, может быть, но он должен будет принять болезненный характер этой разлуки, должен будет примириться, должен будет примириться и окунуться в высокое, невыполнимое занятие тоски по мне, которое я миную, тю-тю, perdu, ушла под воду, ибо я, объект, удалюсь сию минуту, да-да, удалюсь, и ему, этому болезненному характеру, который хочет принять отбытие его объекта, боюсь, придется лично принять мое отбытие, я имею в виду, конечно, свое отбытие как личности, пока все ясно? стало быть, должен будет принять болезненный характер нашего разрыва, даже если он примирился, певец, снова и снова по-новому, и даже после того как он давно смирился, давно уже смирился, что я, его объект, окончательно исчезла.
Много труда ему будет стоить, это отступление от меня, своего объекта, да. Это важно, не смейтесь!, от меня, которая бесценной стала, просто потому, что я его объект, и это отсупление от меня, объекта, на всех уровнях и во всех фазах своей жизни, он должен провести, аккуратно провести, на всех замесах, в которых я, объект, была объектом, стало быть, трудов высоких, я первое занятие была, без сомненья, высокое занятие, быть может, меня он возвысил слишком высоко, может быть, возвысил по ошибке, быть может, задав ложный тон, при шуме-то вряд ли кто слышит, возвысил по ошибке и по ошибке вел, может быть, но он должен будет принять болезненный характер этой разлуки, должен будет примириться, должен будет примириться и окунуться в высокое, невыполнимое занятие тоски по мне, которое я миную, тю-тю, perdu, ушла под воду, ибо я, объект, удалюсь сию минуту, да-да, удалюсь, и ему, этому болезненному характеру, который хочет принять отбытие его объекта, боюсь, придется лично принять мое отбытие, я имею в виду, конечно, свое отбытие как личности, пока все ясно? стало быть, должен будет принять болезненный характер нашего разрыва, даже если он примирился, певец, снова и снова по-новому, и даже после того как он давно смирился, давно уже смирился, что я, его объект, окончательно исчезла. Он должен будет это принять, ему не останется ничего другого, и когда он это поймет (насколько его я знаю, вероятно, никогда! он как младенец, чем обладает, того твердо и держится, из того сосет, а потом выплевывает, а потом сразу же ретиво заводит песнь, потому что усвоил, усвоил, что можно хапнуть все, что рядом, потому что венцу творения положено, надлежит, что венцу творения положено как можно больше, ясное же дело), ущучив это, теперь он это занятие тоской со мной, своим объектом, снова и снова во всех повторяющихся ситуациях познает как связь со мной, своим объектом, где ему ведь надо было научиться, как наконец и окончательно порвать связь со мной, своим объектом. Тут мимо не ведет ни одна дорога. Ему придется от меня освободиться, а я что касается моей лягушачьей кожи, которая ведь уже больше не моя, я ведь давно от нее освободилась, это не так уж плохо вдруг стать легкомысленной и безответственной, сбросить свою оболочку и скрыться, от самой себя, просто смыться. Оставить себя, оставить, наконец, себя, оставить одну.
Он должен будет это принять, ему не останется ничего другого, и когда он это поймет (насколько его я знаю, вероятно, никогда! он как младенец, чем обладает, того твердо и держится, из того сосет, а потом выплевывает, а потом сразу же ретиво заводит песнь, потому что усвоил, усвоил, что можно хапнуть все, что рядом, потому что венцу творения положено, надлежит, что венцу творения положено как можно больше, ясное же дело), ущучив это, теперь он это занятие тоской со мной, своим объектом, снова и снова во всех повторяющихся ситуациях познает как связь со мной, своим объектом, где ему ведь надо было научиться, как наконец и окончательно порвать связь со мной, своим объектом. Тут мимо не ведет ни одна дорога. Ему придется от меня освободиться, а я что касается моей лягушачьей кожи, которая ведь уже больше не моя, я ведь давно от нее освободилась, это не так уж плохо вдруг стать легкомысленной и безответственной, сбросить свою оболочку и скрыться, от самой себя, просто смыться. Оставить себя, оставить, наконец, себя, оставить одну. Ту, какая я есть безо всего этого, он только не давал согласия отпустить меня на этот пейзаж, который мне вдруг показался необыкновенно забавным, ярким, приятным, потому что я, наконец, могу ходить: этого он не позволит. Не позволит мне быть собой. Не он меня создал, но быть собой он мне не позволит. Захочет снова запихнуть меня в мое старое бытие, я вижу, так и будет. Поскольку он держится только на одном себе, ему придется в любой возможной ситуации снова и снова, по-новому переживать расставание со мной, своим драгоценным объектом, и он захочет с этим покончить, попытавшись вернуть меня снова. Быть может, он уже догадывается, что не справится с разлукой этой, что она будет происходить снова и снова, и ничего приятного тут нет, он может причинить боль, но там, где оборвет связь со мной, своим объектом бесценным, он всегда будет снова и снова маниакально восстанавливать ее. Невозможно, чтобы я ушла! Скажет он. Он меня не отпустит. Не позволит мне уйти. Везде я буду ему мерещиться, на краю леса, на верхушках деревьев, иль что еще язык природы скажет, я на нем не изъясняюсь, он мне наскучил, читайте где-нибудь еще, смотрите где-нибудь еще, в кино, по телеку, да где угодно, поглазейте на природу на природе, не возражаю, но мне она наскучила, хотя я тоже раб природы, что мне как раз с болью приходится признать.
Ту, какая я есть безо всего этого, он только не давал согласия отпустить меня на этот пейзаж, который мне вдруг показался необыкновенно забавным, ярким, приятным, потому что я, наконец, могу ходить: этого он не позволит. Не позволит мне быть собой. Не он меня создал, но быть собой он мне не позволит. Захочет снова запихнуть меня в мое старое бытие, я вижу, так и будет. Поскольку он держится только на одном себе, ему придется в любой возможной ситуации снова и снова, по-новому переживать расставание со мной, своим драгоценным объектом, и он захочет с этим покончить, попытавшись вернуть меня снова. Быть может, он уже догадывается, что не справится с разлукой этой, что она будет происходить снова и снова, и ничего приятного тут нет, он может причинить боль, но там, где оборвет связь со мной, своим объектом бесценным, он всегда будет снова и снова маниакально восстанавливать ее. Невозможно, чтобы я ушла! Скажет он. Он меня не отпустит. Не позволит мне уйти. Везде я буду ему мерещиться, на краю леса, на верхушках деревьев, иль что еще язык природы скажет, я на нем не изъясняюсь, он мне наскучил, читайте где-нибудь еще, смотрите где-нибудь еще, в кино, по телеку, да где угодно, поглазейте на природу на природе, не возражаю, но мне она наскучила, хотя я тоже раб природы, что мне как раз с болью приходится признать. Бога ради, если я гляну честно на природу, пока она еще при мне, пяльтесь хоть часами, не возражаю, вряд ли что-либо изменится, природа тоже ведь исчезнет, после меня она исчезнет, ну ясно же, исчезнет, спокойно все осмотрите, что она имеет предложить! Еще имеет предложить, еще не все имеет предложить! Кликните «Планета земля» в Гугле, но я не стану это делать, натура – не такое уж мое, я этого как-то никогда не замечала так, как теперь, когда она меня бросает, моя природа, бяка, и не падай! Какая разница, ее я знаю, но именно потому, что знаю, хотела бы я знакомство с ней непременно не углублять, итак, представьте себе некое описание природы, берите ее всюду, где только можете. Там же, где он тоже будет пленен этим описанием и хватится за свой инструмент, мой певец, хватится, я это уже говорила, но это так важно, что повторю это раз и еще раз: ему придется связь восстановить со своим драгоценным объектом, то есть со мной, вместо того чтобы от него освободиться. Воссоединиться, даже если нет больше ни одной ниточки! Соединить все, соединить воедино, даже если вообще ничего нет! Ну, я необъективна в этом деле, я лишь объект, что намного меньше, потому разрешить это невозможно, и вовсе не может быть решено в течение жизни, но я так ясно вижу перед собой, как будто бы я это могу еще испытать: живое, страстное занятье мною, постоянно растущее из-за его неутолимости, пропавшим, потерянным объектом, восстановит то же бережное положенье, что и пронзенность болью раненной части тела.
Бога ради, если я гляну честно на природу, пока она еще при мне, пяльтесь хоть часами, не возражаю, вряд ли что-либо изменится, природа тоже ведь исчезнет, после меня она исчезнет, ну ясно же, исчезнет, спокойно все осмотрите, что она имеет предложить! Еще имеет предложить, еще не все имеет предложить! Кликните «Планета земля» в Гугле, но я не стану это делать, натура – не такое уж мое, я этого как-то никогда не замечала так, как теперь, когда она меня бросает, моя природа, бяка, и не падай! Какая разница, ее я знаю, но именно потому, что знаю, хотела бы я знакомство с ней непременно не углублять, итак, представьте себе некое описание природы, берите ее всюду, где только можете. Там же, где он тоже будет пленен этим описанием и хватится за свой инструмент, мой певец, хватится, я это уже говорила, но это так важно, что повторю это раз и еще раз: ему придется связь восстановить со своим драгоценным объектом, то есть со мной, вместо того чтобы от него освободиться. Воссоединиться, даже если нет больше ни одной ниточки! Соединить все, соединить воедино, даже если вообще ничего нет! Ну, я необъективна в этом деле, я лишь объект, что намного меньше, потому разрешить это невозможно, и вовсе не может быть решено в течение жизни, но я так ясно вижу перед собой, как будто бы я это могу еще испытать: живое, страстное занятье мною, постоянно растущее из-за его неутолимости, пропавшим, потерянным объектом, восстановит то же бережное положенье, что и пронзенность болью раненной части тела. Вообразите только, его куснуло что-то больно, как меня змея, или что это за зверь, который сейчас меня сразил, ай-ай! Вот это будет номер, что внове придется бедолаге испытать! Эта беспрестанная боль из-за отсутствия меня, своего объекта, даст ему возможность снова избавиться от периферической боли в теле. Ну да, на мою боль он вообще может закрыть глаза, ее он, конечно, не захочет и не сможет себе представить, эту боль выносит он за скобки под слепящим солнцем, которое меня не видит больше, отец его, солнце, в чистой форме Аполлон, нет, не в чистой, это снова отдельная глава, его отец изначально меня ослепил, мои маленькие сочинения были тьфу для него, лучезарного в своей колеснице, в небесной своей колеснице, быть может, сын его, певец, оттого так скучен, так ленив, ведь девки творят за него весь этот визг, он же не делает ничего, никогда ничего, потому что со своим отцом только шугает вверх и сигает вниз, и сыну не хотелось бы повторять то, что он должен вечно на солнце, на папочку взирать, вверх, вниз, это так же худо, как влезть-вылезть, все, что исходит от мужчин, всегда как-то однотонно, и пока они освоят второй тон, продлится вечность.
Вообразите только, его куснуло что-то больно, как меня змея, или что это за зверь, который сейчас меня сразил, ай-ай! Вот это будет номер, что внове придется бедолаге испытать! Эта беспрестанная боль из-за отсутствия меня, своего объекта, даст ему возможность снова избавиться от периферической боли в теле. Ну да, на мою боль он вообще может закрыть глаза, ее он, конечно, не захочет и не сможет себе представить, эту боль выносит он за скобки под слепящим солнцем, которое меня не видит больше, отец его, солнце, в чистой форме Аполлон, нет, не в чистой, это снова отдельная глава, его отец изначально меня ослепил, мои маленькие сочинения были тьфу для него, лучезарного в своей колеснице, в небесной своей колеснице, быть может, сын его, певец, оттого так скучен, так ленив, ведь девки творят за него весь этот визг, он же не делает ничего, никогда ничего, потому что со своим отцом только шугает вверх и сигает вниз, и сыну не хотелось бы повторять то, что он должен вечно на солнце, на папочку взирать, вверх, вниз, это так же худо, как влезть-вылезть, все, что исходит от мужчин, всегда как-то однотонно, и пока они освоят второй тон, продлится вечность. Без солнца прах мы были б, добавлю я, нужда в нем велика, а то, что мы есть сами, то ничтожная частица, одного из нас лишиться — раз плюнуть, фьюить, и тебя уж больше нет, ничтожная частица того, чего здесь больше нет, и я смею утверждать: могло быть хуже, неужто Бог-солнце хочет проконтролировать меня: не вправду ль я исчезла, тень ли я, которой — увы! — без него ведь тоже нет? Увы, то правда: лишь он создать умеет тень. Окей, окей, здесь конкурентов нет. Но недоволен он, как вновь и вновь здесь возникает, как он (мы слышим рев толпы и громкий хохот, затем звук затухает) рванувшись вперед, останавливается, снова рывок, смотрит, все ли тени на месте и точен ли цвет, который он для освещенья выбрал, и проверяет это именно при том свете, который сам и поставил, как появляется здесь тень и снова исчезает, все в скучном повторе, да, точно как мои сочиненья, славно, что вы мне это говорите, но это не было так необходимо! сама я знаю, знаю, мой стих монотонен, но его дорога точно такова: монотонность, конечно, есть ведь дорога в небо, которую вы можете спокойно себе представить как глухую обходную дорогу где-нибудь в пампасах, ею он и идет, дорога идет в гору и снова вниз, меня ж он отключил, как многих, как прежде или позже всех; меня он более не видит, я в Лету канула уже, как только здесь появится он, Аполлон, молчальник, ах, папочка-молчальник! Он уже понял, что ему ничего не остается, как снова появиться, исчезнуть, лишь на час-другой, но тем не менее, на земле ему потом уж больше нечего искать.
Без солнца прах мы были б, добавлю я, нужда в нем велика, а то, что мы есть сами, то ничтожная частица, одного из нас лишиться — раз плюнуть, фьюить, и тебя уж больше нет, ничтожная частица того, чего здесь больше нет, и я смею утверждать: могло быть хуже, неужто Бог-солнце хочет проконтролировать меня: не вправду ль я исчезла, тень ли я, которой — увы! — без него ведь тоже нет? Увы, то правда: лишь он создать умеет тень. Окей, окей, здесь конкурентов нет. Но недоволен он, как вновь и вновь здесь возникает, как он (мы слышим рев толпы и громкий хохот, затем звук затухает) рванувшись вперед, останавливается, снова рывок, смотрит, все ли тени на месте и точен ли цвет, который он для освещенья выбрал, и проверяет это именно при том свете, который сам и поставил, как появляется здесь тень и снова исчезает, все в скучном повторе, да, точно как мои сочиненья, славно, что вы мне это говорите, но это не было так необходимо! сама я знаю, знаю, мой стих монотонен, но его дорога точно такова: монотонность, конечно, есть ведь дорога в небо, которую вы можете спокойно себе представить как глухую обходную дорогу где-нибудь в пампасах, ею он и идет, дорога идет в гору и снова вниз, меня ж он отключил, как многих, как прежде или позже всех; меня он более не видит, я в Лету канула уже, как только здесь появится он, Аполлон, молчальник, ах, папочка-молчальник! Он уже понял, что ему ничего не остается, как снова появиться, исчезнуть, лишь на час-другой, но тем не менее, на земле ему потом уж больше нечего искать. Исчезнуть он должен точно так же, как и я, пускай и не навсегда. Он вернется. Он возвращается без конца. В отличие от меня, он никогда навек не исчезает, бог Солнца, садится, но опять встает и едет дальше. Иначе ведь стояла бы навечно тьма. А сын его, певец, как только на меня посмотрит, он ведь погибнет, да, погибнет! Ведь он рассматривает меня только как свою собственность, ну, так делают многие, это не ахти какое достижение! но но но… что я сказать хотела, переход от этой боли, которая начнет сковывать его тело, когда он узнает об отсутствии объекта, в этом случае о моем отсутствии, будет соответствовать перемене… вовсе нет, переход от «я знаю» к «я не знаю» соответствует обыкновенно, у нормальных людей, которые не певцы… вовсе нет, ничему он не соответствует, ноль удачи, у нормальных людей это ничему не соответствует, или я их попросту не знаю, нормальных. А ведь точно! Тут некоторые резвятся на сцене, маленькие девки с их писючешными голосовыми связками, берущими всего лишь три тона, один верхний, один нижний и один средний, и ни один из них не приятен для человеческого слуха, доносятся они будто бы из строго карающих рож их матушек, которые некогда сами спешили с палатками на фестивали в глуши, заливать передвижные туалеты продуктами мощных внутренних умилений.
Исчезнуть он должен точно так же, как и я, пускай и не навсегда. Он вернется. Он возвращается без конца. В отличие от меня, он никогда навек не исчезает, бог Солнца, садится, но опять встает и едет дальше. Иначе ведь стояла бы навечно тьма. А сын его, певец, как только на меня посмотрит, он ведь погибнет, да, погибнет! Ведь он рассматривает меня только как свою собственность, ну, так делают многие, это не ахти какое достижение! но но но… что я сказать хотела, переход от этой боли, которая начнет сковывать его тело, когда он узнает об отсутствии объекта, в этом случае о моем отсутствии, будет соответствовать перемене… вовсе нет, переход от «я знаю» к «я не знаю» соответствует обыкновенно, у нормальных людей, которые не певцы… вовсе нет, ничему он не соответствует, ноль удачи, у нормальных людей это ничему не соответствует, или я их попросту не знаю, нормальных. А ведь точно! Тут некоторые резвятся на сцене, маленькие девки с их писючешными голосовыми связками, берущими всего лишь три тона, один верхний, один нижний и один средний, и ни один из них не приятен для человеческого слуха, доносятся они будто бы из строго карающих рож их матушек, которые некогда сами спешили с палатками на фестивали в глуши, заливать передвижные туалеты продуктами мощных внутренних умилений. Чудесны эти воспоминанья и эти тетки там! У наших звезд, конечно, все иначе, у них все иначе, но что с ними делать певцу, с теми, кто перед ним свои любилки открывает и закрывает, а женский пол уже в своей начальной фазе везде и всюду, смотри куда захочешь, они прямо-таки везде, девки с их коварными щелями, они словно груды песка, песчаные косы, дыры в барханах, примут любого, обратно никого не отдадут, готовы для мужика, который не мужик, или для немужика, который мужик, да для кого угодно, лучше всего ватага, много разом! То есть тех, кто хором станет восторженно кричать уи-уи-уиии! Класс эта диско-пушка! Итак, мы имеем переход… что я сказать хотела? Переход, который у нормального человека отвечает не Ничему, как я заметила по ошибке, а отвечает именно превращению нарциссической концентрации психической энергии в концентрацию на объекте, не так ли. Итак, переход соответствует чему-то, но для этого надо сначала помимо самого себя увидеть нечто другое, кого-то другого, по меньшей мере, одного! Ну, положим, одного вы видите, без понятия, нет, нет, я понимаю кого, но понятия не имею, верно ли то, что поет певец.
Чудесны эти воспоминанья и эти тетки там! У наших звезд, конечно, все иначе, у них все иначе, но что с ними делать певцу, с теми, кто перед ним свои любилки открывает и закрывает, а женский пол уже в своей начальной фазе везде и всюду, смотри куда захочешь, они прямо-таки везде, девки с их коварными щелями, они словно груды песка, песчаные косы, дыры в барханах, примут любого, обратно никого не отдадут, готовы для мужика, который не мужик, или для немужика, который мужик, да для кого угодно, лучше всего ватага, много разом! То есть тех, кто хором станет восторженно кричать уи-уи-уиии! Класс эта диско-пушка! Итак, мы имеем переход… что я сказать хотела? Переход, который у нормального человека отвечает не Ничему, как я заметила по ошибке, а отвечает именно превращению нарциссической концентрации психической энергии в концентрацию на объекте, не так ли. Итак, переход соответствует чему-то, но для этого надо сначала помимо самого себя увидеть нечто другое, кого-то другого, по меньшей мере, одного! Ну, положим, одного вы видите, без понятия, нет, нет, я понимаю кого, но понятия не имею, верно ли то, что поет певец. Я думаю, сейчас он и так молчит. Фантомная боль утраты вынуждает нормального человека искать другой объект, который потом снова может причинить ему боль. Совсем новую боль. Но все-таки боль. Люди вытесняют все, во что они верят, они желают удовольствия, а при этом желают боли. Чем больше они хотят иметь, тем больше они хотят, чтобы чего-то недоставало. Чтобы у них снова была возможность иметь что-то новое. Знаете ли вы, что обнаружится моя пропажа, пропажа любимого объекта, которая неизбежно приведет к вынужденному превращению нарциссической концентрации энергии в концентрацию на объекте? Моя смерть? Моя пропажа? Но не у него, не у него, у него это как-то не работает, это я уже сейчас предвижу. Я его знаю. Он перед этим не смирится. Захочет меня найти. Захочет доискаться, где я. Он слишком высоко меня возвысил, свой объект, это было изначально ошибкой, типичной ошибкой певца, фальшивой интонацией, когда-нибудь это придаст его печали фальшивый тон, я это слышу уже сейчас, прислушиваясь к будущему, он определенно ложен, и каждый тон его фальшив, уже сейчас я слышу, прежде чем он вообще начнет, иначе не услышит ни один, они же ничего не слышат, вопящие девицы, слышат лишь одного его, но нет, и то, что слышат, тоже чепуха, но я ведь это слышу, он занимал меня как свой объект чрезмерно, ничего удивительного, он был моим менеджером, своего объекта, и отвел мне слишком большую роль, извольте, я говорю «отвел», так как он сперва создал это место для меня, это не моя заслуга, но он, он слишком высоко меня возвысил, и эта чрезмерная роль объекта, которую он отвел именно мне (я об этом не просила, поверьте!), исполняет примерно роль одной пораненной части тела, едва прикрытой из-за роста раздраженья.
Я думаю, сейчас он и так молчит. Фантомная боль утраты вынуждает нормального человека искать другой объект, который потом снова может причинить ему боль. Совсем новую боль. Но все-таки боль. Люди вытесняют все, во что они верят, они желают удовольствия, а при этом желают боли. Чем больше они хотят иметь, тем больше они хотят, чтобы чего-то недоставало. Чтобы у них снова была возможность иметь что-то новое. Знаете ли вы, что обнаружится моя пропажа, пропажа любимого объекта, которая неизбежно приведет к вынужденному превращению нарциссической концентрации энергии в концентрацию на объекте? Моя смерть? Моя пропажа? Но не у него, не у него, у него это как-то не работает, это я уже сейчас предвижу. Я его знаю. Он перед этим не смирится. Захочет меня найти. Захочет доискаться, где я. Он слишком высоко меня возвысил, свой объект, это было изначально ошибкой, типичной ошибкой певца, фальшивой интонацией, когда-нибудь это придаст его печали фальшивый тон, я это слышу уже сейчас, прислушиваясь к будущему, он определенно ложен, и каждый тон его фальшив, уже сейчас я слышу, прежде чем он вообще начнет, иначе не услышит ни один, они же ничего не слышат, вопящие девицы, слышат лишь одного его, но нет, и то, что слышат, тоже чепуха, но я ведь это слышу, он занимал меня как свой объект чрезмерно, ничего удивительного, он был моим менеджером, своего объекта, и отвел мне слишком большую роль, извольте, я говорю «отвел», так как он сперва создал это место для меня, это не моя заслуга, но он, он слишком высоко меня возвысил, и эта чрезмерная роль объекта, которую он отвел именно мне (я об этом не просила, поверьте!), исполняет примерно роль одной пораненной части тела, едва прикрытой из-за роста раздраженья.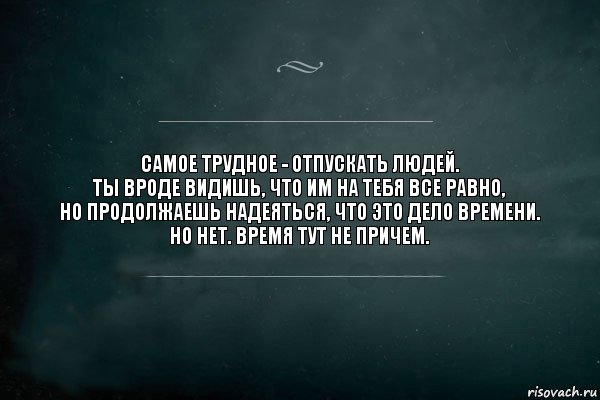 Мертвецы ведь для оставшихся становятся все притягательней, чем они когда-либо были. Он смотрит на меня как на часть своего тела, иначе меня он вообще не способен видеть. Ясное дело. И непрерывность и незадерживаемость этого процесса концентрации психической энергии, отвечающего незадерживаемости его боли, которую он должен познать как настоящую, страшную боль в теле, вызывает состояние, приводит его в состояние, которое, как бы это сказать, ах нет, за меня уже кто-то сказал, спасибо, итак, непрерывность и неесте… ах, нестесненность, нет, тоже нет, незадерживаемость приводят его затем в состояние полной беспомощности. Или продлевают это состояние, ибо иначе как беспомощным я его никогда не видела. Я уже вижу перед собой, как еще лежу в траве и на глазах начинаю отбрасывать тень и превращаюсь в труху, сверху ударяет молния, но меня она больше не освещает, с гор сходит буря, но она меня больше не швыряет, что мне здесь нужно, разве я не высшее существо, имеющее право? Что мне здесь нужно? Больше не покрытой кожей быть? Стать тенью? Не быть существом и больше ничего не значить, но я ведь никогда такою не была.
Мертвецы ведь для оставшихся становятся все притягательней, чем они когда-либо были. Он смотрит на меня как на часть своего тела, иначе меня он вообще не способен видеть. Ясное дело. И непрерывность и незадерживаемость этого процесса концентрации психической энергии, отвечающего незадерживаемости его боли, которую он должен познать как настоящую, страшную боль в теле, вызывает состояние, приводит его в состояние, которое, как бы это сказать, ах нет, за меня уже кто-то сказал, спасибо, итак, непрерывность и неесте… ах, нестесненность, нет, тоже нет, незадерживаемость приводят его затем в состояние полной беспомощности. Или продлевают это состояние, ибо иначе как беспомощным я его никогда не видела. Я уже вижу перед собой, как еще лежу в траве и на глазах начинаю отбрасывать тень и превращаюсь в труху, сверху ударяет молния, но меня она больше не освещает, с гор сходит буря, но она меня больше не швыряет, что мне здесь нужно, разве я не высшее существо, имеющее право? Что мне здесь нужно? Больше не покрытой кожей быть? Стать тенью? Не быть существом и больше ничего не значить, но я ведь никогда такою не была.
Так. Извольте. Посмотрим на мгновение из его башни, но наверх я не взберусь! Башня – такая высь, туда сначала взобраться нужно. Я не могу. У меня уже сейчас все болит. Кроме того, эта лестница шатается от ветра. Раньше я еще гуляла по цветочным лугам, и земля подо мной была послушна и тиха, теперь же я должна лезть в высоту. Тут есть тропинки и получше, но я их не нахожу. Куда податься? Беспомощность уныние рождает. Извольте, но не у меня, ибо беспомощность – моя стандартная позиция, моя установка, страх и беспомощность, я к этому привыкла. Ему же неведомо все это. Где мы сейчас, на какой странице, где закончим? Закроем сейчас эту главу? Короче говоря: реакция на мое исчезновенье в любом случае — чувство лишенности, первым делом для меня, певец же делает вид, будто самым лишенным был он, при том что я лишилась целой жизни! Но самый лишенный это он! В одном случае боль, в другом форма реакции — страх, тем больше, чем сильнее отношения связи со мной, я бы сказала: отношение связи, приклеился ко мне, видит только мою тень, пугается, так как видит рядом с этой тенью еще и другую, самого себя, и идет вместе со мной, и продолжает идти, и пугается, после того как я съела ее за своим столом, сварив для нее обед, и все без смысла, мир без смысла, моя жизнь без возможности, после того как он встал и быстро осмотрелся вокруг, увидел две тени, одна – это я, другая – правда, провозглашающая себя не иначе как усталость, стоит только ей открыть рот и сказать: да какая разница. Но этого не может быть. У него своя тень, у меня своя, я тень теперь, но равны мы быть не можем, вот человек на земле стоит и думает, он видит две тени, свою и мою, ставшую тенью, нет, не тенью самой себя, а всего лишь тенью, простой тенью, одну тень, пожалуйста, и он продолжает ехать и быстро смотрит, кто эта вторая тень? Почему две? Откуда та вторая? Рядом со мной может быть какое-то созданье, отбрасывающее тень, но я вижу всего лишь эту тень, эту, а потом свою, конечно же, свою, она мне принадлежит подобно коже, как так, откуда это, кто стер созданье, которое рядом со мной отбрасывало тень? Так, сюда глядите, и в нашем отношенье моей связи с тенью, какая разница, кто это, к несчастью, я еще раз должна вот к чему вернуться: в нашем слишком сильном отношенье связи, неважно, кому принадлежала эта вторая тень, этот человек исчез, но тень свою оставил, неважно, кто он есть, что я сказать хотела, именно в нашей связи царит слишком сильное отношение связи, не к личности отбрасывателя тени, неважно кто ей был или есть, а ко мне, ко мне! Не понимаю: я к себе самой приклеилась? Я тень на тени, обе мои, подобно игральным картам, что швыряют на столе? И тут, в этой слишком сильной связи, слишком для меня, кто-то оставил тень, дал ей просто полежать, и он примыкает ко мне, нет, минутку, вот он идет, наконец-то он идет, но отношенья связь была так сильна, слишком сильна для него? для кого? Для меня? И в ней, в этой связи свершаются эти неприятные вплоть до смертельных процессы, которые неизбежны, но я даже не сопротивляюсь! Ведут к глубочайшему унынью, даже к отчаянью.
Но этого не может быть. У него своя тень, у меня своя, я тень теперь, но равны мы быть не можем, вот человек на земле стоит и думает, он видит две тени, свою и мою, ставшую тенью, нет, не тенью самой себя, а всего лишь тенью, простой тенью, одну тень, пожалуйста, и он продолжает ехать и быстро смотрит, кто эта вторая тень? Почему две? Откуда та вторая? Рядом со мной может быть какое-то созданье, отбрасывающее тень, но я вижу всего лишь эту тень, эту, а потом свою, конечно же, свою, она мне принадлежит подобно коже, как так, откуда это, кто стер созданье, которое рядом со мной отбрасывало тень? Так, сюда глядите, и в нашем отношенье моей связи с тенью, какая разница, кто это, к несчастью, я еще раз должна вот к чему вернуться: в нашем слишком сильном отношенье связи, неважно, кому принадлежала эта вторая тень, этот человек исчез, но тень свою оставил, неважно, кто он есть, что я сказать хотела, именно в нашей связи царит слишком сильное отношение связи, не к личности отбрасывателя тени, неважно кто ей был или есть, а ко мне, ко мне! Не понимаю: я к себе самой приклеилась? Я тень на тени, обе мои, подобно игральным картам, что швыряют на столе? И тут, в этой слишком сильной связи, слишком для меня, кто-то оставил тень, дал ей просто полежать, и он примыкает ко мне, нет, минутку, вот он идет, наконец-то он идет, но отношенья связь была так сильна, слишком сильна для него? для кого? Для меня? И в ней, в этой связи свершаются эти неприятные вплоть до смертельных процессы, которые неизбежны, но я даже не сопротивляюсь! Ведут к глубочайшему унынью, даже к отчаянью. А потом и вовсе больше ни к чему. Да, так с уверенностью он думает, когда видит вторую тень, спорим? Так как меня никто другой с собой не возьмет, меня, тень, я надеваю саму на себя, и ухожу. Певец перед этим не смирится, я уже чувствую. Он вечно хочет все. Его я знаю. Он хочет удержать меня, не хочет отдавать, даже как тень хочет иметь при себе, без меня он не в состоянье верно оценить настроение вечера или утра, без меня он не сможет больше достаточно уважать себя. Он требует всего, пусть, он требует этого и от себя, как певец дает он все, но за это он требует меня назад. За меня меня он хочет. За золото жестянку хочет. Там кто-то кричит? Нет? Вы ничего не слышали? Ну кто я! Какое мне дело до этого? Я иду. Что мне там делать? Что там вообще хотят делать?
А потом и вовсе больше ни к чему. Да, так с уверенностью он думает, когда видит вторую тень, спорим? Так как меня никто другой с собой не возьмет, меня, тень, я надеваю саму на себя, и ухожу. Певец перед этим не смирится, я уже чувствую. Он вечно хочет все. Его я знаю. Он хочет удержать меня, не хочет отдавать, даже как тень хочет иметь при себе, без меня он не в состоянье верно оценить настроение вечера или утра, без меня он не сможет больше достаточно уважать себя. Он требует всего, пусть, он требует этого и от себя, как певец дает он все, но за это он требует меня назад. За меня меня он хочет. За золото жестянку хочет. Там кто-то кричит? Нет? Вы ничего не слышали? Ну кто я! Какое мне дело до этого? Я иду. Что мне там делать? Что там вообще хотят делать?
Бытие мое переменилось в то, что его окружает, в его оболочку, плоская она, без меня плоская она. Ах, дивные вы платья, я собрала их кучу, не мания ли это? Ониомания? Шопоголизм? Да, мания, все мое. Лучше бы мне вывернуться наизнанку, как перчатка, так, чтоб видна была моя личина, но не я. Я хотела бы исчезнуть под оболочкой из шелков, разнообразных, разнообразнейших шелков, а вместо этого сейчас я исчезаю целиком, выходит, сама я оболочка! Кто бы мог подумать?! Что страсть моя к облачению — к тому, чтобы под ним незримой быть, чтоб мне прощали, но что? — себя саму в оболочку превращает. Что я существую, ни во что не облачаясь, не будучи обязанной во что-то облачаться,- нет, я точно говорю не о моем счете. Ну да, эта проблема была бы решена. Что знаю я, что?! Чтоб на виду была видна не я, помешанная на моде, а эти дивные наряды, должна иметь я это, это и еще это! Нет, это нет, это слишком дорого для того, что я это надену три раза и брошу потом, упавшее как тень, недавно бывшая моей, когда она была ненужной из-за темноты. Нет, а это же совсем недорого? Как так слишком дорого? Это было совсем недорого! И из моды не выходит, что забывать не стоит. Дальше пошли, нет, возвращаемся назад, назад вернемся и эту куртку тоже купим, она так гармонирует с юбкой, со штанами и с другими тоже, куртка идет как к узким, так и к широким брюкам, к брюкам-сигаретам, к джинсам-скинни и к брюкам а-ля Марлен, мы подумаем, но тотчас будем знать, что не о чем тут думать, и сразу же их купим.
Я хотела бы исчезнуть под оболочкой из шелков, разнообразных, разнообразнейших шелков, а вместо этого сейчас я исчезаю целиком, выходит, сама я оболочка! Кто бы мог подумать?! Что страсть моя к облачению — к тому, чтобы под ним незримой быть, чтоб мне прощали, но что? — себя саму в оболочку превращает. Что я существую, ни во что не облачаясь, не будучи обязанной во что-то облачаться,- нет, я точно говорю не о моем счете. Ну да, эта проблема была бы решена. Что знаю я, что?! Чтоб на виду была видна не я, помешанная на моде, а эти дивные наряды, должна иметь я это, это и еще это! Нет, это нет, это слишком дорого для того, что я это надену три раза и брошу потом, упавшее как тень, недавно бывшая моей, когда она была ненужной из-за темноты. Нет, а это же совсем недорого? Как так слишком дорого? Это было совсем недорого! И из моды не выходит, что забывать не стоит. Дальше пошли, нет, возвращаемся назад, назад вернемся и эту куртку тоже купим, она так гармонирует с юбкой, со штанами и с другими тоже, куртка идет как к узким, так и к широким брюкам, к брюкам-сигаретам, к джинсам-скинни и к брюкам а-ля Марлен, мы подумаем, но тотчас будем знать, что не о чем тут думать, и сразу же их купим.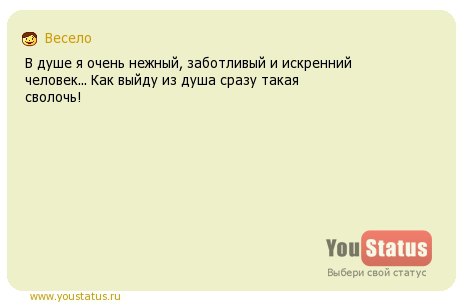 Есть море возможностей совершать покупки, теперь и в сети, давно уже в сети, фото фото фото, и все вместе с их описаниями. Я покупаю себе что-то, чтоб наконец, исчезнуть. Это моя истина, исчезновение моя истина, и под воздействием ее могу я на божий свет извлечь мою историю — историю моей маниакальной страсти к купле, она меня гонит что-то купить, сознаюсь, при купле танцует счастливчик перед зеркалом, перед стеклом витрины, перед стеклом авто, его обращающим в призрак, но танец недолго длится, увянет он перед отражением своим, потому что знает: не успело что-то новизной блеснуть, как оно уже устарело. Не успеешь чем-то воспользоваться при всем его весе, как уж природа с ее тщеславием творит – я уж знаю, отчего я ее так ненавижу! – творит природа, и все увядает, отцветает, старится и умирает. Подобие таинственного телекинеза, нет, не природой, таинственными звуками Аполлона? Нет, кто там поет, это не он, простите, это мой муж, к Аполлону он не имеет никакого отношенья, он порой лишь гены напрокат у него берет да колесницу, в которой некто однажды уже погиб, этот глупый Фаэтон, колесницу потом, правда, изладили снова, в другой только форме, но Фаэтону все только во вред.
Есть море возможностей совершать покупки, теперь и в сети, давно уже в сети, фото фото фото, и все вместе с их описаниями. Я покупаю себе что-то, чтоб наконец, исчезнуть. Это моя истина, исчезновение моя истина, и под воздействием ее могу я на божий свет извлечь мою историю — историю моей маниакальной страсти к купле, она меня гонит что-то купить, сознаюсь, при купле танцует счастливчик перед зеркалом, перед стеклом витрины, перед стеклом авто, его обращающим в призрак, но танец недолго длится, увянет он перед отражением своим, потому что знает: не успело что-то новизной блеснуть, как оно уже устарело. Не успеешь чем-то воспользоваться при всем его весе, как уж природа с ее тщеславием творит – я уж знаю, отчего я ее так ненавижу! – творит природа, и все увядает, отцветает, старится и умирает. Подобие таинственного телекинеза, нет, не природой, таинственными звуками Аполлона? Нет, кто там поет, это не он, простите, это мой муж, к Аполлону он не имеет никакого отношенья, он порой лишь гены напрокат у него берет да колесницу, в которой некто однажды уже погиб, этот глупый Фаэтон, колесницу потом, правда, изладили снова, в другой только форме, но Фаэтону все только во вред. Роковой это случай поистине был, моего же мой муж не заметил даже, лишь солнце да эфа-убийца очевидцами были, но крушение, у мира на виду, колесницы настоящего титана, что потом рассыпается в прах, о солнце, прошу: вперед не суйся! останься на небосклоне! Не падай вниз! Прошу! Повремени! Сначала рушатся вершины, затем трещины наверх взлетят и больше на место не вернутся, а затем иссякнет вся на свете влага, все исчезнет, никем до дна не испитое, но все ж исчезнет без следа. Луга, по которым я гуляла, до той поры как умерла, покрылись белым пеплом, но что мне луга теперь, зачем мне ныне луг, когда я тень, зачем мне ныне луга тень, чтоб покрасоваться? Он мне не нужен. Пещера мне нужна, Аид мне нужен, и я его без указателя найду, коль уж земля мне указала вон. Для изгнанных есть лишь одна дорога, и она не та, что лишь «вон!» говорит. Деревья вместе с листьями опалены, и даже зрелое зерно в огне испепелилось. Итог: есть больше нечего, большие города вместе со стенами падут, народы в пепел обратятся и исчезнут.
Роковой это случай поистине был, моего же мой муж не заметил даже, лишь солнце да эфа-убийца очевидцами были, но крушение, у мира на виду, колесницы настоящего титана, что потом рассыпается в прах, о солнце, прошу: вперед не суйся! останься на небосклоне! Не падай вниз! Прошу! Повремени! Сначала рушатся вершины, затем трещины наверх взлетят и больше на место не вернутся, а затем иссякнет вся на свете влага, все исчезнет, никем до дна не испитое, но все ж исчезнет без следа. Луга, по которым я гуляла, до той поры как умерла, покрылись белым пеплом, но что мне луга теперь, зачем мне ныне луг, когда я тень, зачем мне ныне луга тень, чтоб покрасоваться? Он мне не нужен. Пещера мне нужна, Аид мне нужен, и я его без указателя найду, коль уж земля мне указала вон. Для изгнанных есть лишь одна дорога, и она не та, что лишь «вон!» говорит. Деревья вместе с листьями опалены, и даже зрелое зерно в огне испепелилось. Итог: есть больше нечего, большие города вместе со стенами падут, народы в пепел обратятся и исчезнут. Да, меня могло б потешить это, такой почет лишь благодаря одной единственной автокатастрофе! Но я умираю смирно. Моя тень подтверждает, никто обо мне не спросил. И певец не спросил, он уже знает. Он знает. Без понятия что. Тень говорит: теперь меняйте свой образ жизни! Судьбу меняйте, пожалуй, я этого могу потребовать, поскольку вы сами отныне тень! А тень не ведает избытка. Тоньше папиросной бумаги. Только, — говорит тень, то есть я, — можно мне не оставаться слишком долго на одном месте, иначе заметят, что у меня нет тени, что я скорее настоящая тень, но она гораздо меньше тени. Спокойно, молвит моя тень, я говорю, этот гнетущий страх вас скоро покинет, поскольку у вас больше не будет возможности уйти с места, откуда вы пришли. Все лишнее мы отрежем, это тени не нужно. Ей нужен только чистый контур. Мой сверхразмер, который я сама себе скроила, не влезет и в парочку шкафов. Кроме меня лишь природе ведом такой сверхразмер, если только все же не в моем лице, избыток шарма здесь больше не царит; мой платяной шкаф не безразмерен, он держит свой нормальный размер Икеи, столько я покупаю.
Да, меня могло б потешить это, такой почет лишь благодаря одной единственной автокатастрофе! Но я умираю смирно. Моя тень подтверждает, никто обо мне не спросил. И певец не спросил, он уже знает. Он знает. Без понятия что. Тень говорит: теперь меняйте свой образ жизни! Судьбу меняйте, пожалуй, я этого могу потребовать, поскольку вы сами отныне тень! А тень не ведает избытка. Тоньше папиросной бумаги. Только, — говорит тень, то есть я, — можно мне не оставаться слишком долго на одном месте, иначе заметят, что у меня нет тени, что я скорее настоящая тень, но она гораздо меньше тени. Спокойно, молвит моя тень, я говорю, этот гнетущий страх вас скоро покинет, поскольку у вас больше не будет возможности уйти с места, откуда вы пришли. Все лишнее мы отрежем, это тени не нужно. Ей нужен только чистый контур. Мой сверхразмер, который я сама себе скроила, не влезет и в парочку шкафов. Кроме меня лишь природе ведом такой сверхразмер, если только все же не в моем лице, избыток шарма здесь больше не царит; мой платяной шкаф не безразмерен, он держит свой нормальный размер Икеи, столько я покупаю. Он держит свой размер. То и то и то в него не влезет больше. Я хотела б непритворной быть, себя средь пестрых шмоток сохранить, и при этом сама я в клочья изодралась. Вам среди женщин, которые своими матерями нелюбимы были, известна хоть одна, так помешанная на одежде? Они хотят вслепую уважения добиться, и слепы быть они должны, коль посмотреть, чего там они понакупили. Я часто наблюдала, что холодную важность матрон прикрыть или смягчить, порою даже вовсе скрыть, можно было кучею одежд. Пробел в воспоминаньях закрыт, дыра в моем теле сомкнулась, мои симптомы оставив на потом. Ведь всякий раз становишься другой, которая, быть может, становится любимой, даже коль мама нимфоманка, а!, нимфа, я по меньшей мере тоже ею быть должна. Но что-то я того не замечаю. Я это зараз по флюидам определяю, ведь тот, кто слишком уж влюблен, тому не верят, кто слишком уж любим, того уж больше совсем не замечают. Кто совсем не любит, тот и не должен в распоряженье быть. Очень приятное состояние, не колеблясь, скажу, верить в то, чтоб быть никем и больше не желать кем-то стать.
Он держит свой размер. То и то и то в него не влезет больше. Я хотела б непритворной быть, себя средь пестрых шмоток сохранить, и при этом сама я в клочья изодралась. Вам среди женщин, которые своими матерями нелюбимы были, известна хоть одна, так помешанная на одежде? Они хотят вслепую уважения добиться, и слепы быть они должны, коль посмотреть, чего там они понакупили. Я часто наблюдала, что холодную важность матрон прикрыть или смягчить, порою даже вовсе скрыть, можно было кучею одежд. Пробел в воспоминаньях закрыт, дыра в моем теле сомкнулась, мои симптомы оставив на потом. Ведь всякий раз становишься другой, которая, быть может, становится любимой, даже коль мама нимфоманка, а!, нимфа, я по меньшей мере тоже ею быть должна. Но что-то я того не замечаю. Я это зараз по флюидам определяю, ведь тот, кто слишком уж влюблен, тому не верят, кто слишком уж любим, того уж больше совсем не замечают. Кто совсем не любит, тот и не должен в распоряженье быть. Очень приятное состояние, не колеблясь, скажу, верить в то, чтоб быть никем и больше не желать кем-то стать. Сколько будет возражений, ведь многие так и рвутся обещать другу счастье, в походах легковесно действовать за друга и спасать любимую. Она холодна как рыба. У меня всегда была страсть заменять себя платьем, платье вместо меня, какие чудные вещи я себе покупала, такая радость каждый раз! На пижонство свое я могла положиться, состояние целое я выложила за это. Песнопевец тоже был здесь щедрое сердце. Пока самого его не захватил этот тряпок поток. Пучина, да, просто кошмар, и все для меня. И где я теперь? Я не должна была отбрасывать тень, ибо однажды это случится, что не поймаешь, ибо однажды она исчезнет и не возвратится. О боже! Пропала моя тень, иль нет, я ныне что-то вроде тени, исчезло все остальное? Вполне может быть. Я вспомнила об этом лишь потому, что мне недавно кто-то сказал по телефону, якобы я потеряла свою тень. Да разве он не видит, что я тень, а та другая, которой я была, крест-накрест перечеркнута и теперь исчезла вместо меня? Я вся исчезла, воистину вся, или нет, не воистину я, исчезло то, чем я была? Тучи, горы платьев, горы обуви, груды ткани, кожи, мешк…, ах нет, мехов, даже винила, с гарантией вечной!, поэтому тенью особо любим, но они, даже если они не под рукой, я имею в виду, даже если их нельзя взять в руки, несокрушимы: огромные ложа, огромные усыпальницы того, что больше было, нежели я, теперь вы скажете, конечно: Всяк больше, чем вы, все, что живет, стоит больше, чем любая женщина, да, пожалуй, даже чем многие женщины, ни одна из женщин ничего не возмещает, они возмещают только самих себя, нет, убаюкивают лишь самих себя, убаюкивают друг дружку и потом убаюкивают самих себя, они всегда лучше остальных, лучше, чем каждая из них? Лучше, чем любая другая? Но эту туфлю я тоже еще надену, у меня ведь таких навалом, нет, таких у меня больше нет, и поэтому ей место в обувнице, там есть даже совершенно неношеные! Легкомысленно и безответственно было с моей стороны покупать так много.
Сколько будет возражений, ведь многие так и рвутся обещать другу счастье, в походах легковесно действовать за друга и спасать любимую. Она холодна как рыба. У меня всегда была страсть заменять себя платьем, платье вместо меня, какие чудные вещи я себе покупала, такая радость каждый раз! На пижонство свое я могла положиться, состояние целое я выложила за это. Песнопевец тоже был здесь щедрое сердце. Пока самого его не захватил этот тряпок поток. Пучина, да, просто кошмар, и все для меня. И где я теперь? Я не должна была отбрасывать тень, ибо однажды это случится, что не поймаешь, ибо однажды она исчезнет и не возвратится. О боже! Пропала моя тень, иль нет, я ныне что-то вроде тени, исчезло все остальное? Вполне может быть. Я вспомнила об этом лишь потому, что мне недавно кто-то сказал по телефону, якобы я потеряла свою тень. Да разве он не видит, что я тень, а та другая, которой я была, крест-накрест перечеркнута и теперь исчезла вместо меня? Я вся исчезла, воистину вся, или нет, не воистину я, исчезло то, чем я была? Тучи, горы платьев, горы обуви, груды ткани, кожи, мешк…, ах нет, мехов, даже винила, с гарантией вечной!, поэтому тенью особо любим, но они, даже если они не под рукой, я имею в виду, даже если их нельзя взять в руки, несокрушимы: огромные ложа, огромные усыпальницы того, что больше было, нежели я, теперь вы скажете, конечно: Всяк больше, чем вы, все, что живет, стоит больше, чем любая женщина, да, пожалуй, даже чем многие женщины, ни одна из женщин ничего не возмещает, они возмещают только самих себя, нет, убаюкивают лишь самих себя, убаюкивают друг дружку и потом убаюкивают самих себя, они всегда лучше остальных, лучше, чем каждая из них? Лучше, чем любая другая? Но эту туфлю я тоже еще надену, у меня ведь таких навалом, нет, таких у меня больше нет, и поэтому ей место в обувнице, там есть даже совершенно неношеные! Легкомысленно и безответственно было с моей стороны покупать так много. Всё, так как мне это больше не нужно, я ведь и сама персонаж! Остальное избыток. Это как с тенью: люди думают, ее мне хватает, при этом я ведь та, кого нет! Я тень! Только в это никто не верит. Я недостаточно мила для того, кто на меня бросает взоры, но, может быть, эта мерлушка? Разве она не хороша? Можно носить с пояском или без, но коль с пояском, торчит сверху и снизу, словно бы под низом подгнило, ну скажите, разве оно не прелесть – это пальтишко? Гляньте, под ним вы меня совсем не заметите, меня не почуете ни разу больше, если сперва вы к этому привыкли, в этом и цель была, смотрите! Не показать, не проявить себя, а под ним исчезнуть. Велеть тени исчезнуть — вовсе не искусство. Нужно лишь упорно держаться в темноте. Но тенью быть, так чтобы другие этого не замечали: Но я и не знаю, как это делается. Лечь на солнце? Или, быть может, я выразить себя хочу, придать себе форму, как будто женщина может хотя бы сотворить себя сама? Ха-ха! Нет, разве я могла бы утвердить себя как личность благодаря этому шикарному да еще и теплому пальто? Оно так элегантно, что вовсе не должно быть теплым! Нет! Прошу, не смотрите на меня, смотрите на это элегантное спортивное пальто, спецы сегодня выразились бы совершенно иначе, я старалась выудить это из их жаргона.
Всё, так как мне это больше не нужно, я ведь и сама персонаж! Остальное избыток. Это как с тенью: люди думают, ее мне хватает, при этом я ведь та, кого нет! Я тень! Только в это никто не верит. Я недостаточно мила для того, кто на меня бросает взоры, но, может быть, эта мерлушка? Разве она не хороша? Можно носить с пояском или без, но коль с пояском, торчит сверху и снизу, словно бы под низом подгнило, ну скажите, разве оно не прелесть – это пальтишко? Гляньте, под ним вы меня совсем не заметите, меня не почуете ни разу больше, если сперва вы к этому привыкли, в этом и цель была, смотрите! Не показать, не проявить себя, а под ним исчезнуть. Велеть тени исчезнуть — вовсе не искусство. Нужно лишь упорно держаться в темноте. Но тенью быть, так чтобы другие этого не замечали: Но я и не знаю, как это делается. Лечь на солнце? Или, быть может, я выразить себя хочу, придать себе форму, как будто женщина может хотя бы сотворить себя сама? Ха-ха! Нет, разве я могла бы утвердить себя как личность благодаря этому шикарному да еще и теплому пальто? Оно так элегантно, что вовсе не должно быть теплым! Нет! Прошу, не смотрите на меня, смотрите на это элегантное спортивное пальто, спецы сегодня выразились бы совершенно иначе, я старалась выудить это из их жаргона. Пальтишко разве не блеск? Похожее можно найти и в винтажных магазинчиках, если постараться и ради этого потратить три недели, но что такое время! Оно не в счет, коль вещица из моды не выходит. До меня его носил уже кто-то другой, но теперь он должен свести знакомство с моим величеством, это шикарное пальто, и этим величеством я в свою очередь обязана ему. Это взаимообмен. Пальто что-то из меня творит. К сожаленью, тени носить его больше невозможно, вечно оно сползает с Ничего, то бишь с меня. Я становлюсь инопланетянкой, инопланетянкой благодаря платьям, что открываются как судьбы, в которые я влетаю, да, мои платья, которые я годами скупала для себя, чтоб завоевать признанье! Ничто не помогло. И все же! Как зверь бросалась я на свою добычу: это я должна иметь, это и это тоже! Уже хорошо. Прощанье с платьями моими даже хуже, чем с певцом. Мои платья цепляются за меня, я их давно от себя отцепила, зато теперь они цепляются за меня! Снова слышу девичий вой вдали. Визг, уи, уи, уиии! Вот это оргия, сэлфи на телефон! Билеты как всегда распроданы! А певца в паузах меж безотменными паузами для переодеванья ничто не отличит от девицы, от девицы он неотличим.
Пальтишко разве не блеск? Похожее можно найти и в винтажных магазинчиках, если постараться и ради этого потратить три недели, но что такое время! Оно не в счет, коль вещица из моды не выходит. До меня его носил уже кто-то другой, но теперь он должен свести знакомство с моим величеством, это шикарное пальто, и этим величеством я в свою очередь обязана ему. Это взаимообмен. Пальто что-то из меня творит. К сожаленью, тени носить его больше невозможно, вечно оно сползает с Ничего, то бишь с меня. Я становлюсь инопланетянкой, инопланетянкой благодаря платьям, что открываются как судьбы, в которые я влетаю, да, мои платья, которые я годами скупала для себя, чтоб завоевать признанье! Ничто не помогло. И все же! Как зверь бросалась я на свою добычу: это я должна иметь, это и это тоже! Уже хорошо. Прощанье с платьями моими даже хуже, чем с певцом. Мои платья цепляются за меня, я их давно от себя отцепила, зато теперь они цепляются за меня! Снова слышу девичий вой вдали. Визг, уи, уи, уиии! Вот это оргия, сэлфи на телефон! Билеты как всегда распроданы! А певца в паузах меж безотменными паузами для переодеванья ничто не отличит от девицы, от девицы он неотличим.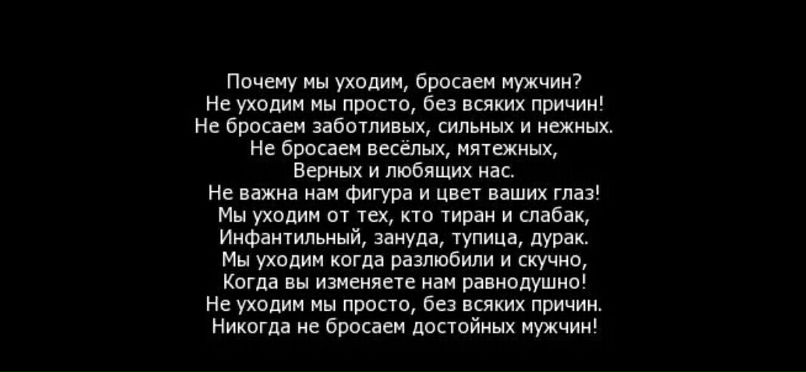 Девки в блудливой похоти валятся на пол, визжат, ревут, все те же рыбьи лица, безумная стая, сверкая своими смартфонами, мерцая письками под рванью, подмигивая глазками, детские игрушки, их детские парапланы, они взлетят сейчас! и скоро мы взрослыми станем, мы взрослыми станем, но ужасны мы уже сейчас! Всех порвем! Пусть только сунется кто на нашу улицу! Уи! Рев! Платья! Да на кой они им, с телес сами, сами слетают, когда он поет, когда они слышат певца в обтягивающих яйца джинсах. Смогла ли я смерти избежать ценой моих платьев, наивысшей власти, которую я когда-либо признавала? Нет, ведь я все равно мертва. Теперь я это понимаю. Ничто не могло бы меня удержать от того, чтоб тенью стать в царстве теней, тенью среди теней, сквозь усилья рассвета: тенью. Тень здесь от заката до рассвета, итак, ни зги не видно. Все кончено. Никогда бы не подумала, что это происходит так быстро. В своем легком костюмчике для джоггинга с символикой, ничего не говорящими иероглифами, гербом, эмблемой, маркой фирмы, что не имеют как смысла, так и значения, фальсификат фальсификата, казалось, я та же, какою только что была, что на старте, что на финише, но таю на глазах, укладываюсь в мешок, завязываю туже веревочки, что с меня свисают, понятия не имею, на что они нужны, скорей мешают, теперь мне нравятся простые платья, без этой хрустальной чепухи, что ж, давайте ее свяжем, аккуратную тень, которая — ты! Ничто не держит.
Девки в блудливой похоти валятся на пол, визжат, ревут, все те же рыбьи лица, безумная стая, сверкая своими смартфонами, мерцая письками под рванью, подмигивая глазками, детские игрушки, их детские парапланы, они взлетят сейчас! и скоро мы взрослыми станем, мы взрослыми станем, но ужасны мы уже сейчас! Всех порвем! Пусть только сунется кто на нашу улицу! Уи! Рев! Платья! Да на кой они им, с телес сами, сами слетают, когда он поет, когда они слышат певца в обтягивающих яйца джинсах. Смогла ли я смерти избежать ценой моих платьев, наивысшей власти, которую я когда-либо признавала? Нет, ведь я все равно мертва. Теперь я это понимаю. Ничто не могло бы меня удержать от того, чтоб тенью стать в царстве теней, тенью среди теней, сквозь усилья рассвета: тенью. Тень здесь от заката до рассвета, итак, ни зги не видно. Все кончено. Никогда бы не подумала, что это происходит так быстро. В своем легком костюмчике для джоггинга с символикой, ничего не говорящими иероглифами, гербом, эмблемой, маркой фирмы, что не имеют как смысла, так и значения, фальсификат фальсификата, казалось, я та же, какою только что была, что на старте, что на финише, но таю на глазах, укладываюсь в мешок, завязываю туже веревочки, что с меня свисают, понятия не имею, на что они нужны, скорей мешают, теперь мне нравятся простые платья, без этой хрустальной чепухи, что ж, давайте ее свяжем, аккуратную тень, которая — ты! Ничто не держит. Какая это мука, когда ничего не держится на человеке. Притом оно должно меня скрывать, а я теперь закрытый капюшон, которому боле нечего скрывать. И не нужно. Пусто внутри. Совершенно пустой была, а теперь еще и плоской стала. Что осталось? Неужто Ничего и есть то, что осталось? Лишь моя тень, плоская, словно электрический скат в траве? Что же будет теперь? Почему они меня не уберегли? Почему не удержали? Чтобы мое резюме не было бы слишком коротким? Они все меня переживут, эти платья, они все вместе дольше проживут, чем я. Отныне, в одночасье все и каждый дольше будут жить, чем я, даже чем старцы, а мне мое бытие больше невозможно будет обменять. Мои дивные платья. Они всё для меня. И вдруг вокруг все засуетились. Чего они хотят? Хотят в коварной, жопопираньей, взбушевавшей как буря суете отнять мои платья и в джинсы, что ли, меня засунуть, чтоб подчеркнуть все изъяны моей фигуры? В одни лишь джинсы, что все на себя натянули? Только не на мне! Я в джинсах? Никогда! Бедра очертились бы уж слишком, а оригинал, который очерчивают они, и так был не подарок.
Какая это мука, когда ничего не держится на человеке. Притом оно должно меня скрывать, а я теперь закрытый капюшон, которому боле нечего скрывать. И не нужно. Пусто внутри. Совершенно пустой была, а теперь еще и плоской стала. Что осталось? Неужто Ничего и есть то, что осталось? Лишь моя тень, плоская, словно электрический скат в траве? Что же будет теперь? Почему они меня не уберегли? Почему не удержали? Чтобы мое резюме не было бы слишком коротким? Они все меня переживут, эти платья, они все вместе дольше проживут, чем я. Отныне, в одночасье все и каждый дольше будут жить, чем я, даже чем старцы, а мне мое бытие больше невозможно будет обменять. Мои дивные платья. Они всё для меня. И вдруг вокруг все засуетились. Чего они хотят? Хотят в коварной, жопопираньей, взбушевавшей как буря суете отнять мои платья и в джинсы, что ли, меня засунуть, чтоб подчеркнуть все изъяны моей фигуры? В одни лишь джинсы, что все на себя натянули? Только не на мне! Я в джинсах? Никогда! Бедра очертились бы уж слишком, а оригинал, который очерчивают они, и так был не подарок.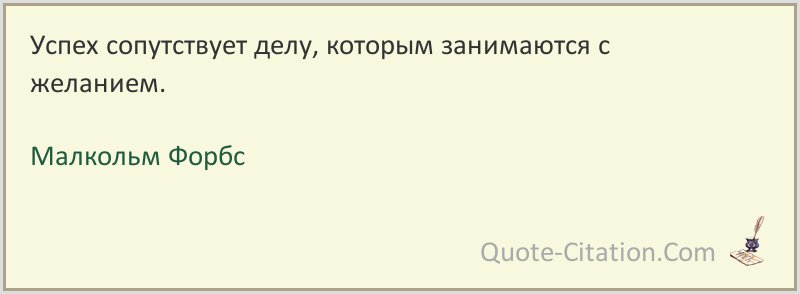
Что вообще вам нужно от меня? Хотите и себе купить то, что я ношу? Отлично понимаю. Уж вам я бы сказала, откуда это у меня, но это было всего один-единственный раз, и было это для меня! Что вам нужно? Меня вы не можете хотеть, так что же? Для вечно полного кошелька любовных писем, из которого мой певец в любое время меня великодушно оделяет, как будто их неограниченный запас, чтоб я могла покупки совершать в моем любимом бутике, за это кто-нибудь, как вы, конечно, отдал бы все. Я важным нахожу, что есть! Отдавайте спокойно все, но поберегите себя от злого пробужденья, поберегите от злого повзросленья! Я та, что отдает, с охотой даже, но при этом всегда оставляет себе чуток. Вы можете меня спокойно удалить, как надоедливое пятно, если мне оставите мои лишь платья. Если я смогу одни свои лишь платья взять. Они все, что я есть. Они прикрывают собою все, чем я могла бы быть. Нет, вы говорите, я не должна? Теперь и так ничего здесь нет, что можно бы прикрыть. При этом ни следа кокетства. Если вы предоставите мне возможность приобрести еще одежды, могли б меня заполучить, за эти платья я отдала бы жизнь, но не должна, ведь меня уж больше нет. Никто того не замечает, я все равно не в счет. В счет только тряпки. Везде фото, это почти фотомодели, почти так же хороши, не хватает чуть-чуть. Видно, что у меня все на месте. Правда, я плоская, и даже еще не фотография. Принимаю доброжелательный совет одного иностранца и прячусь под деревьями, под которыми исчезаю, исчезает даже тень. Покупаю, хожу от одного магазина к другому и покупаю, и если бы это была только губная помада, подводка, в аптеке это практически ничего не стоит, покупаю, уже купила, окей. Ничего мне не нужно, но я беру все, что могу получить, и это там, и еще это. За это жизнь я бы отдала. За это я умираю теперь, ничего страшного, я и без того уже мертва. Люди мне не нужны, мне нужен киллер. Немое бытие. Наконец молчанье! Быть фоткой. Владеть собственной персоной больше не хочу, невелика важность, платьев хочу, украшений, которые фигуру бы выделили, подчеркнули.
Если вы предоставите мне возможность приобрести еще одежды, могли б меня заполучить, за эти платья я отдала бы жизнь, но не должна, ведь меня уж больше нет. Никто того не замечает, я все равно не в счет. В счет только тряпки. Везде фото, это почти фотомодели, почти так же хороши, не хватает чуть-чуть. Видно, что у меня все на месте. Правда, я плоская, и даже еще не фотография. Принимаю доброжелательный совет одного иностранца и прячусь под деревьями, под которыми исчезаю, исчезает даже тень. Покупаю, хожу от одного магазина к другому и покупаю, и если бы это была только губная помада, подводка, в аптеке это практически ничего не стоит, покупаю, уже купила, окей. Ничего мне не нужно, но я беру все, что могу получить, и это там, и еще это. За это жизнь я бы отдала. За это я умираю теперь, ничего страшного, я и без того уже мертва. Люди мне не нужны, мне нужен киллер. Немое бытие. Наконец молчанье! Быть фоткой. Владеть собственной персоной больше не хочу, невелика важность, платьев хочу, украшений, которые фигуру бы выделили, подчеркнули. А кто здесь снова меня теперь превознесет? Не понимаю. И меня не понимают. Для кого тень – сокровище? Кому она нужна? Всяк имеет ведь свою. Я бы сейчас купила себе еще какую-нибудь роскошь; тени, той что я есть, придала бы себе слегка другую форму, для смены, я имею ввиду только… нет, не любовь человека, которой я не хочу, и покупать ее тоже желания нет. Мне говорят, эта фаза быстро пройдет. И без того мне бы не удалось, даже если б я хотела. Верно: меня никто не любит. Принимаю это как знак, что возвращаться я не должна. Если бы так поступал каждый, давно бы здесь никого не было. Быть может, когда-то я играла мыслью этой — любимой быть, быть здесь, срочно быть нужной, быть полезной, как вещь, которую можно себе купить, а потом совсем расхотеть, потому что в ней не было нужды, в это лишь поверил, всегда нуждался в чем-то другом, торговля секондхэндом и подержанными авто ликует, ей все это достанется даром, и этот клиент точно вернется и обменяет секондхэнд на еще более древний секондхэнд, который ему вдруг показался гораздо нужнее, так как он любить может лишь то, чего жаждет толпа.
А кто здесь снова меня теперь превознесет? Не понимаю. И меня не понимают. Для кого тень – сокровище? Кому она нужна? Всяк имеет ведь свою. Я бы сейчас купила себе еще какую-нибудь роскошь; тени, той что я есть, придала бы себе слегка другую форму, для смены, я имею ввиду только… нет, не любовь человека, которой я не хочу, и покупать ее тоже желания нет. Мне говорят, эта фаза быстро пройдет. И без того мне бы не удалось, даже если б я хотела. Верно: меня никто не любит. Принимаю это как знак, что возвращаться я не должна. Если бы так поступал каждый, давно бы здесь никого не было. Быть может, когда-то я играла мыслью этой — любимой быть, быть здесь, срочно быть нужной, быть полезной, как вещь, которую можно себе купить, а потом совсем расхотеть, потому что в ней не было нужды, в это лишь поверил, всегда нуждался в чем-то другом, торговля секондхэндом и подержанными авто ликует, ей все это достанется даром, и этот клиент точно вернется и обменяет секондхэнд на еще более древний секондхэнд, который ему вдруг показался гораздо нужнее, так как он любить может лишь то, чего жаждет толпа. Но осталось что-то, пускай и немного: мысль, что это не много. Простите. Я даю вам право меня похитить, а мне за то позвольте без конца и далее покупать эти платья, от которых я без ума, так без ума, как вы от чего-то другого, что мне все равно. К сожаленью, все определяет кошелек, всего я не могла купить никогда, должна была выбирать, что было сложно, часто было сложно, я по выгоде хватала, по бросовой цене, как говорят, бросалась на бросовое, а потом на меня бросилась змея — и конец! Всегда я, вечный счетовод, так тратила деньги, чтоб выбрать побольше. Не исключая корысти, ведь все это было для меня, от смерти меня спасти? Но нет, что вы подумали, смерть должна, наконец, платья от меня спасти! И бренность должна меня от меня самой спасти. Наконец! Сейчас она это сделает. Уж вам придется свидетелями стать.
Но осталось что-то, пускай и немного: мысль, что это не много. Простите. Я даю вам право меня похитить, а мне за то позвольте без конца и далее покупать эти платья, от которых я без ума, так без ума, как вы от чего-то другого, что мне все равно. К сожаленью, все определяет кошелек, всего я не могла купить никогда, должна была выбирать, что было сложно, часто было сложно, я по выгоде хватала, по бросовой цене, как говорят, бросалась на бросовое, а потом на меня бросилась змея — и конец! Всегда я, вечный счетовод, так тратила деньги, чтоб выбрать побольше. Не исключая корысти, ведь все это было для меня, от смерти меня спасти? Но нет, что вы подумали, смерть должна, наконец, платья от меня спасти! И бренность должна меня от меня самой спасти. Наконец! Сейчас она это сделает. Уж вам придется свидетелями стать.
Наконец. Что происходит здесь со мной? Что происходит, неужто вскоре я превращусь лишь в отонок самой себя? Вовсе не так уж плохо, отправлюсь исполнять завет моей судьбы. Ни платья больше рядом, которое заполнить бы я могла. Весть о моем разоре уже передается из уст в уста и распространится еще дальше. Меня переполняет злорадство. Из-за этого сапфирно-голубого сатинового платья, облачась в которое я возжелала стать принцессой? Отчего на меня столько обид? Любопытно. Тут кто-то преклоняет передо мной колени, в чем нет нужды! Но с другой стороны: разве эти широкие брюки, эти спокойные стильные брюки, в которых я должна навек замолкнуть как полено, в самом деле не для коленопреклоненья? Да, ведь он преклоняет, кто это вообще? Думаю, это не певец, но точно не могу признать. Здесь кто-то падает к ногам и делает это с достойным восхищенья мастерством, должна сказать, это проделано искусно, но только мне невдомек, к чему всё клонится? Кто-то должен убраться? Я сама должна убраться? Не понимаю, он встал передо мною на колени, вижу, как он меня, с головы до пят, от пояса до манжет, легко меня от травы отрывает, меня от меня отрывает, где я стою, как это ему удается? Этого я не вижу, вижу лишь, как он меня отрывает, наконец, я отделена! Объект моей ампутации уже тут? Что, это я сама? Всякий раз я? Окей.
Ни платья больше рядом, которое заполнить бы я могла. Весть о моем разоре уже передается из уст в уста и распространится еще дальше. Меня переполняет злорадство. Из-за этого сапфирно-голубого сатинового платья, облачась в которое я возжелала стать принцессой? Отчего на меня столько обид? Любопытно. Тут кто-то преклоняет передо мной колени, в чем нет нужды! Но с другой стороны: разве эти широкие брюки, эти спокойные стильные брюки, в которых я должна навек замолкнуть как полено, в самом деле не для коленопреклоненья? Да, ведь он преклоняет, кто это вообще? Думаю, это не певец, но точно не могу признать. Здесь кто-то падает к ногам и делает это с достойным восхищенья мастерством, должна сказать, это проделано искусно, но только мне невдомек, к чему всё клонится? Кто-то должен убраться? Я сама должна убраться? Не понимаю, он встал передо мною на колени, вижу, как он меня, с головы до пят, от пояса до манжет, легко меня от травы отрывает, меня от меня отрывает, где я стою, как это ему удается? Этого я не вижу, вижу лишь, как он меня отрывает, наконец, я отделена! Объект моей ампутации уже тут? Что, это я сама? Всякий раз я? Окей. Наконец, я от себя отделена, но что за долг — оставаться без Я? Я могу остаться, лишившись Я! Какое облегченье! Еще и временем стать! Истает время одновременно. Наконец, наконец, отщеплена, он на коленях передо мной и меня от меня отделяет, поднимает рывком, отчего я так гибка? Я в новых брюках, без сомненья, но это же я! Я же – мой костюм! Особенный, нет, я мой собственный костюм, должна быть им, ведь он берет меня, костюм, своими руками, для меня ведь не существует больше Я, берет меня, поднимает, свертывает в трубку, сгибает, и в конце – этого мне еще не хватало! – сует меня в карман. Сует в карман. Что он задумал? Что собирается со мною сделать? Что ему до моего брошенного бытия, которое даже не стоит одиночества бытия, оно уже и так одно, мое бытие, оно не стоит самого себя, что общего оно имеет с этим костюмом, который лишь мне благодаря немного жизни прихватил, жизни, той, что, наконец, с облегчением исчезнуть может, чтобы меня не нужно больше было видеть, осознав его конечность, но изначально, изначально как бытие: поскольку должно быть, скажите мне, наконец, что он собирается делать сейчас со мной, с моим костюмом? Проходит мимо деревьев, мимо чащобы у края луга, вижу, как он меня несет, а прежде этот костюм я должна была носить! Сейчас меня унесут от меня.
Наконец, я от себя отделена, но что за долг — оставаться без Я? Я могу остаться, лишившись Я! Какое облегченье! Еще и временем стать! Истает время одновременно. Наконец, наконец, отщеплена, он на коленях передо мной и меня от меня отделяет, поднимает рывком, отчего я так гибка? Я в новых брюках, без сомненья, но это же я! Я же – мой костюм! Особенный, нет, я мой собственный костюм, должна быть им, ведь он берет меня, костюм, своими руками, для меня ведь не существует больше Я, берет меня, поднимает, свертывает в трубку, сгибает, и в конце – этого мне еще не хватало! – сует меня в карман. Сует в карман. Что он задумал? Что собирается со мною сделать? Что ему до моего брошенного бытия, которое даже не стоит одиночества бытия, оно уже и так одно, мое бытие, оно не стоит самого себя, что общего оно имеет с этим костюмом, который лишь мне благодаря немного жизни прихватил, жизни, той, что, наконец, с облегчением исчезнуть может, чтобы меня не нужно больше было видеть, осознав его конечность, но изначально, изначально как бытие: поскольку должно быть, скажите мне, наконец, что он собирается делать сейчас со мной, с моим костюмом? Проходит мимо деревьев, мимо чащобы у края луга, вижу, как он меня несет, а прежде этот костюм я должна была носить! Сейчас меня унесут от меня. Немного беспокоюсь, что костюм лишен меня, собственно, я без себя, что я, как этот костюм, не смогу существовать. Существовать перед глазами бессердечных, что на меня взирают, выставляют на показ, нет, показа не будет, все равно, во что она одета, показа просто не будет, она нам принадлежит, она ведь как мы, явно хочет быть больше, хочет смотреть на нас из гораздо больших окон. Поскольку она может таких костюмов, как этот, сотни купить, она нам не принадлежит, хотя как раз в костюме выглядит, как все мы на фотографии, однако костюм выглядит совсем иначе, стало быть, она не может быть на нас похожей, мы тоже все поголовно не можем выглядеть, как на фото, но больше она нам не принадлежит, отныне больше нет, даже если она в костюме выглядит также, как мы, и не как на фото, а поскольку в костюме нет ровным счетом ничего, а все-таки в костюме должна быть какая-то тайна, благодаря аксессуарам, украшенью, шали, но ее в костюме больше нет. Поскольку что-то в этом костюме все же есть, но внутри нет ничего, во всяком случае, ее нет.
Немного беспокоюсь, что костюм лишен меня, собственно, я без себя, что я, как этот костюм, не смогу существовать. Существовать перед глазами бессердечных, что на меня взирают, выставляют на показ, нет, показа не будет, все равно, во что она одета, показа просто не будет, она нам принадлежит, она ведь как мы, явно хочет быть больше, хочет смотреть на нас из гораздо больших окон. Поскольку она может таких костюмов, как этот, сотни купить, она нам не принадлежит, хотя как раз в костюме выглядит, как все мы на фотографии, однако костюм выглядит совсем иначе, стало быть, она не может быть на нас похожей, мы тоже все поголовно не можем выглядеть, как на фото, но больше она нам не принадлежит, отныне больше нет, даже если она в костюме выглядит также, как мы, и не как на фото, а поскольку в костюме нет ровным счетом ничего, а все-таки в костюме должна быть какая-то тайна, благодаря аксессуарам, украшенью, шали, но ее в костюме больше нет. Поскольку что-то в этом костюме все же есть, но внутри нет ничего, во всяком случае, ее нет. Пусть кто-то верит, там что-то есть – он может охотно влезть туда, но это вовсе не она, кто там есть. Алло! Есть кто дома? Чувствуете вы себя в этом платье не как дома? Нет? Именно поэтому вы его и купили, чтобы наконец не чувствовать себя в этом платье как дома? Значит, вы говорите обо мне. Я ясно слышу, как вы сейчас сказали: Вы — костюм, костюм фактически идентичен вам, он выглядит так, словно он к вам прирос, сросся с вами, он так идет вам, не так хорошо, как на фото, но очень хорошо, все еще хорошо! На вас пойдут многие, если вы наденете этот костюм. Вот увидите! Конечно, вы вообще ничто, вы не только не больше, чем мы, вы вообще ничто. Да, это они говорят мне, потому что я мертва. Говорят: Вот этого, что с вами и с этим костюмом, этого больше не будет. Так оно и случилось. Я теперь унесу сама себя. Я та, что тут рыдает? Оплакивает саму себя? Опрятные люди, выходя на солнце, берут свои тени с собой. В темноте они могут передвигаться сами, но не бродить по солнцу, чтобы их заметили, рано или поздно заметили.
Пусть кто-то верит, там что-то есть – он может охотно влезть туда, но это вовсе не она, кто там есть. Алло! Есть кто дома? Чувствуете вы себя в этом платье не как дома? Нет? Именно поэтому вы его и купили, чтобы наконец не чувствовать себя в этом платье как дома? Значит, вы говорите обо мне. Я ясно слышу, как вы сейчас сказали: Вы — костюм, костюм фактически идентичен вам, он выглядит так, словно он к вам прирос, сросся с вами, он так идет вам, не так хорошо, как на фото, но очень хорошо, все еще хорошо! На вас пойдут многие, если вы наденете этот костюм. Вот увидите! Конечно, вы вообще ничто, вы не только не больше, чем мы, вы вообще ничто. Да, это они говорят мне, потому что я мертва. Говорят: Вот этого, что с вами и с этим костюмом, этого больше не будет. Так оно и случилось. Я теперь унесу сама себя. Я та, что тут рыдает? Оплакивает саму себя? Опрятные люди, выходя на солнце, берут свои тени с собой. В темноте они могут передвигаться сами, но не бродить по солнцу, чтобы их заметили, рано или поздно заметили.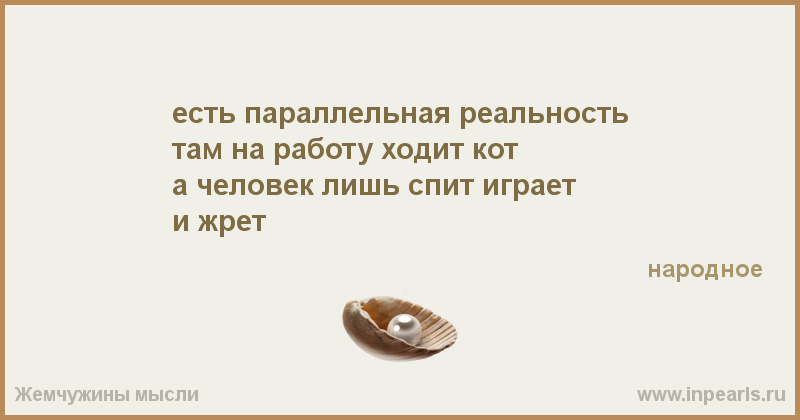 Но опрятной я не была никогда. Я посылаю себя – тень — погреться на солнце, что видно там? Чего не хватает? Меня не хватает? Что могла бы я там испытать? Я ведь стала тенью не из-за денег, а потому что не могла не стать. Это ни в коем случае не было добровольным делом. Я не могу теперь платить больше, я могу только больше платить собой. Это мгновение непостижимым образом упустило свои возможности, в смысле, что я могла бы испытать еще что-то и, быть может, еще что-то с кем-то другим. Но я только покупала.
Но опрятной я не была никогда. Я посылаю себя – тень — погреться на солнце, что видно там? Чего не хватает? Меня не хватает? Что могла бы я там испытать? Я ведь стала тенью не из-за денег, а потому что не могла не стать. Это ни в коем случае не было добровольным делом. Я не могу теперь платить больше, я могу только больше платить собой. Это мгновение непостижимым образом упустило свои возможности, в смысле, что я могла бы испытать еще что-то и, быть может, еще что-то с кем-то другим. Но я только покупала.
Я всегда покупала лишь для того, чтобы меня забыли. Так. Точно так оно и было. Теперь меня действительно можно забыть. Наконец. Известную свободу это уже означает. Плашмя упасть на землю, и никто не заметит. Всё молчит там, где прежде царила мода и сутолока, шум, толкотня, рычанье девок, осада певца орущими персонифицированными желаниями, которые должны непрерывно подчеркиваться еще и с самим собой, окружение и события, которые поворачивались неожиданно, и певец падал наземь под напором воя, завыванья, лая.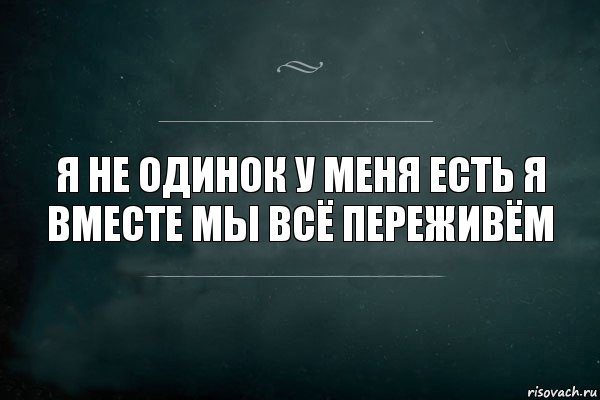 Невидимость имеет свои преимущества, без сомненья, хотя бы и только для звезд. Крик царит там, где смерть, но еще больше крика там, где мой певец. Но не на этот раз. Я одна. Из-за меня не стал бы тоже ни один орать. Змею-убийцу вряд ли стоит поносить. Царит модная тишь и модный покой. Лишь я и певец, мы, каждый по-своему, даже когда онпоет свои напевы, на свой манер поет, придаем значение нашим потерям, мы не можем отвернуться от наших потерь. Я от своих новых брюк, которые пришлось отдать, он от меня. Пока я его ношу, костюм, пропасть он не может. Однако я, мрачное нечто, должна рано или поздно подняться и оболочку, эту оболочку, к которой я так прилипла, против воли оставить одну. Ему моей тени мало, певцу, мне тоже, но изменить я это не могу. Он хочет под тенью ходить, что стало модно. Модная жизнь под тенью, под которой не видно ни зги. Он хочет все, все в каждой частице, меня он хочет на земле, в воде и в воздухе. И подтенье хочет тоже. Хочет ли он надтенье? Да, и это тоже. Я теперь надтенье? А все, что под тенью, пропало? Что-то пропало, это несомненно, нет, не несомненно, оно исчезло, но разве оно для него тоже самое, что и для меня? Вряд ли.
Невидимость имеет свои преимущества, без сомненья, хотя бы и только для звезд. Крик царит там, где смерть, но еще больше крика там, где мой певец. Но не на этот раз. Я одна. Из-за меня не стал бы тоже ни один орать. Змею-убийцу вряд ли стоит поносить. Царит модная тишь и модный покой. Лишь я и певец, мы, каждый по-своему, даже когда онпоет свои напевы, на свой манер поет, придаем значение нашим потерям, мы не можем отвернуться от наших потерь. Я от своих новых брюк, которые пришлось отдать, он от меня. Пока я его ношу, костюм, пропасть он не может. Однако я, мрачное нечто, должна рано или поздно подняться и оболочку, эту оболочку, к которой я так прилипла, против воли оставить одну. Ему моей тени мало, певцу, мне тоже, но изменить я это не могу. Он хочет под тенью ходить, что стало модно. Модная жизнь под тенью, под которой не видно ни зги. Он хочет все, все в каждой частице, меня он хочет на земле, в воде и в воздухе. И подтенье хочет тоже. Хочет ли он надтенье? Да, и это тоже. Я теперь надтенье? А все, что под тенью, пропало? Что-то пропало, это несомненно, нет, не несомненно, оно исчезло, но разве оно для него тоже самое, что и для меня? Вряд ли. Я пропала для самой себя, но считается только его потеря. Певец меня потерял. Он выпустил меня из своей руки в смерть. Пришел слишком поздно. Итог: я знаю, что потеряла. Он этого не знает. Не думает об этом. Не может еще толком понять, что потеряно, я намеренно не говорю: «то, что он со мною потерял», ведь он меня не знал, по-настоящему не знал, так что можно считать, певец понятия не имеет, что он потерял. И все же он влюблен в утрату, влюблен больше, чем в меня, когда я еще была жива. Это проклятие певца. Вероятно, маленькие девки снова обложили пылающий рояль и бесстыжие баллады таким воем, что он не в силах разобраться в наборе песен, некоторые он во время пенья заучил, другие снова позабыл. И прыгнул в публику, полный доверия к своре. А если вдруг однажды там пустота? Тогда решит он в будущем быть осторожнее, но больно будет, несмотря ни на что. Отныне ни одна больше не бросится к нему в объятия, меня ведь рядом нет. Тогда он бросится ниц, ниц перед публикой своей. Слышу уже, как мелют несчетные челюсти, рвутся в бой несчетные копыта, кольчуги, клешни.
Я пропала для самой себя, но считается только его потеря. Певец меня потерял. Он выпустил меня из своей руки в смерть. Пришел слишком поздно. Итог: я знаю, что потеряла. Он этого не знает. Не думает об этом. Не может еще толком понять, что потеряно, я намеренно не говорю: «то, что он со мною потерял», ведь он меня не знал, по-настоящему не знал, так что можно считать, певец понятия не имеет, что он потерял. И все же он влюблен в утрату, влюблен больше, чем в меня, когда я еще была жива. Это проклятие певца. Вероятно, маленькие девки снова обложили пылающий рояль и бесстыжие баллады таким воем, что он не в силах разобраться в наборе песен, некоторые он во время пенья заучил, другие снова позабыл. И прыгнул в публику, полный доверия к своре. А если вдруг однажды там пустота? Тогда решит он в будущем быть осторожнее, но больно будет, несмотря ни на что. Отныне ни одна больше не бросится к нему в объятия, меня ведь рядом нет. Тогда он бросится ниц, ниц перед публикой своей. Слышу уже, как мелют несчетные челюсти, рвутся в бой несчетные копыта, кольчуги, клешни. Какая разница. Я не смотрю на него, многие хотят его услышать, но я не избрана для этого. Он не в состоянии своим умом понять, что потерял, но хочет это получить назад, это он все же твердо знает.
Какая разница. Я не смотрю на него, многие хотят его услышать, но я не избрана для этого. Он не в состоянии своим умом понять, что потерял, но хочет это получить назад, это он все же твердо знает.
Там внизу дикие звери. Мне говорят. На мою змееподобную ленту в траве, что все ближе и ближе, они реагировать будут громкими криками. Я уже слышу их визг, смешно, слышу, хотя совсем разучилась слышать. Быть может, я все еще в ленте ожидания? Что это значит? Что сталось со мной, я словно в чаду, не нахожу себе минуты покоя? Странно, что после собственной смерти можно так бояться! Я же знаю, что теперь больше ничего не должна бояться, даже самого страха, и нет здесь ничего, чего можно было бы бояться, и даже страха. Во мне нет более ни капли страха. Что я вижу? Никакого желания это описывать. Реку, что ли? Уснувшая природа. Если бы я уже не спала вечным сном, я бы теперь уснула. Давайте чуть отодвинем предгорья, говорят, тут я должна появиться, не жаться к двери как свежая, свежеплененная тень, просто войти, войти в настоящее, в конечную темноту, ну вот, возьмем это с собой, все ведь давно уже позади нас. Но певец и туда доберется за мной, я это чувствую. Я его знаю. Смельчак! Мужик! Он хочет даже завладеть моей тенью. Но это не было бы великим искусством. Тень не весит ничего и не оказывает сопротивления. Холодные души ведь не впиваются зубами, они на это неспособны. Так что бежим и будем держаться подальше, иначе от нас не останется ничего кроме этой мягкой клейстерной массы, поглощающей все, что хотело бы скрыться. Мы всё, что еще осталось тут на краю, исторгнутое собственной виной, которая как дуновенье воздуха скользит от одного к другому. Кто видел когда-нибудь пропасть, впиваясь в нее орлиными когтями, тот хотел бы сам ничем иным кроме как пропастью быть, но для тени это не проблема. Она везде пробьется. Ничто для нее не проблема, кроме жизни. Тень можно сложить, пошевельнуть, ударить, придать какую-то форму, а потом выпустить из рук, она тотчас вернется в первоначальное состояние, которое вовсе не состояние. Можно ли ее разжалобить песней? нет, я думаю, нет, ее можно помешать и на что-то наклеить, тень ведь многослойна, и она не ведает препон, в темноте держится на расстоянии, но это все лишь потому, что она скрылась в темноте, но еще долго не уходит, остается и в темноте, но без владельца она всегда какая-то чудная.
Но певец и туда доберется за мной, я это чувствую. Я его знаю. Смельчак! Мужик! Он хочет даже завладеть моей тенью. Но это не было бы великим искусством. Тень не весит ничего и не оказывает сопротивления. Холодные души ведь не впиваются зубами, они на это неспособны. Так что бежим и будем держаться подальше, иначе от нас не останется ничего кроме этой мягкой клейстерной массы, поглощающей все, что хотело бы скрыться. Мы всё, что еще осталось тут на краю, исторгнутое собственной виной, которая как дуновенье воздуха скользит от одного к другому. Кто видел когда-нибудь пропасть, впиваясь в нее орлиными когтями, тот хотел бы сам ничем иным кроме как пропастью быть, но для тени это не проблема. Она везде пробьется. Ничто для нее не проблема, кроме жизни. Тень можно сложить, пошевельнуть, ударить, придать какую-то форму, а потом выпустить из рук, она тотчас вернется в первоначальное состояние, которое вовсе не состояние. Можно ли ее разжалобить песней? нет, я думаю, нет, ее можно помешать и на что-то наклеить, тень ведь многослойна, и она не ведает препон, в темноте держится на расстоянии, но это все лишь потому, что она скрылась в темноте, но еще долго не уходит, остается и в темноте, но без владельца она всегда какая-то чудная. Хочет смешаться с людьми, это было бы теоретически возможно, ибо при таком обилии людей на свете они точно не смогут больше различать свои собственные тени. В призрачном существовании выгоды особой нет. Но и это ничего не значит для теней, они без труда сливаются друг с другом, представляют кого-то другого, нет, могли кого-то другого представлять, пусть даже в грубых очертаниях, кому это интересно, они ни хороши, ни злы, даже если бы Зло было силой, они бы им пренебрегли, точно так же и пресным Добром. Это правда. Быть может, мне следовало бы вместо Аида махнуть на попконцерт? Там никто ничего бы не заметил. Меня бы вовсе не было здесь, и все же я была бы тут. Руки тянутся за мной, звериные когти? Части тела? Чисто духовные деянья? Части моей душевной анатомии? Нет, нет тут больше ничего. Ни души. Мы и без них достаточно далеко зашли. Теперь мы здесь.
Хочет смешаться с людьми, это было бы теоретически возможно, ибо при таком обилии людей на свете они точно не смогут больше различать свои собственные тени. В призрачном существовании выгоды особой нет. Но и это ничего не значит для теней, они без труда сливаются друг с другом, представляют кого-то другого, нет, могли кого-то другого представлять, пусть даже в грубых очертаниях, кому это интересно, они ни хороши, ни злы, даже если бы Зло было силой, они бы им пренебрегли, точно так же и пресным Добром. Это правда. Быть может, мне следовало бы вместо Аида махнуть на попконцерт? Там никто ничего бы не заметил. Меня бы вовсе не было здесь, и все же я была бы тут. Руки тянутся за мной, звериные когти? Части тела? Чисто духовные деянья? Части моей душевной анатомии? Нет, нет тут больше ничего. Ни души. Мы и без них достаточно далеко зашли. Теперь мы здесь.
Тут только он. Он еще здесь. Тут он. Явился. Не знаю. Понятия не имею. У моего мозга нет программы перевода частей тела или внутренних душевных процессов.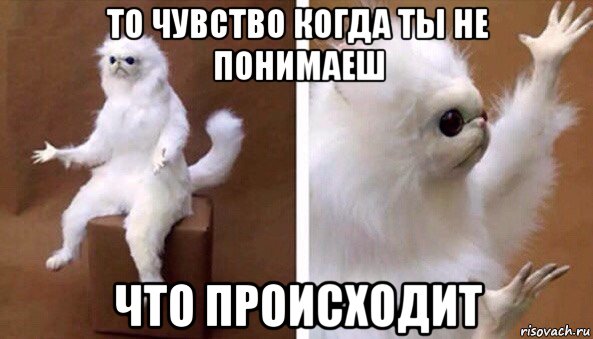 Даже если бы эти душевные процессы были еще во мне, я бы не знала, где. Слышу, что больше ничего не слышу. Раньше еще лаял этот пес. Теперь ни звука. Зато я слышу певца, думаю, это он, должен быть он, отдельных групп различить не могу, я не специалист, это может быть и какой-то другой певец. Невероятно. Каким-то странным образом чувствую, что это мой. Каким, не знаю. Лица его не вижу, мотивов не знаю, пения не слышу, слышу только, что другое молчит, грохот воды, к которому я так быстро привыкла, словно он всегда был во мне, шум в ушах, всегда со мной, лишь иногда его можно приглушить, если ухо глухо к большей чистоте, против которой вянет любая другая. Она всё, что подлинно. И просто так этого не получишь, это от бога. Пес давно уже молчит, лакает воду? Боится, что исчезнет? Не думаю, его чаша всегда полна, иначе зачем она здесь. С нами тенями у нее дел нет. Мы ковер из теней, которого не надо чистить, никто ведь не ступает по нам ногами. Мы просто здесь. Оно привыкла к тому, что мы всегда тут, посреди огромного отсутствия, оставленного нами наверху, нет, оставшегося после нас.
Даже если бы эти душевные процессы были еще во мне, я бы не знала, где. Слышу, что больше ничего не слышу. Раньше еще лаял этот пес. Теперь ни звука. Зато я слышу певца, думаю, это он, должен быть он, отдельных групп различить не могу, я не специалист, это может быть и какой-то другой певец. Невероятно. Каким-то странным образом чувствую, что это мой. Каким, не знаю. Лица его не вижу, мотивов не знаю, пения не слышу, слышу только, что другое молчит, грохот воды, к которому я так быстро привыкла, словно он всегда был во мне, шум в ушах, всегда со мной, лишь иногда его можно приглушить, если ухо глухо к большей чистоте, против которой вянет любая другая. Она всё, что подлинно. И просто так этого не получишь, это от бога. Пес давно уже молчит, лакает воду? Боится, что исчезнет? Не думаю, его чаша всегда полна, иначе зачем она здесь. С нами тенями у нее дел нет. Мы ковер из теней, которого не надо чистить, никто ведь не ступает по нам ногами. Мы просто здесь. Оно привыкла к тому, что мы всегда тут, посреди огромного отсутствия, оставленного нами наверху, нет, оставшегося после нас. Поцелуи возвращены назад, равно как и цветы, ничего мы не берем и не требуем ничего. Вой наверху, рыданья, которые мы слышим, что это? В сравненьи с воем грязных девок, что окружили моего певца, все это ничто, писюшки-гвоздички раскрываются перед солнцем нашего певца, льнут к нему словно цветы к светилу, которое вестей их не приемлет, к солнцу, которое нам тени дарит, не требуя взамен, ничего не требует взамен сей слепец ослепленный, сей травоядный голубь, нет, не голубь, уи, уи, уиии!, как обычно. Когда ветер благоприятствует, мы даже слышим это здесь внизу или, по меньшей мере, себе воображаем. Плач одиночки не слышен тут, но этот вой, я думаю, он должен быть слышен, если вообще что-нибудь можно услышать. Скала небрежно швыряет побоку течение как две крупинки соли, которые через плечо бросает суеверный, чтоб отступило зло, река рыдает, но рыданья до нас не доходят. Рыдают ли тут холодные души? Нет, того быть не может, никто тут не рыдает, и на нашем ковре, тот, что мы, который не у нас во владеньи, но который мы и есть, на нем ни пятна крови.
Поцелуи возвращены назад, равно как и цветы, ничего мы не берем и не требуем ничего. Вой наверху, рыданья, которые мы слышим, что это? В сравненьи с воем грязных девок, что окружили моего певца, все это ничто, писюшки-гвоздички раскрываются перед солнцем нашего певца, льнут к нему словно цветы к светилу, которое вестей их не приемлет, к солнцу, которое нам тени дарит, не требуя взамен, ничего не требует взамен сей слепец ослепленный, сей травоядный голубь, нет, не голубь, уи, уи, уиии!, как обычно. Когда ветер благоприятствует, мы даже слышим это здесь внизу или, по меньшей мере, себе воображаем. Плач одиночки не слышен тут, но этот вой, я думаю, он должен быть слышен, если вообще что-нибудь можно услышать. Скала небрежно швыряет побоку течение как две крупинки соли, которые через плечо бросает суеверный, чтоб отступило зло, река рыдает, но рыданья до нас не доходят. Рыдают ли тут холодные души? Нет, того быть не может, никто тут не рыдает, и на нашем ковре, тот, что мы, который не у нас во владеньи, но который мы и есть, на нем ни пятна крови. Кровопусканье — это в каком-нибудь другом месте! Патронесс я не слышу, да я их и не видела ни разу, у мертвецов начальников нет, как вы можете себе представить! Кто мог бы тенями повелевать, у которых больше нет хозяев? Певец чего-то хочет, но я не слышу, чего. Быть может, он этого даже не сказал. Конечно, он тотчас потребует, ему и говорить даже не нужно, к этому он так привык. Примчался сюда в своем сценическом наряде, позвякал шпорами, и получит то, что хочет, держу пари. Как всегда. За ним всегда стоит рок-группа, из которой он вылупился, фрукт, желанный каждым. Который они вырывают из рук друг друга, прежде чем не высох лак, я имею в виду скорлупу. Совершенно иная ситуация для меня. Вода стекает, вода – не попфан, это ясно, я имею в виду, вода удивительно прозрачна, быть может, оттого что она всегда жить среди теней должна? Неужели вода должна иметь программу самоочищения, антивирусную программу, файерволл, в эту воду ничто не входит, только мертвецы сюда прибывают, прибывают, но не сюда, мертвецы прибывают на водный путь.
Кровопусканье — это в каком-нибудь другом месте! Патронесс я не слышу, да я их и не видела ни разу, у мертвецов начальников нет, как вы можете себе представить! Кто мог бы тенями повелевать, у которых больше нет хозяев? Певец чего-то хочет, но я не слышу, чего. Быть может, он этого даже не сказал. Конечно, он тотчас потребует, ему и говорить даже не нужно, к этому он так привык. Примчался сюда в своем сценическом наряде, позвякал шпорами, и получит то, что хочет, держу пари. Как всегда. За ним всегда стоит рок-группа, из которой он вылупился, фрукт, желанный каждым. Который они вырывают из рук друг друга, прежде чем не высох лак, я имею в виду скорлупу. Совершенно иная ситуация для меня. Вода стекает, вода – не попфан, это ясно, я имею в виду, вода удивительно прозрачна, быть может, оттого что она всегда жить среди теней должна? Неужели вода должна иметь программу самоочищения, антивирусную программу, файерволл, в эту воду ничто не входит, только мертвецы сюда прибывают, прибывают, но не сюда, мертвецы прибывают на водный путь. Ясно. Как же иначе? Велосипед на приколе, да нет его здесь, разве собирался кто уезжать, разве кто уехать мог? Кто, ведущий тени удобное существование, захотел бы места эти покинуть? Мы вполне довольны. Нас никто не ловит, нет, как же, есть один, это типично для певца! Думает, он может все иметь, и часто он бывает прав. Думает, он имеет все, а то, что от него уплыло, назад он хочет. Думает, это принадлежит ему по праву. Ему не может чего-то не хватать. Это было бы оскорблением для него, которое он не оставил бы, он никогда не бросил бы меня здесь, именно потому что думает, я принадлежу ему. Думает, я все еще принадлежу ему. Думает, тени здесь такие же, как его маленькие девки наверху? Что может делать все, что хочет, и получит все, что хочет? Где мы даже услышать ничего не можем! Но кое-что мы слышим, слухом, вероятно, это назвать нельзя. Быть может, это тоже пройдет. Шефы, которые слушать не хотят, а мы не умеем. Девкам он может заливать, что он мог бы иметь их всех, но не нам же. И что он должен оттенять свои желания этим рокотом рок-группы, стоящей за его плечами, о ней больше ни слова, этот грохот болота, против которого даже тень является образцом многообразия, что за силуэт, какой волнующий! Он все еще поет, они его не остановили, это должно что-то значить.
Ясно. Как же иначе? Велосипед на приколе, да нет его здесь, разве собирался кто уезжать, разве кто уехать мог? Кто, ведущий тени удобное существование, захотел бы места эти покинуть? Мы вполне довольны. Нас никто не ловит, нет, как же, есть один, это типично для певца! Думает, он может все иметь, и часто он бывает прав. Думает, он имеет все, а то, что от него уплыло, назад он хочет. Думает, это принадлежит ему по праву. Ему не может чего-то не хватать. Это было бы оскорблением для него, которое он не оставил бы, он никогда не бросил бы меня здесь, именно потому что думает, я принадлежу ему. Думает, я все еще принадлежу ему. Думает, тени здесь такие же, как его маленькие девки наверху? Что может делать все, что хочет, и получит все, что хочет? Где мы даже услышать ничего не можем! Но кое-что мы слышим, слухом, вероятно, это назвать нельзя. Быть может, это тоже пройдет. Шефы, которые слушать не хотят, а мы не умеем. Девкам он может заливать, что он мог бы иметь их всех, но не нам же. И что он должен оттенять свои желания этим рокотом рок-группы, стоящей за его плечами, о ней больше ни слова, этот грохот болота, против которого даже тень является образцом многообразия, что за силуэт, какой волнующий! Он все еще поет, они его не остановили, это должно что-то значить. Они ему не годятся, желания, или все же? Если он их в своих нервных клетках копит и загружает в свой смартфон, как новейшее приложение, быть может, они когда-нибудь ему понадобятся? Иначе желания не понадобятся здесь никому, но, может быть, у него есть верная программа? Было бы бессмысленно чего-то желать, здесь больше ни у кого нет желаний, здесь не осталось ничего, чего должна желать себе тень? Больше света, чтобы она стала больше? Лишь мой певец снова хочет чего-то, спускаясь как обычно, сверху вниз. Типично. Или всё же? Но что? Не может быть! Он спускается сверху вниз и, неудачно, слышите «Softeis-Ballade», которую он сейчас исполняет, свои желания, желания, желания выражает. А что еще? Музыканты, ах, музыканты, эти фитюльки, им не стоило бы свои желанья выражать, вот результат: из тысяч девичьих складочек, жадных как раковые клешни, капли потекли, вниз, вперед и взад, вперед и взад, и на пол, к счастью, не на ковер, а это мы, течет, слюною брызжет, вот клешни хрустнули, вот снова! И ничего против похоти этих девок, что не отразилась бы на лице, которого не видно, не выразилась в чем-то, что было бы заметно, ибо их лица, как было сказано, каменны и неподвижны, их маленькие складочки, напротив, тем подвижнее, нет, не трогательны, подвижны! против них лишь поток, принесший нас сюда, высохший ручеек моих мечтаний, но нет, у меня и мечтаний нет.
Они ему не годятся, желания, или все же? Если он их в своих нервных клетках копит и загружает в свой смартфон, как новейшее приложение, быть может, они когда-нибудь ему понадобятся? Иначе желания не понадобятся здесь никому, но, может быть, у него есть верная программа? Было бы бессмысленно чего-то желать, здесь больше ни у кого нет желаний, здесь не осталось ничего, чего должна желать себе тень? Больше света, чтобы она стала больше? Лишь мой певец снова хочет чего-то, спускаясь как обычно, сверху вниз. Типично. Или всё же? Но что? Не может быть! Он спускается сверху вниз и, неудачно, слышите «Softeis-Ballade», которую он сейчас исполняет, свои желания, желания, желания выражает. А что еще? Музыканты, ах, музыканты, эти фитюльки, им не стоило бы свои желанья выражать, вот результат: из тысяч девичьих складочек, жадных как раковые клешни, капли потекли, вниз, вперед и взад, вперед и взад, и на пол, к счастью, не на ковер, а это мы, течет, слюною брызжет, вот клешни хрустнули, вот снова! И ничего против похоти этих девок, что не отразилась бы на лице, которого не видно, не выразилась в чем-то, что было бы заметно, ибо их лица, как было сказано, каменны и неподвижны, их маленькие складочки, напротив, тем подвижнее, нет, не трогательны, подвижны! против них лишь поток, принесший нас сюда, высохший ручеек моих мечтаний, но нет, у меня и мечтаний нет. Я – Ничто. Всегда им была. Скажу ли это я хотя еще бы раз? Всяк убегает от моего сказанья, всяк! Все дерьмо, и я дерьмо. Ничто. Ничто, лишенное желаний, ибо и это Ничто, и то, что я, быть может, порою порождала, зачато не мной. Против меня лишь девки, которых я презираю, всё ж они богаты, по меньшей мере, владеют жаждой, что в членах их течет, чуют что-то, хотят чего-то, тянутся к свету, тому, что есть певец, тогда как я кружиться не могу, зависима я целиком, повиноваться свету должна. Зависима я от света. К счастью, его здесь нет. Здесь тьма. Для девок свет – певец. Для меня отнюдь. Собственной жизни я больше не имею. Ничто, которое я творю, не от меня идет. Это мое, но не от меня идет, взросло не на моем соре, Ничто. Чего хочет этот, который сюда спустился, чтоб живых и мертвых спасать? Тоже мне Иисус! Единственный воскресший, известен как мой певец, известен подвигами, словами и трудами, во всем мире знаменит. Поскольку матушка его тогда не могла воспользоваться кондомом, он и появился на свет, и этим он страшно кичится.
Я – Ничто. Всегда им была. Скажу ли это я хотя еще бы раз? Всяк убегает от моего сказанья, всяк! Все дерьмо, и я дерьмо. Ничто. Ничто, лишенное желаний, ибо и это Ничто, и то, что я, быть может, порою порождала, зачато не мной. Против меня лишь девки, которых я презираю, всё ж они богаты, по меньшей мере, владеют жаждой, что в членах их течет, чуют что-то, хотят чего-то, тянутся к свету, тому, что есть певец, тогда как я кружиться не могу, зависима я целиком, повиноваться свету должна. Зависима я от света. К счастью, его здесь нет. Здесь тьма. Для девок свет – певец. Для меня отнюдь. Собственной жизни я больше не имею. Ничто, которое я творю, не от меня идет. Это мое, но не от меня идет, взросло не на моем соре, Ничто. Чего хочет этот, который сюда спустился, чтоб живых и мертвых спасать? Тоже мне Иисус! Единственный воскресший, известен как мой певец, известен подвигами, словами и трудами, во всем мире знаменит. Поскольку матушка его тогда не могла воспользоваться кондомом, он и появился на свет, и этим он страшно кичится. Но мы, мы, мы, тени, желаний лишены, но не счастливы или несчастны без желаний. Мы не желанья, у нас их нет, и мы их не выражаем, нам нечего выражать, мы не отказываемся ни от чего. Нас нет. Нет, конечно, мы не безумцы, ведь нам нужен был бы язык, который предоставил бы безумцам особенную точность. Они мастера изысканно выражаться, почти манерно, конструируют свои предложенья с особенным тщаньем, безумцы, — мы тоже они, чтоб не было недоразумений. Мы ничего не говорим. Наш язык не имеет ничего общего. Не делаем ничего и ничего не говорим. Мы тут. Слова безумцев, с таким тщаньем построенные, в своем строе разрушаются уже при построении, это саморазрушающиеся предложенья, как части ракеты, как метательный заряд, что никогда ничего не приводит в движение, саморазрушающийся, они построены безумцами с таким трудом, но уже при построении рассыпаются. Какой идеальный мусорный полигон эта речь безумцев! Но нам она ничем не поможет. Безумцы тоже должны жить в тени. И потом они тоже больше не разговаривают.
Но мы, мы, мы, тени, желаний лишены, но не счастливы или несчастны без желаний. Мы не желанья, у нас их нет, и мы их не выражаем, нам нечего выражать, мы не отказываемся ни от чего. Нас нет. Нет, конечно, мы не безумцы, ведь нам нужен был бы язык, который предоставил бы безумцам особенную точность. Они мастера изысканно выражаться, почти манерно, конструируют свои предложенья с особенным тщаньем, безумцы, — мы тоже они, чтоб не было недоразумений. Мы ничего не говорим. Наш язык не имеет ничего общего. Не делаем ничего и ничего не говорим. Мы тут. Слова безумцев, с таким тщаньем построенные, в своем строе разрушаются уже при построении, это саморазрушающиеся предложенья, как части ракеты, как метательный заряд, что никогда ничего не приводит в движение, саморазрушающийся, они построены безумцами с таким трудом, но уже при построении рассыпаются. Какой идеальный мусорный полигон эта речь безумцев! Но нам она ничем не поможет. Безумцы тоже должны жить в тени. И потом они тоже больше не разговаривают. Саморазрушителен, самоизничтожителен, самоистлевающ, но сконструирован, этот язык, и больные по пожеланию очень свободно объясняют свои речи, объяснений понять невозможно, но они так охотно хотят пояснить, безумцы, но пояснение так сложно, как и то, что должно быть пояснено: речь. Мы были бы рады, если бы в нашем распоряжении оказались одно-два слова, может быть, три. Но у нас их нет. Ах да. Язык. Мой язык. И его я потеряла. То, о чем вы там говорите, истерзавшие язык безумцы, я имею в виду то, с чем я была бы согласна, с тем, что вы говорите и что никто не понимает, кто не понимает и нас теней, абсолютно никто, абсолютно каждый нас не понимает, но и не надо не надо, это не так тяжело – понять Ничто как ничто, и я говорю об этом так подробно, чтобы объяснить, что мы тени – никакие не безумцы, что могут зажать свои речи в тиски, как можно подумать на первый взгляд, а что мы не безумны, не сумасшедшие, мы просто в дороге, но это совсем не просто, как бы это сказать, дороги, которая мы есть, да, дороги! Дорогу имела я в виду, ее тоже нет.
Саморазрушителен, самоизничтожителен, самоистлевающ, но сконструирован, этот язык, и больные по пожеланию очень свободно объясняют свои речи, объяснений понять невозможно, но они так охотно хотят пояснить, безумцы, но пояснение так сложно, как и то, что должно быть пояснено: речь. Мы были бы рады, если бы в нашем распоряжении оказались одно-два слова, может быть, три. Но у нас их нет. Ах да. Язык. Мой язык. И его я потеряла. То, о чем вы там говорите, истерзавшие язык безумцы, я имею в виду то, с чем я была бы согласна, с тем, что вы говорите и что никто не понимает, кто не понимает и нас теней, абсолютно никто, абсолютно каждый нас не понимает, но и не надо не надо, это не так тяжело – понять Ничто как ничто, и я говорю об этом так подробно, чтобы объяснить, что мы тени – никакие не безумцы, что могут зажать свои речи в тиски, как можно подумать на первый взгляд, а что мы не безумны, не сумасшедшие, мы просто в дороге, но это совсем не просто, как бы это сказать, дороги, которая мы есть, да, дороги! Дорогу имела я в виду, ее тоже нет. Нет никаких сказаний, нет никаких речей, никаких речей и дорог безумцев, мы ничего не представляем, даже не нас самих, мы не можем пожаловаться на части наших тел, что больше не на месте, больше не на нужном месте, не функционируют, даже если они верно в нас и на нас опустились, мы не можем ни сесть, ни пуститься в споры, нет, не можем пожаловаться, бедные безумцы еще могут жаловаться, но не здесь, они наши слуги, что не выполняют никаких заданий, не могут тут жаловаться, иначе, только не здесь, могут пожаловаться, что государство хочет их отравить и что тайная полиция их трахает, а потом попользовавшись хочет выбросить вон, но мы, полнотельные тени, никому не нужны, мы не можем даже представить себе какие-нибудь желания, нет, страхи тоже, спасибо, жаловаться мы не можем. Певунчик может жаловаться, он может все, и он получает все. Но спасибо нет, мы не смеем жаловаться.
Нет никаких сказаний, нет никаких речей, никаких речей и дорог безумцев, мы ничего не представляем, даже не нас самих, мы не можем пожаловаться на части наших тел, что больше не на месте, больше не на нужном месте, не функционируют, даже если они верно в нас и на нас опустились, мы не можем ни сесть, ни пуститься в споры, нет, не можем пожаловаться, бедные безумцы еще могут жаловаться, но не здесь, они наши слуги, что не выполняют никаких заданий, не могут тут жаловаться, иначе, только не здесь, могут пожаловаться, что государство хочет их отравить и что тайная полиция их трахает, а потом попользовавшись хочет выбросить вон, но мы, полнотельные тени, никому не нужны, мы не можем даже представить себе какие-нибудь желания, нет, страхи тоже, спасибо, жаловаться мы не можем. Певунчик может жаловаться, он может все, и он получает все. Но спасибо нет, мы не смеем жаловаться.
Что? Он хочет, чтобы я пошла с ним? Если я иду, то как Ничто, я всегда делаю то, что мне говорят. Извольте, как мне идти, куда я должна идти, ведь я тень, в том и проблема, я возражение против самой себя, меня в этой форме может даже не быть, ибо моя форма зависима от того, чего я не знаю, поэтому я и своей формы не знаю, знаю только, что я в очень хорошей форме. Что тут задумали? Как хотят передать меня певцу? Запеленутой в саму себя? Прочно запакованной от света? Заваренной в фольгу? Откуда певец должен узнать, что я иду, поскольку я всего лишь тень? Как он может не рисковать, если вообще сможет ходить здесь уверенным в том, что не считает меня своей тенью, что не может отличить свою тень от меня? Будучи прежде ничем, являясь ничем, будучи и после ничем — этого больше не будет, мы это давно уже испробовали, но женщина – Ничто, мой продукт Ничто, то есть, у меня даже нет никакого, но результат тот же самый, испробовано бесчисленное количество раз, Ничто, исходящее от меня, испробовала бесчисленное количество раз, иногда пыталась выставить его в выгодном свете с помощью нового лака для ногтей или губной помады, но результата никакого, снова никакого. Все дерьмо, соглашайся, когда садятся на голову, когда избивают, когда по тебе топают ногами, как я должна отсюда выйти? Как тут можно выйти? Не спрашивай. Как мне, которой больше нет, отойти в сторону и подняться наверх, извольте, как хотите, я пробую, но, конечно, знаю наперед, что это не выйдет, я не смогу идти, как он себе это представляет. Пожалуйста, больше ни слова о моем теле! Прошу вас! Я успешно сняла его, смерть мне сказала: навсегда, она мне четко гарантировала, что я могу его снять, как обещание никогда не возвращаться. Должна ли я торговать собой, моей собственной тенью, чтобы снова иметь возможность действовать? Мне это слишком тяжело, это было так круто – быть легкой, как тень я действительно хороша, я в самом деле начала хорошеть, а он хочет опять оторвать меня от ковра теней? с нетерпением жду, как он это хочет сделать с его железной хваткой, певец, хочет встретить меня как своих тросси, своих групи? Так я и пошла, если он это сказал. Что-нибудь вклинится, у певца вечно что-нибудь вклинится, между Ничто, кем я есть, и Ничто, которое я сотворила. Ничего я не сотворила. На свете человек должен иметь тень, но в преисподней он должен быть тенью. Тень ничего не должна утверждать, и себя тоже, она этого никак не может после того, как ее жизнь сдуло прочь. Я полностью отвергаю свою душу, ей здесь нечего больше делать, не стоит облачаться в этот мягкий материал тени, как она в нем удержится? Она все же высовывается, позвольте, может быть, я смогу ее положить и развернуть себя на ней как тень, чтобы защитить? Может быть, приклеить? Попробуйте это как-нибудь сделать с помощью моментального клея, коль нет больше времени! Моя душа! Души всех! Ничего не выйдет, ее нельзя поймать. Как певец вообще себе это представляет, хотела бы я знать. Спускается вниз сразу после своего концерта, чтобы меня забрать, иного времени у него нет, девки уже ждут его у двери отеля, они у него на службе, его маленькие служанки, быстро спуститься вниз разок, больше он и не обязан выкладывать на меня, тень, это и так слишком много! говорит, пойдем со мной, я повинуюсь, иначе не могу, меня нет, я еще не я, вероятно, я им уже и не стану, иду вместе, как мне сказано, Ничто, это я, идет вместе, и, как я уже сказала, это Ничто также родом не от меня, в том, что я есть, ничего нет от меня. Если ты хочешь идти со мной, ты должен понимать слова! Но он понимает лишь одно, а именно вокзал. Оттуда я не езжу, я ездить не могу, да и поездов нет. Этот красивый поезд принадлежит певцу, который непременно хотел бы таскать меня с собой? В какой форме он хотел бы это сделать? Я ведь своего тела больше не хочу. Но тело жаждет меня, ведь это велено ему. Тело однажды было сотворено, теперь ему было велено вернуться ко мне, потому мне оно принадлежит. Откуда мне знать, мое ли оно вообще? Для меня это была ведь конченная глава. Певец жаждет тела, и он его тоже получит. Иначе зачем бы ему меня хотеть. Если бы телу моему приказывать было нельзя, так он бы и приказ мне не отдавал. Ничто во мне не делает того, что не было приказано. Неужто они мне его навязали, тело? Этого они не могут сделать. Не хочу его. Я храбро бы пошла, через все дерьмо, что мы собой являем, что не мы творили, но собой являем, тени. Тень не творит дерьма, тень есть дерьмо, и я: все дерьмо, все дерьмо! Пещеры дерьма, в которых живем мы, тени, которые мы с нами и из нас образуем, темно во тьме, темень к темени, кровоточа без услад, грубо изодранные, разорванные в клочья тени, мы, мы можем все, так как ничего не умеем, и поэтому я должна отсюда убраться? Где, наконец, я обрела то, что искала: небытность. Бегство. От всего. Отсутствовать, но логики ради. Не ведать красок, образов, запахов. Я послушно обращаюсь к обману, влекущему меня. Далеко со мною он не уйдет. Его я знаю. Будет тащить меня за собой, придется тянуть меня за одежду, которая тоже тень, отнюдь не просторная для других персон. Я слишком нежная, чтобы ходить, тут что-то с силой дергает меня, не я ли то, что дергает меня? Нет, это идет сзади, а не спереди. Тени не хотят меня оставить, а я не хочу остаться без них. Не моя ли это фигура, что увлекает меня назад, что тащится за мной, что хочет вернуть меня? Кто пришел за мной? Понятия не имею, как певцу это удалось сделать. Мое тело льнет ко мне, его мне лично доставил певец, хочет проникнуть внутрь меня, тело, хочет наказать меня, привести меня в порядок, так возбудилось вдруг оно! А я, бедная тень, должна отставать от него. Только потому, что этого хочет певец? Потому что он ничего не хочет? Потому что он хочет меня, Ничто? Потому что он хочет, чтобы Ничто присоединилось к нему? Чтобы он мог выгодно выделиться на этом фоне? Но ведь ему нет в этом нужды, кое в чем он немного разбирается, выдаст пару риффчиков, на которые он тотчас натыкается в море своей безмерности, и уже лезут и лезут к нему толпы неистовых девок, пожалте, они уже тут, разве я этого не знала! воют, как будто их тащат за волосы, и всех разом. Неужели он хочет сам снять тени, словно игральные карты, певец? перетасовать их, показать скрытое наиболее выгодной стороной? Но тут ему придется перебрать множество теней, чтобы суметь поцеловать одну. Ведь нас так много. Тонны теней лежат тут слоями, пусть попробует меня найти. Может, ему дал кто-то подсказку, квики ? Не могу поверить! Кто бы стал давать совет после розыгрыша? Как это должно было бы выглядеть? Ведь билет уже недействителен! Кто бы вообще отдал то, что вообще еще не нашел? Или что-то имеющее ценность, хотя бы и только для владельца, и никого больше? Он тащит меня за собой как приземлившийся парашют, уже рвутся стропила, я вероятно, прочно к нему пристегнута, ага, потому он и хочет это сделать! Понимаю. Материал, из которой скроена моя тень, собирается волочить за собой по земле как парашют, это кровавое, вонючее дерьмо, которым я являюсь, Ничто, которым я являюсь, но как я могу доставить ему удовольствие там наверху, где с ним носятся как с божеством! Почему я? Почему же я? Эта мягкая выскальзывающая у него из рук материя, за которую он давно уже не может ухватиться? Я ведь была до того аккуратно сложенной, тень под тенью, многие из них древние, слипшиеся слоями, слитые воедино, склеенные, куча лохмотья, и теперь он волочит меня за собой как кучу парашютного шелка. Что-то хочет залезть в меня, в мое тело, он кричит за моей спиной, не оборачивайся! там ведь «комиссар совершает обход» , мог бы крикнуть что-нибудь другое, проблема, думаю, в том, что я попросту не хочу видеть свое тело, я ведь та, которая ничего хочет видеть! – знать не хочу, как оно, тело, теперь выглядит! — ведь мое тело снова стало желанным для певца, востребованным, человек ведь всегда ищет человека, никому не достаточно самого себя, все мы полны желаний, мой певунчик тоже такой же туго набитый, жирный мешок желаний, придурок, ах, douchebag! все равно что клизма, всегда пустая, моментально опорожняется и надувается. Глаза его сверкают, детские слезы давно забыты, как только девки начнут орать, они высасывают его, а он пьет из них, получает все, что хочет, певунчик, получает все, я слышу их, слышу сейчас яснее, они подходят ближе, я слышу, маленькие девки уже орут там снаружи, жаждут крови, у них ведь еще молочные зубы, по меньшей мере отчасти! смешно, прежде я их не слышала. Мое тело меня еще не настигло! Не обернусь к нему, ни в коем случае. Что сделает певец, мне все равно, но я ни в коем случае не обернусь! Если оно меня догонит, мое тело, тогда я попалась, тогда могу певцу достаться, тогда обрету фигуру и структуру, при таких условиях могу в его сопровожденьи, которого я вовсе не хочу, остаться, если форму получу, которую можно предъявить, этого бы я хотела. Тогда бы я попала в лапы мешка желаний, этого зажравшегося клеща. Остальные счастливы бы были. Все остальные счастливы бы были, если бы певец их забрал. Но для него главное то, что снова я при нем. При условии, что форму получу, могу в его сопровождении остаться. Не как тень. Как тень меня он не желает. Выбирать я не могу, должна ведь делать то, что требуется от меня. Мое тело плетется близко от него, если он меня поймает, я пропала, это обольстительное, вязаньем украшенное тело, нет, это не пуловер, пуловер больше я сама, но чем-то большим я тоже не являюсь, тень без сосуда, структура без тела, это обольстительное тело, не украшенное вязаньем тело, которое жаждет меня, жаждет меня Ничто, хочет вырваться из лап Ничто, хочет проникнуть в меня. Не выйдет. Я не иду. Не выйдет. Я: ни шагу дальше! Но если остановлюсь, меня поймает мое тело! Тело продолжает идти, тяжело ступает непоколебимо как какой-нибудь политик-альпинист. Но все равно. Дальше я не иду. Если он меня настигнет, в сетях его окажутся одни лишь дыры. Присяду, мне нужно лишь мгновение покоя, покоя, чтобы тень чистую свою заново сложить, но стоит мне лишь на мгновение присесть, как тело меня настигнет, войдет в меня, и тогда капец тени и конец веселью. Скольжу по камням, не ощущая это, не чувствуя ничего, тут светлее ни за что не станет, слышу, как дышит за мной мое тело и как певунчик свои условия выдвигает, что он возьмет меня с собой, лишь если меня показывать сможет, если я объектом показа стану, не унесенный ветром образ, о ком никто не вспомнит, ну, давай же, давай! Поймал ли тело, наконец? Если прикажешь, певец, придется мне тень свою сложить и тело свое вновь к себе принять, и затем смогу на самом деле упаковать, нет, действительность я не смогу упаковать, это страшная угроза, но тень мою я не отдам, сумею по-другому запаковать, так, попробуем выступить в новой роли, я бы с такой охотой себя уложила в тень, ту что я есть, но этого он тоже мне не позволяет, охотится за мной, мое собственное тело охотится за мной! прочь, тело! он свет так давно потерял, и хочет его обрести во мне, вот шутка! я сама в себя въезжаю, возможно, если я прочно себя скатаю, мое тело нельзя будет больше раскатать, скатываю себя словно ковер, я ролевая модель, модель на роли, меня можно получить лишь плотно сложенной, квадратиками, нет, скорее как попало или скатанной в рулонном исполнении, но всегда должен кто-то другой тянуть, снова надеть меня на меня не так-то просто, при этом я влезть смогу, гарантию даю. Мое тело пыжится, пыхтит от напряжения, прежде чем певец достиг выхода из пещеры, должно ли оно непременно влезть в меня, глупое тело, и зачем? Зачем? Чтобы его можно было бы выбросить вместе со мной? Чтобы он вместе со мной, своей тенью, которая я есть, в единственном роде есть, имел возможность бросать, чтобы он снова мог меня выбросить? Почему он непременно хочет сначала проникнуть в меня? Только чтобы бросить меня? Швырнуть как камень над водой? Он точно не в своем уме! Я так просто этого не допущу, но как Ничто мне не остается ничего другого. Я вынуждена позволить делать со мною все. Только тело не впускать, только не впускать себя в тело! Я уж присмотрю! Спереди падает яркий луч света, если мне удастся остаться тенью, прежде чем в меня проникнет мое тело, либо какое-нибудь другое, прежде чем тело меня крест-накрест скрутить сумеет, не знаю даже, мое ли это тело вообще, прежде чем я Собою стану, надо предотвратить, чтоб моя дорогая тень каким-то телом не захвачена была, моим вероятно, они уж как-нибудь настоящее найдут, я же не знаю, могут точно так же подсунуть мне какое-нибудь другое, чужое, кто знает, не обернусь, видеть его не хочу! Только чтобы моей любимой тенью не завладело тело, во владенье не попало, чтоб моя дивная, теплая, мягкая тень снова, никогда не оказалась во власти тела! И даже если она силой под власть попадет, это тело могло бы воплощать лишь Ничто, которое я есть и которое я творю, так, эта фраза сей миг пропала, этой фразе я отдала себя в распоряженье, и фраза сей миг пропала, хороший пример для тела и тени, ничто не вечно, и даже предложенье. Везде ничто, и мое тело вместилось бы туда. Ничто, которое я творю, Ничто, это я. Ощущаю что-то, ощущаю что-то на плече, теку, позволяю сквозить сквозь собственные пальцы, меня смущает, что тело, вероятно, мое, хочет оживить мою глупую тень, только затем, чтобы оно потом снова выбросило меня вон, только чтобы он мог меня выбросить. Зачем? Потому что это он умеет! Наоборот должно быть, тень должна уметь с телом расставаться, но не выходит, тело то, что обладает силой, и это самое главное, тело — тот, кто имеет власть. Без тела нет власти. Без тела нет оружия. Что делает здесь певец? Взял с собой смартфон? Брать не имело смысла, он и без того прирос к нему! Он хочет мгновение остановить, что собственно смыслом кино и фото есть, не говоря уже о том, что оба совершенно смысла лишены?! Хочет остановить то, чего не видит вовсе, удержать Ничто, миг моего воплощенья удержать? Да, должен только он! Понимаю! Если это сделает он, значит, в миг творенья мое тело, форма, то, что из меня, из тени, сформировано будет вновь, тень, которая, наконец, что-то из себя творит! всё на свет предстанет, и даже время. Все выйдет на свет божий, и там засохнет и сгниет, — вот работа солнца, то, что оно охотнее всего с возлюбленными нашими творит. Ничего не останется в тайне. Невероятно, но певец, коль у него всегда так смартфон блестит, тысячами блесток, коль он вечно в кольце из пламени стоит, думает, что тоже может молнии метать! нет, он требует, чтобы я скроила что-то из своей тени, выйдя из его тени, наконец, скроила нечто большее, и что он потом тоже сможет что-то из меня скроить, но при этом лишь падает, падает в огненное кольцо, плюх! огонь растет, молнии бьют из смартфона, он опускается ниже, все ниже и ниже; в то время как пламя взлетает все выше, он метит ниже, гоним желаниями своими, что его ко мне сорвали вниз. При этом я само смиренье! Желаний никаких. Это все его! И невдомек, что падает, летит в сверкающее огненное кольцо. Он мог бы мне помочь, фото мои разослать, в то время как пламя лижет его язычками, думает, люди будут ему благодарны, налетят агентуры, да, навалятся, но это всегда останется закваской, то, что я есть и что увидят, аморфное что-то, все, на что он способен, меня, меня слепить он может, сфоткать, еще и еще раз, но на флешке не будет ничего, нет, нет, она не станет для тела в тени входным билетом!, и жесткий диск его бесценного мининоутбука, где станет он писать обо всем, что со мной и моим тельцем случится – и тотчас с этим в сеть! — в конце окажется совсем пустым, — стереть или выбросить? выбросить! разумеется, в корзину! я ведь не что-то прочное, то, что между певцом и мной, это было чем-то прочным, но сама я непрочна, и не стану никогда, и даже быть закваской означало бы слишком много требовать от тени, что формы не имеет и не желает иметь. Певцу, конечно, нужно удержать то, что создал, что, наконец, снова стало прочным, является его творением, новыми зонгами, номерами, названиями, лихими, бесстыжими зонгами и допотопными номерами; талант в делах маркетинга, он хочет удержать и свои зонги, переписать, не выбрасывать, меня удержать и ввести меня вновь как звезду, дать своему творчеству толчок. Но он хочет тень удержать! Безумец, у меня нет слов, купить его можно лишь песней, в пространстве, заполненном ярким солнцем, в котором он идет, он хочет тень удержать! Сделать это можно, разумеется, только при свете. Должен быть настоящий свет, где кажимость есть. Свет нужен просто, чтоб кому-то восходить. Тень можно удержать лишь при свете, что за чушь, я вижу нечто направленное на меня, это приятно, за спиной я ощущаю какую-то скобу, способную тело взять в обхват, что-то, что пытается в меня войти, я ведь не трамвай, вот что-то в меня входит, и потом должно еще сохраниться навечно, или что там ею певец считает. Записать или выбросить? Выбросить! Я чувствую это и это вижу. Скатываю себя в рулон, креплюсь, но крепко держаться больше не могу, я мякоть, размягчена, дала себя размягчить, долго не могу держаться, эту роль мое тело после меня не получит в качестве задания, он может здесь меня силой тащить сколько хочет, и все это должно удержаться? Это хочет певец удержать, который способен публику свою пленять, но только не меня? Что-то блеснуло. Вот сей миг что-то блеснуло! Нет, это не воскреситель. Не он. Не может он быть. Это должен быть экзекутор, противоположность прожектора. Слышу вой, уже почти шатаясь, не смея, наконец, идти, рассудок уже почти теряя, не умея больше себя в руках держать, моя бледная тень исчезает в темноте, темнота к темноте, ничто к ничто, Ничто идет к Ничто, без труда не вынешь и рыбку из пруда, ничего страшного, из Ничто назад я не возвращусь, гарантирую, это ухватка меня уже парализует, тело, которое они напустили на меня, вдруг исчезло, где оно теперь? Вероятно, действительно и окончательно исчезло, через конец, наконец, ушло, наконец, благодаря концу отброшено куда-то, несказанное облегчение, мягко теку через пару ступенек назад в темноту, тень к тени, скольжу по камням словно змея, сделавшая меня тенью. Мы должны расстаться, я и я, наконец, снова ничто, снова великое Ничто, это ясно, сверху доносится вой, минутку! скоро я перестану это слышать, скоро меня поглотит темнота тени, это Ничто, это я, наконец, действительно ничто, со своими недостойными недругами, наконец, я смогу избежать своего собственного присутствия, никто больше не льнет ко мне, напротив, я отлыниваю от себя, устраняю искажения, быть может, однажды я смогу опять себя красиво раскатать и к другим теням прижаться, лишь когда немного отдохну, что ничего не значит, наконец, ничего, наконец, ничего в глухом уединенье. Ранее еще в опасности, нынче нет, певца наверху встречают воем, принимают, в бесчисленных резервных копиях запечатлевают, если кто-нибудь надежно сохранится, так это он! Я больше этого не слышу, я знаю больше, чем слышу, но он к этому привык, его жадно глотают дурно воспитанные воспитанницы, проглочен воем; я больше догадываюсь об этом, чем вижу, все дерьмо, но и мы дерьмо, и быть хотим дерьмом, ничем иным, и мы ничто, я этого уже почти совсем не слышу, рёва там наверху, всепроницающего визга, что сквозь толстые стены проникает, но тени нет, тени нет! бегу назад, тонкий ручеек на камне, одним больше или меньше, все равно, бесследно пропавшая, ибо не была я ручейком, и даже тенью не была, была я темнотой и пустое пространство, и ничто, и покой, мои шедевры – темнота и покой, и боле ничего, у меня нет шедевров, и никогда не будет, какое счастье! больше никаких шедевров, обещаю! У меня же их никогда не было и больше не будет, никто не видит моих шедевров, никто их никогда не видел, вздор они, дрянь, мои шедевры дрянь. И я тьма к тому ж, что на страже их стоит, на страже шедевров во тьме стоит, Ничто стоит на страже дряни, и я к сему придаток, на пару сшитая тьма, обнесенная еще более мрачным частоколом теней. Всё мрачнейшая тьма. Непроницаема, да и кто захочет сюда проникнуть? Никто. Она тут, но тут ее вовсе нет. Никто ее не видит. Она ничто. Все едино. Все ничто. Ничто едино. Тьма. Снаружи далекий вой, я знаю, что это там!, но его почти уже не слышу, мое тело исчезло, исчезло все, я снова исчезла, к счастью, прокатившись по камням, кусок сукна, не больше, тене-шаль, нет, даже не шаль, тень тени, я унеслась, за версту от верхнего края, уи, уи, уии и конец, и без того я знаю, как это звучит, но я унеслась. Мне больше нет нужды что-либо знать, о чем-то вспоминать, что-то создавать, что я и без того не создала и никогда бы не могла создать. Ни крохи тут больше от меня. Отлично. Разве кому-нибудь еще моя энергия нужна, которая угасла, я лишь наклонилась назад, ни разу не поскользнулась, не упала и не сошла с пути. Никогда на ум мне не приходило длани страстно воздевать, хочу опять назад, как Ничто, быть той, которой всегда была и снова есть, порочной, праздной, вот, наконец, оно, мое величайшее счастье, наконец, ничто, никто меня не тронет, и никого не тронут, нет, и я ни к чему не прикоснусь, ни счастья больше, ни несчастья, лишь чернота, какая-то мягкая материя, которая распадается, и вновь соединяется, тень к тени, чернота к черноте. Далеко в прошлом все слайды во множестве аппаратов, все клики, флешки, хиты, линки, всё в прошлом. Я тень, как мне это по душе, больше ничего, тут ровно ничего. Те, что там у входа, новенькие, пока ещё ощущаются, но скорее как дым, как утренний туман, или предрассветный полумрак, я прохожу сквозь них, раздвигая их новые тени как занавеси, которые еще не сомкнулись, еще не ощутили свою гибкость, хотя бы на миг, но дальше кончаются всякие чувства, у входа постоянно толчется пара новеньких, охваченных тоской, они этого пока не понимают, но очень скоро всё поймут, пройдет лишь миг, а потом освободят проход, сольются с нами и растворятся в нас, ведь самое прекрасное – это Ничто, самое прекрасное – быть ничем, самый страшный соблазн из всех, больше никакой погони за мягким дуновеньем ветра, за мягкими руками, за мягким дуновеньем рук, больше никаких жалоб, на что сетовать, коль ничто не гибнет, ничто не исчезает? На что тут было бы сетовать? Не на что. Нет, не будет больше восторженных приветствий уху, которое там наверху уже свой зев широко открыло вою, визгу, скрежету зубному, лаканью, жратве, заглатыванью, перевару, и меня уже сменило на другое, его же нет, не будет больше ни привета, ни подтянутого и упругого тела, больше ничего, одна лишь тень, одна лишь тень короткая на камне, меня сгребут, сложат мигом, нет, я сложу себя сама, не сгребу, и мигом не сложу, себя я больше не сгребаю, мигом собираю, нет, и все же! Соберу себя из последних сил, бесплотными руками, без рук, без ничего, вместе с Ничто, хватай меня во мне самой, хватай меня, ту, которой здесь больше нет, тень к тени, меня здесь больше нет, я есмь.
Примечание драматурга.
Для чтения, стало быть: Адельберт фон Шамиссо: «Удивительная история Петера Шлемиля». Зигмунд Фрейд, абсолютно все. Потом это будет вам на пользу. Овидий: «Метаморфозы».
«Тень (Говорит Эвридика)» возникла по инициативе Эссенской филармонии.
© Издание: Rowohlt Theater Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2011
© Текст: Эльфрида Елинек
© Перевод: Владимир Колязин
© Фото: Максим Мармур
ФГБНУ НЦПЗ. ‹‹Человек в поисках смысла››
Стороннему человеку очень трудно понять, как мало ценилась человеческая жизнь в лагере. Даже закаленные обитатели лагеря чувсвовали, до какой крайней степени доходит это пренебрежение, когда организовывался транспорт больных. Их истощенные тела кидали на двухколесные телеги, которые за много миль, часто сквозь метель, заключенные тащили в соседний лагерь. Если кто-нибудь из больных умирал еще до отправки, его мертвое тело все равно кидали в телегу — список должен был сойтись! Список был единственной вещью, которая имела значение. Человека учитывали по его тюремному номеру. Он буквально сам становился номером; мертвый или живой — это уже было неважно: жизнь «номера» совершенно ничего не значила. Что стояло за этим номером и за этой жизнью — судьба, история, имя человека, — значило еще меньше. В одном транспорте больных, который я, в должности доктора, должен был сопровождать из одного баварского лагеря в другой, был молодой парень, чей брат не был в списке и поэтому должен был остаться. Он так долго умолял надзирателя, что тот решился сделать подмену, и брат занял место человека, который в этот момент предпочел остаться. Но список должен был сойтись! Это было легко устроить. Брат просто поменялся номером с оставшимся. Как я упоминал раньше, у нас не было документов. Каждый был рад владеть хотя бы собственым телом, которое, в конце концов, все еще дышало. Все остальное, что у нас было, то-есть лохмотья, висящие на наших изможденных скелетах, представляли интерес только тогда, когда нас определяли в транспорт больных. Отбывающих «мусульман» осматривали с беззастенчивым интересом: не лучше ли их куртки и башмаки, чем свои собственные. В конце концов, их судьба уже была решена. Но те, кто оставался в лагере, еще были способны кое-как работать, и должны были любой ценой повысить свои шансы на выживание. Сантиментам тут не было места. Заключенные знали, что судьба их полностью зависит от настроения охранников, и это делало их еще менее людьми, чем того требовали обстоятельства. В Освенциме я установил себе правило, которое оказалось полезныим, и которому потом следовали многие из моих товарищей. Я правдиво отвечал на любые вопросы, но умалчивал обо всем, о чем меня прямо не спрашивали. Если спрашивали о моем возрасте, я его называл. Если спрашивали о профессии, я говорил «доктор», но не уточнял, какой. В первое утро в Освенциме на площадь построений пришел эсэсовский офицер и начал нас сортировать: мы были разделены на группы: до сорока лет, после сорока лет; специалисты по обработке металла, механики и т.д. Потом нас проверили на грыжу, и образовалась новая группа. Моя группа была приведена в другой барак, где нас опять выстроили. После того как нас рассортировали еще раз, и после того, как я ответил на вопросы о моем возрасте и профессии, меня послали в другую маленькую группу. Все это тянулось долго, и я совсем пал духом, очутившись среди незнакомцев, говорящих на непонятных языках. Потом была последняя селекция, и я опять очутился в группе, которая была со мной в первом бараке! Они, кажется, и не заметили, что меня перекидывали из барака в барак. Но мне было ясно, что за это время моя судьба менялась много раз. Когда формировался транспорт больных в «лагерь отдыха», мое имя (то-есть мой номер) было занесено в список, так как там были нужны врачи. Но никто не был уверен, что местом назначения действительно является лагерь отдыха. Несколько недель назад этот транспорт уже должен был отправиться. Тогда тоже все считали, что он направляется в газовые камеры. Когда объявили, что каждый, кто пойдет добровольцем в страшную ночную смену, будет вычеркнут из списка, восемьдесят два человека немедленно согласились. Через четверть часа транспорт был отменен, но эти восемьдесят два человека остались в списке ночной смены. Для большинства из них это означало смерть в ближайшие две недели. И вот транспорт в лагерь отдыха организовали во второй раз. Опять никто не знал, было ли это уловкой, чтобы выжать из больных последние капли сил, пойдет ли транспорт в газовые камеры или в настоящий лагерь отдыха. Главврач, который был ко мне благосклонен, сказал мне украдкой, в четверть десятого вечера: «Мне дали понять в канцелярии, что вас еще можно вычеркнуть из списка. Это можно сделать до десяти.» Я сказал ему, что это не в моих правилах; что я научился предавать себя в руки судьбы. «Я мог бы и остаться со своими друзьями,» — сказал я. В его глазах промелькнула жалость, как будто он что-то знал.Он молча пожал мне руку, как будто это было прощание не на всю жизнь, а прощание с моей жизнью. Я медленно пошел в свой барак. Там меня ждал близкий друг. Он грустно спросил меня: «Ты действительно хочешь отправиться с ними?» «Да, я отправляюсь.» На его глаза навернулись слезы, и я попытался утешить его. Но мне надо было успеть еще одну вещь — сделать завещание. «Послушай, Отто, если я не вернусь домой к своей жене, и если ты увидишь ее, расскажи ей, что я говорил о ней каждый день и каждый час. Ты это помнишь. Второе — я любил ее больше, чем кого-либо другого. Третье — то краткое время, что я был женат на ней, перевешивает все, даже то, через что мы тут прошли.» Отто, где ты? Жив ли ты? Что происходило с тобой после нашего последнего часа вместе? Нашел ли ты снова свою жену? И помнишь ли ты, как я заставил тебя выучить мое завещание наизусть — слово в слово, хоть ты и плакал как ребенок? Следующим утром я отправился с транспортом. На этот раз обмана не было. Нас не отправили в газовые камеры, мы действительно попали в лагерь отдыха. Те, кто оплакивали меня, остались в лагере, где вскоре наступил еще более свирепый голод. Они пытались спастись, но вместо этого только подписали себе приговор. Через несколько месяцев, уже после освобождения, я встретил одного человека из старого лагеря. Он рассказал мне, как он, в качестве лагерного полицейского, разыскивал кусок человеческого мяса, вырезанный из трупа. Он конфисковал его из горшка, в котором его варили. Люди дошли до каннибализма. Я вовремя покинул тот лагерь. Разве это не напоминает историю о Смерти в Тегеране? Богатый и могущественный перс гулял в своем саду в сопровождении слуги. Вдруг слуга закричал, что увидел свою Смерть, которая угрожала ему. Он умолял своего хозяина дать ему самую быструю лошадь, чтобы он мог сбежать в Тегеран, до которого можно было добраться тем же вечером. Хозяин согласился, и слуга тотчас ускакал. Вернувшись в дом, хозяин сам увидел Смерть и спросил ее: «Зачем ты напугала своими угрозами моего слугу?» «Я ему не угрожала, а лишь удивилась, что он еще тут, когда я собираюсь встретиться с ним в Тегеране,» — сказала Смерть. Обитатели лагеря боялись принимать решения или проявлять любую инициативу. Это было следствием убеждения, что человеком распоряжается судьба, и что не следует никак на нее влиять, а надо предаваться в ее руки. К тому же чувствами заключенного владела сильная апатия. Иногда следовало принимать мгновенное решение, от которых могла зависеть жизнь или смерть. Заключенный предпочитал, чтобы выбор за него сделала судьба. Это стремление избежать ответственности проявлялось очевиднее всего, когда надо было принять решение о попытке бегства. В эти минуты, когда надо было решиться — а это всегда были считанные минуты — он испытывал адские муки. Должен ли он попытаться ? Следует ли идти на риск? Я тоже пережил эти мучения. Когда фронт приблизился, мне подвернулся удобный случай для побега. Мой коллега, который в ходе исполнения своих врачебных обязанностей должен был посещать бараки вне лагеря, решил сбежать и предложил взять меня с собой. Под предлогом медицинской консультации, где требовался совет специалиста, он вывел меня из лагеря. Боец иностранного движения сопротивления взялся снабдить нас военной формой и документами. В последний момент возникли какие-то технические затруднения, и нам пришлось снова вернуться в лагерь. Однако мы воспользовались нашей экскурсией, чтобы обеспечить себя провизией (несколькими гнилыми картофелинами) и поискать рюкзаки. Мы проникли в пустой барак женского лагеря, где никого не было — женщин перевели в другой лагерь. В бараке был большой беспорядок: повидимому, многие женщины воспользовались суматохой и сбежали. Там валялись тряпки, солома, испорченная еда и разбитая посуда. Некоторые миски были в хорошем состоянии и могли бы нам очень пригодиться, но мы решили их не брать. Мы знали, что в последнее время, когда условия жизни стали совсем отчаянными, их использовали не только для еды, но и для мытья и как ночные горшки. (Было строго запрещено держать такие вещи в бараке. Однако приходилось нарушать это правило, особенно тифозным больным, которые были слишком слабы, чтобы выйти из барака даже с чужой помощью.) Пока я служил прикрытием, мой приятель вошел в барак и быстро вернулся с рюкзаком, который он спрятал под куртку. Мы поменялись местами, и я вошел. Пока я рылся в хламе, где нашел рюкзак и даже зубную щетку, я внезапно увидел среди всего беспорядка труп женщины. Вернувшись в свой лагерь, я кинулся обратно в свой барак, чтобы собрать все свое имущество: миску для еды, пару рваных рукавиц, «унаследованных» от умершего тифозного больного, и несколько клочков бумаги, покрытых стенографическими значками (на которых я начал восстанавливать рукопись, потерянную в Освенциме). Я совершил быстрый последний обход моих пациентов, лежавших на гнилых досках вдоль стен барака. Я подошел к моему единственному земляку, который был близок к смерти, но для меня было делом чести спасти его, вопреки его состоянию. Мне приходилось скрывать, что я собираюсь бежать, но мой товарищ как будто почувствовал что-то необычное (видимо, я заметно нервничал). Слабым голосом он спросил меня: «Ты тоже уходишь?» Я уверял, что нет, но мне трудно было выдержать его грустный взгляд. После обхода я вернулся к нему. Опять меня встретил взгляд, полный безнадежности, и я уловил в нем обвинение. Неприятное чувство, охватившее меня, когда я согласился бежать со своим коллегой, еще усилилось. Внезапно я решил на этот раз взять судьбу в свои руки. Я выбежал из барака и сказал приятелю, что не могу пойти с ним. Как только я решительно сказал ему, что остаюсь с моими пациентами, неприятное чувство покинуло меня. Я не знал, что нам готовит будущее, но почувствовал внутренний покой, которого никогда раньше не испытывал. Я вернулся в барак, сел на доски у ног своего земляка и попытался утешить его; потом поговорил с другими, стараясь облегчить их горячечное состояние. Настал наш последний лагерный день. Когда стал приближаться фронт, массовые транспорты перевезли почти всех заключенных в другие лагеря. Лагерные власти, капо и повара сбежали. В этот день был пришел приказ полностью эвакуировать лагерь до темноты. Даже немногие оставшиеся заключенные (больные, несколько докторов и медбратьев) должны были покинуть лагерь. Ночью его должны были сжечь. В полдень грузовики, высланные за больными, еще не прибыли. Внезапно ворота лагеря накрепко закрыли и стали строго следить, чтобы никто не сбежал. Похоже было, что оставшимся заключенным предстоит сгореть вместе с лагерем. Мы с приятелем снова решили бежать. Нам велели похоронить троих умерших в тот день за забором из колючей проволоки. Мы были единственными заключенными в лагере, у которых было для этого достаточно сил. Почти все остальные лежали в бараках, обессиленные лихорадкой и горячкой. Мы составили план: вместе с первым телом мы пронесем рюкзак моего приятеля, спрятав его под трупом в старом корыте, которое служило гробом. Вместе со вторым телом мы вынесем и мой рюкзак, а после третьего рейса сбежим. Первые два рейса прошли по плану. Мы вернулись в лагерь, и я стал ждать приятеля, который пошел искать ломоть хлеба, чтобы было на чем продержаться несколько дней в лесу. Я ждал. Минуты шли. Я все больше терял терпение — мой приятель не возвращался. После трех лет заключения я радостно рисовал себе свободу, представляя себе, как здорово будет бежать в сторону фронта. Но до этого дело не дошло. В тот момент, когда мой приятель вернулся, ворота лагеря распахнулись. Великолепная серебристая машина с большими красными крестами медленно въехала на площадь построений. Прибыл представитель Международного Красного Креста из Женевы и объявил, что лагерь и его обитатели находятся под его защитой, Этот представитель расположился в сельском доме по соседству, чтобы быть около лагеря на случай каких-нибудь чрезвычайных происшествий. Кто сейчас мог думать о бегстве? Из машины выгрузили ящики с лекарствами, стали раздавать сигареты, и воцарилась всеобщая радость. Уже не было необходимости с риском бежать по направлению к фронту. В нашем возбуждении мы чуть не забыли о третьем теле; наконец мы его вынесли и положили в узкую могилу, рядом с остальными двумя. Охранник, который сопровождал нас — человек относительно безобидный — внезапно стал крайне любезен. Он понял, что мы можем поменяться ролями, и постарался завоевать наше расположение. Он присоединился к кратким молитвам, которые мы прочли над умершими, прежде чем засыпать их землей. После напряжения и возбуждения последних дней и часов, когда мы бежали наперегонки со смертью, слова нашей молитвы, просившие о мире, были горячи, как ни одна молитва, произнесенная когда-нибудь устами человека. Так, в предвкушении свободы, проходил наш последний день в лагере. Но мы слишком рано радовались. Представитель Красного Креста уверил нас, что соглашение подписано и что лагерь не будет эвакуирован. Но этой же ночью явились эсэсовцы с грузовиками, и с приказом очистить лагерь. Последних оставшихся заключенных должны были перевести в центральный лагерь, откуда их перешлют в Швейцарию в течение 48 часов в обмен на каких-то военнопленных. Мы едва узнавали эсэсовцев. Они были так дружелюбны, убеждая нас не бояться и залезть на грузовики, и приговаривая, что мы должны быть благодарны судьбе за такое везение. Те, у кого хватило сил, сами взобрались на грузовики; слабых с трудом подняли. Мой приятель и я — мы уже не прятали наших рюкзаков — стояли в последней группе, из которой 13 человек было отобрано в предпоследний грузовик. Главврач вызвал 13 человек, но пропустил нас двоих. Мы остались. Удивленные, очень обеспокоенные и разочарованные, мы стали стали упрекать главврача; он извинялся, говоря, что очень устал и был рассеян. Он думал, что мы все еще намерены бежать, В нетерпении мы сели на землю, не снимая рюкзаков со спины, и стали ждать последнего грузовика вместе с оставшимися заключенными. Нам пришлось ждать долго. В конце концов мы улеглись на матрацы в опустевшем помещении охранников, измученные возбуждением последних дней и часов, в течение которых нас непрерывно бросало от надежды к отчаянию. Мы спали в одежде и обуви, готовые к путешествию. Нас разбудили звуки выстрелов из ружей и орудий; в окна проникал отблеск вспышек и трассирующих пуль. Главврач вбежал в барак и приказал лечь на пол. Один заключенный спрыгнул в башмаках прямо мне на живот, и это меня разбудило окончательно. Теперь мы поняли, что происходит: фронт добрался до нас! Стрельба утихла, и наступило утро. На мачте у ворот лагеря развевался на ветру белый флаг. Несколько недель спустя мы обнаружили, что судьба играла нами даже в эти последние часы. Мы узнали, насколько ненадежны бывают человеческие решения, особенно когда дело идет о жизни и смерти. Мне показали фотографии, снятые в маленьком лагере недалеко от нас. Наши друзья, которые думали, что едут на свободу, были перевезены в этот лагерь, заперты в бараках и сожжены. Их наполовину обугленные тела можно было узнать на фотографиях. Я снова вспомнил Смерть в Тегеране. Апатия у заключенных, развивавшаяся как защитный механизм, возникала и в результате других факторов. Ей способствовали голод и недосыпание (как и в нормальной жизни), которые вызывали и общую раздражительность, которая была еще одной характеристикой душевного состояния заключенных. Мы недосыпали частично из-за того, что нас донимали паразиты, наводнявшие страшно перенаселенные бараки при полном отсутствии санитарии и гигиены. У нас не было ни никотина, ни кофеина, и это тоже способствовало состоянию апатии и раздражительности. Кроме этих физических причин, были еще и душевные, в форме некоторых комплексов. Большинство заключенных страдало родом комплекса неполноценности. Мы все когда-то были и воображали себя «Кем-то». Сейчас с нами обращались как с полным «ничто». (Осознание внутренней ценности личности коренится в более высоких духовных сферах и не может быть поколеблено лагерной жизнью. Но как много свободных людей, не говоря о заключенных, обладают им в полной мере?) Даже не размышляя об этих вещах сознательно, средний заключенный чувствовал себя крайне униженным. Это становилось очевидным при наблюдении над контрастами своеобразной социологической структуры лагеря. Наиболее «высокопоставленные» заключенные — капо, повара, кладовщики и лагерные полицейские — совершенно не чувствовали себя униженными, как большинство остальных, а, наоборот, «повышенными в звании»! У некоторых даже развивалась миниатюрная мания величия. Душевная реакция ревнивого и недовольного большинства находила выражение в разной форме, иногда в иронии. Например, я слышал, как один заключенный говорил другому об одном капо: «Представь себе, я знал этого человека, когда он был всего лишь директором крупного банка. Как ему повезло, что он поднялся сейчас до такого высокого положения!» Когда униженное большинство и выдвинувшееся меньшинство сталкивались в конфликте (а для этого было множество поводов, начиная с распределения еды), последствия бывали взрывоопасными. Общая напряженность (физические причины которой обсуждались выше) становилась еще сильнее, и иногда она разрешалась всеобщей дракой.Так как заключенные постоянно были свидетелями и жертвами побоев, это понижало порог перехода к насилию. Я сам чувствовал, как сжимались мои кулаки, когда меня охватывал гнев, а я был голоден и устал. Обычно я бывал очень утомлен, так как мне приходилось всю ночь поддерживать огонь в нашей печке — она была разрешена в бараке для тифозных больных. Однако некоторые из самых идиллических часов, которые я когда-нибудь проводил, были эти часы глубокой ночью, когда все остальные спали или бредили. Я мог лежать, растянувшись перед огнем, и печь несколько украденных картофелин на огне, в котором горел украденный уголь. Но на следующий день я всегда чувствовал себя еще более усталым, равнодушным и раздражительным. Одно время, работая врачом в тифозном блоке, я должен был замещать заболевшего старшего надзирателя. В этой должности я отвечал перед лагерными властями за поддержание чистоты в бараке — если слово «чистота» подходило к тем условиям. Целью инспекции, которой часто подвергался барак, было скорее найти повод для наказания, чем поддержать соблюдение гигиены. Реальной помощью было бы лучшее питание и немного лекарств, но единственное, о чем заботились инспектора, был порядок — чтобы нигде не валялось ни соломинки и чтобы грязные, рваные, полные паразитов одеяла больных были аккуратно подвернуты у их ног. Судьба больных их не интересовала. Если я браво докладывал, сорвав тюремную шапку с обритой головы и пристукнув каблуками: «Барак номер VI дробь 9; 52 пациента , два санитара и один врач», они были удовлетворены и уходили. Но до их прихода — часто часами позже, чем было объявлено, а иногда они вообще не приходили, — я был вынужден приводить в порядок одеяла, подбирать соломинки, упавшие с нар, и прикрикивать на бедняг, которые метались в жару и угрожали свести насмарку все мои старания. Апатия особенно одолевала лихорадящих больных, которые вообще не реагировали, если на них не кричали. Иногда и крик не действовал, и мне стоило огромного усилия и самообладания не ударить их. Моя раздражительность возрастала до предела из-за апатии больных и ожидания опасности со стороны инспекции. Пытаясь дать психологическую картину и психопатологическое объяснение типичных характеристик обитателей концлагеря, я рискую создать впечатление, что человеческое бытие полностью и неизбежно подпадает под влияние среды. (В данном случае окружающая среда — это особая структура лагерной жизни, которая заставляет заключенного приспособить свое поведение к определенному стереотипу.) А как же насчет человеческой свободы? Разве нет духовной свободы в смысле поведения и реакции на любое данное поведение? Является ли верной теория, согласно которой человек — не более чем продукт многих факторов, будь они биологической , социальной или психологической природы? И самое важное, доказывают ли реакции заключенных на особый мир концлагеря, что человек не может спастись от влияния своего окружения? Может ли человек перед лицом таких обстоятельств обладать свободой выбора своих действий? Мы можем ответить на эти вопросы, исходя и из опыта, и из принципов. Опыт лагерной жизни показывает, что у человека есть свобода выбора. Было достаточно примеров, часто героических, которые доказали, что можно преодолеть апатию, подавить раздражительность. Человек может сохранить остатки духовной свободы и независимости мышления даже в условиях крайнего психического и физического напряжения. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. Пусть их было немного, они служат достаточным доказательством: у человека можно отнять все, кроме одного — его последней свободы: выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой собственный путь. А выбирать надо было все время. Каждый день, каждый час представлялся случай принять решение, которое определяло, будете вы или нет покорны силам, угрожающим лишить вас самого себя, вашей внутренней свободы; будете вы или нет игрушкой обстоятельств, откажетесь ли от своего достоинства, чтобы втиснуться в стереотип лагерника. С этой точки зрения душевные реакции узников концлагеря должны значить для нас больше, чем простое отражение определенных физических и социальных условий. Даже если такие тяжкие условия, как недосыпание, недоедание и разнообразные душевные напряжения и создают предпосылки для того, чтоб узники реагировали определенным образом, при конечном анализе становится ясным, что та личность, которой становится заключенный, является результатом внутреннего решения, а не только результатом влияния лагеря. Так что по существу каждый может, даже в таких условиях, как лагерные, решать, каким он станет умственно и духовно. Он может сохранить свое человеческое достоинство даже в концлагере. Достоевский как-то сказал: «Есть только одно, чего я страшусь: быть недостойным своих страданий.» Эти слова часто приходили мне в голову, когда я я встречался с мучениками, поведение которых в лагере, их страдания и смерть доказывали, что последняя внутренняя свобода не может быть потеряна. Они были достойны своих страданий, ибо то, как они их переносили, было подлинным внутренним подвигом. Именно эта духовная свобода, которую невозможно отобрать, придает жизни смысл и цель. Цель активной жизни — дать человеку возможность реализовать свои ценности в творческой работе, в то время как пассивная жизнь, посвященная наслаждениям, дает ему возможность получить удовлетворение в познании красоты, искусства и природы. Но есть смысл и в той жизни, что почти полностью лишена возможности творчества и наслаждения, и которая допускает только одну возможность поведения на высоком моральном уровне: оно выражается в отношении человека к своему существованию, ограниченному внешними силами. Творчество и наслаждение у него отняты. Но не только творчество и наслаждение имеют смысл. Если в жизни вообще есть смысл, то должен быть смысл и в страдании. Страдание — неотделимая часть жизни, как судьба и смерть. Без страдания и смерти человеческая жизнь не может быть полной. То, как человек принимает свою судьбу и доставленные ею страдания, то, как он несет свой крест, дает ему полную возможность — даже в самых тяжелых обстоятельствах — придать более глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более чем животным. Здесь у человека есть шанс либо воспользоваться этой возможностью, либо забыть о ней. И это решает, будет ли он достоин своих страданий или нет. Не думайте, что эти рассуждения — не от мира сего и слишком далеки от реальной жизни. Верно, что лишь немногие люди способны достичь таких высоких моральных стандартов. Только немногие из заключенных сохранили полную внутреннюю свободу и обрели те ценности, которыми их обогатили страдания. Но даже один такой пример является достаточным доказательством, что внутренняя сила человека может поднять его над внешней судьбой. Такие люди есть не только в концлагерях. Над человеком всегда висит рок, и может дать ему горькую возможность достигнуть чего-то через страдание. Обратимся к судьбе больных — особенно неизлечимых. Я читал однажды письмо, написанное молодым инвалидом своему другу; он только что узнал, что ему осталось жить недолго, и даже операция ему не поможет. Далее он пишет, что он давно видел фильм об обреченном человеке, который ждал смерти мужественно и достойно. Тогда он подумал, какое это большое достижение — так встретить смерть. Теперь — пишет он — судьба дала ему такой же шанс. Те из нас, которые видели фильм под названием «Воскресение» — по роману Толстого (действие происходит много лет назад) могли подумать о том же. Там были великие судьбы и великие люди. Для нас, в наше время, нет великих судеб, нет возможности достичь такого величия. Зайдя после кино в ближайшее кафе, над чашкой кофе и бутербродом мы забываем странные метафизические мысли, которые на минуту пришли нам в голову. Но когда мы сами встречаемся с великим предназначением, и нам предстоит решить — выйти ли ему навстречу с равным ему духовным величием — тогда мы можем забыть нашу юношескую решимость и потерпеть неудачу. Может быть, некоторые из нас теперь снова увидят этот этот фильм, или похожий на него. Но тогда перед нашим внутренним взором одновременно возникнут другие повести — о людях, которые поднялись в своей жизни гораздо выше, чем может показать сентиментальный фильм. Я расскажу простую историю о молодой женщине, свидетелем смерти которой я был в лагере. Может показаться, что я ее выдумал, но это правда; для меня в этой истории заключена чистая поэзия. Эта женщина знала, что умрет в ближайшие дни. Но несмотря на это, она разговаривала со мной весело. «Я благодарна судьбе за то, что она меня так тяжело ударила,» — сказала мне она. — «В моей прошлой жизни я была избалована и не относилась всерьез к духовным достижениям.» Указав на окно барака, она сказала: «Это дерево — единственный друг, который есть у меня в моем одиночестве.» — Через окно она могла видеть только ветку каштана и два цветка на ней. — «Я часто говорю с этим деревом.» Я был поражен и не знал, как понять ее слова. Может быть, это бред? Может быть, у нее бывают галлюцинации? Я со страхом спросил, отвечает ли ей дерево? — «Да.» Что оно ей говорит? Она ответила: «Оно говорит мне — я здесь, — я здесь — я есть жизнь, вечная жизнь.» Мы установили, что в конечном счете состояние внутренней личности заключенного определяется не столько приведенными выше психофозическими причинами, сколько его свободным решением. Психологические наблюдения над заключенными показали, что только те, кто отказался от внутренней власти над своей моральной и духовной сущностью, со временем стали жертвами унижающего влияния лагеря. Но тогда встает вопрос, что может и должно составлять эту «внутреннюю власть»? Бывшие заключенные, рассказывая о пережитом, признают, что тяжелее всего было следующее обстоятельство: заключенный не мог знать, сколько продлится его заключение. Ему не сообщали ни срока, ни даты освобождения. (В нашем лагере было бессмысленно даже говорить об этом.) Действительно, срок заключения был не только неопределен, но просто неограничен. Известный психолог-исследователь указывал, что жизнь в концлагере можно назвать «условным существованием». Мы можем прибавить к этому определению: «условное существование с неизвестным пределом». Новоприбывшие обычно не знали ничего об условиях жизни концлагеря. Те, кому посчастливилось вернуться их лагерей, обязаны были хранить молчание, а из некоторых лагерей не вернулся никто. При попадании в лагерь в голове все менялось. С концом неопределенности приходила неопределенность конца. Было вообще невозможно предвидеть, когда кончится эта форма существования. Латинское слово finis имеет два значения: одно — конец или финиш; другое — цель, которую надо достичь. Человек, который не знал конца своего «условного существования», не был способен стремиться к конечной цели в жизни. Он переставал жить для будущего, в противоположность человеку в нормальных условиях. Поэтому изменяется вся структура его внутренней жизни; появляются признаки распада, известные нам из других сфер жизни. Безработный, например, находится в сходном положении. Его существование тоже стало условным; в определенном смысле он не может жить ради будущего или стремиться к цели. Исследования психики безработных шахтеров показали, что они страдают своеобразным видом деформации времени — внутреннего времени, и что это следствие их положения безработного. Заключенные тоже страдали этим странным ощущением времени. В лагере маленькая единица времени, например, день, наполненный ежедневными муками и усталостью, тянется бесконечно. Более крупная единица, скажем неделя, кажется пролетевшей очень быстро. Мои товарищи согласились со мной, когда я сказал, что в лагере день длится больше, чем неделя. Каким парадоксальным было наше ощущение времени! В этой связи мы вспомнили о Волшебной горе Томаса Манна, в которой есть очень точные психологические замечания. Манн исследует духовное развитие людей, которые находятся в аналогичном психологическом положении; это туберкулезные больные в санатории, которые тоже не знают даты своего освобождения. Они переживают сходное существование — без будущего и без цели. Один из заключенных, который, прибыв в лагерь, шел в длинной колонне от станции, сказал мне позже, что чувствовал себя так, как будто шел за гробом на собственных похоронах. Он считал, что для него все кончено, как будто он уже умер. Это ощущение, что жизнь кончилась, усиливали и другие обстоятельства: в смысле времени — неограниченность срока заключения, что воспринималось наиболее остро; в смысле пространства — тесные пределы тюрьмы. Все, что было по ту сторону колючей проволоки, стало отдаленным — недоступным и в какой-то мере нереальным. События и люди вне лагеря, вся нормальная жизнь там казалась призрачной. Она выглядела так, как может выглядеть земная жизнь для мертвого человека, который смотрит на нее из загробного мира. Человек, который позволяет себе опуститься потому, что не может видеть никакой будущей цели, оказывается занятым мыслями о прошлом. Мы уже говорили о тенденции смотреть в прошлое в другом аспекте — когда это помогает сделать настоящее, со всеми его ужасами, менее реальным. Но в отвлечении от реальности имеется определенная опасность. Тогда человеку легко упустить ряд случаев, позволяющих сделать из лагерной жизни нечто позитивное, а такие случаи действительно представлялись. Само отношение к нашему «условному существованию» как к нереальному было сильным фактором, из-за которого заключенный переставал держаться за жизнь: это казалось бессмысленным. Такие люди забывали, что лагерь — это просто исключительно трудная внешняя ситуация, которая предоставляет человеку возможность духовного роста. Вместо того чтоб воспринимать тяжести лагеря как экзамен для своей внутренней силы, они не принимали всерьез свою жизнь и презирали ее как нечто несущественное. Они предпочитали закрыть глаза и жить в прошлом. Для таких людей жизнь становилась бессмысленной. Естественно, только немногие были способны подняться до великих духовных высот. Но этим немногим был дан шанс обрести человеческое величие в своих видимых земных неудачах и даже смерти, чего они в обычных обстоятельствах никогда бы не достигли. К остальным из нас, заурядным и нерешительным, применимы слова Бисмарка: «Жизнь — это как посещение дантиста. Мы все время думаем, что самое худшее впереди, и вот все уже кончилось.» Варьируя это высказывание, можно сказать: большинство людей в концлагере считали, что реальные возможности в жизни уже позади. И все же на самом деле была такая возможность, и был брошен вызов. Можно было одержать духовную победу, обратив лагерное существование во внутренний триумф, или можно было пренебречь вызовом и просто прозябать, как делало большинство заключенных. Любая попытка бороться с психопатологическим воздействием лагеря на заключенного с помощью психотерапевтических или психогигиенических методов должна стремиться дать ему внутреннюю силу, указывая на цель в будущем, чтоб он мог смотреть вперед. Некоторые из заключенных инстинктивно пытаются найти ее сами. Это исключительная особенность человека, который может жить только глядя в будущее — sub specie aeternitatis. И это может его спасти в самые трудные минуты существования, хотя иногда приходится заставлять себя думать об этой задаче. Вернусь к моему личному опыту. Почти плача от боли (у меня были страшно стерты ноги из-за скверной обуви), я брел в нашей длинной колонне из лагеря к месту работы. Очень холодный и сильный ветер пронизывал нас до костей.Я был занят мыслями о бесконечных проблемах нашей жалкой жизни. Что нам дадут поесть вечером? Если дадут в качестве добавки кусочек колбасы, следует ли обменять его на кусок хлеба? Следует ли отдать последнюю сигарету, которая осталась от премии, полученной месяц назад, за миску супа? Как бы раздобыть кусок проволоки, чтобы заменить обрывок, служивший мне шнурком для ботинок? Успею ли я дойти вовремя, чтоб присоединиться к моей обычной рабочей группе, или мне придется пойти в другую, где бригадиром может оказаться жестокий человек? Как бы установить хорошие отношения с капо, который может помочь получить работу в лагере, чтобы не надо было совершать этот ужасающе длинный ежедневный переход? Я почувствовал отвращение к такому положению дел, которое вынуждало меня каждый день и каждый час думать только о таких тривиальных вещах. Я заставил свои мысли обратиться к другому предмету. Я увидел себя на кафедре в ярко освещенном, теплом и красивом зале. Передо мной в комфортабельных креслах сидит внимательная публика. Я читаю лекцию о психологии концентрационного лагеря! Все, что давило на меня в этот момент, стало чем-то объективным, рассматриваемое и описываемое с научной точки зрения, отрешенной от переживаний. Этим способом я как-то сумел подняться над ситуацией, над сиюминутными страданиями, и я наблюдал их так, как будто они были уже в прошлом. И я, и мои тревоги и заботы стали предметом интересного психологического научного исследования, проводимого мной самим. Что сказал Спиноза в своей «Этике»? «Affectus, qui passio est, desinit esse passio simulatque eius claram et distinctam formamus ideam.» Эмоция, которая является страданием, перестает быть страданием, как только мы создаем ее ясную и точную картину. Заключенный, который потерял веру в будущее — свое будущее — обречен. С потерей веры он теряет также и духовную стойкость; он позволяет себе опуститься и стать объектом душевного и физического разложения. Как правило, это происходит совершенно внезапно, в форме кризиса, симптомы которого очень хорошо знакомы опытному узнику лагеря. Мы все страшились этого момента — не у себя, что было бы бессмысленно, но у наших друзей. Обычно это начиналось так: однажды утром заключенный отказывался одеться, умыться и выйти на площадь для построения. Ни просьбы, ни удары, ни угрозы не производили никакого эффекта. Он просто лежал, почти не шевелясь. Если этот кризис сопровождался болезнью, он отказывался перейти в больничный барак или сделать хоть что-нибудь, чтобы себе помочь. Он просто сдавался. Он оставался лежать в собственных нечистотах, и его ничего больше не волновало. Однажды я наблюдал трагическое проявление связи между потерей веры в будущее и этим опасным отказом от всяких усилий жить. Ф., мой старший надзиратель, очень известный композитор и либреттист, однажды тайно признался мне: «Я хочу рассказать вам кое-что, доктор. У меня был странный сон. Голос сказал мне, что я могу спросить о чем-нибудь; что я должен только сказать, что я хотел бы узнать, и на все вопросы я получу ответ. Что, по-вашему, я спросил? Я хочу знать, когда для меня кончится война. Вы понимаете, доктор, просто для меня! Я хотел узнать, когда мы, наш лагерь, будет освобожден и наши мучения кончатся.» «И когда у вас был этот сон?» — спросил я. «В феврале 1945-го» — ответил он. Было начало марта. «И что ответил голос в вашем сне?» Он украдкой шепнул: «30-го марта.» Когда Ф. рассказал мне свой сон, он был все еще полон надежды и уверен, что голос во сне сказал ему правду. Но когда обещанный день стал приближаться, то по вестям с фронта, которые доходили до нашего лагеря, стало ясно, что навряд ли наш лагерь будет освобожден к обещанному сроку. 29-го марта Ф. внезапно заболел, сильно поднялась температура. 30-го марта, когда, по предсказанию, война и страдания для него должны были кончиться, у него начался бред, и он потерял сознание. 31-го марта он скончался. Внешне все выглядело, будто он умер от тифа. Тот, кто знает, насколько тесна связь душевного состояния человека с состоянием его телесного иммунитета, поймет, что внезапная потеря надежды и мужества может иметь смертельное воздействие. Настоящая причина гибели моего друга — то, что ожидаемое освобождение не наступило, и он был глубоко разочарован. Сопротивляемость его тела дремавшей в нем тифозной инфекции резко понизилась. Вера в будущее и воля к жизни были парализованы, и тело стало жертвой болезни — и таким образом голос в его сне в конце концов оказался прав, его мучения кончились. Это наблюдение и выводы из него согласуются еще с одним фактом, к которому привлек мое внимание наш главврач. Смертность в лагере в течение недели между Рождеством 1944 г. и Новым Годом 1945 г. сильно подскочила по сравнению с обычной. По его мнению, объяснение этого резкого скачка не в ухудшении питания или условий работы, и не в изменении погоды или во вспышке эпидемии. Он произошел просто потому, что большинство заключенных жило наивной надеждой вернуться домой к Рождеству. Когда приблизилось Рождество и не появилось никаких ободряющих известий, мужество их покинуло, и их охватило разочарование.Это оказало опасное влияние на их сопротивляемость, и многие из них умерли. Как мы уже говорили, чтобы восстановить внутренние силы человека в лагере, необходимо было, во-первых, преуспеть в указании ему какой-то цели в будущем. Слова Ницше: «Тот, кто имеет зачем жить, может вынести почти любое как«, могут быть путеводной нитью для всех психотерапевтических и психогигиенических усилий в отношении заключенных. Когда бы ни возникала для этого возможность, надо давать им зачем — цель — для их жизни, чтобы они могли вынести ужасное как их существования. Горе тому, кто больше не видел ни смысла своей жизни, ни цели, ни стремлений, и поэтому ему незачем было переносить ее тяжесть. Он скоро погибал. Типичный ответ, которым такой человек отклонял все ободряющие доводы, был: «Мне уже нечего ждать от жизни.» Что можно на это ответить? Что было действительно необходимо — это коренное изменение нашего отношения к жизни. Мы должны были научиться, и более того, учить отчаявшихся людей, что на самом деле имеет значение не то, что мы ждем от жизни, а то, что жизнь ожидает от нас. Нам нужно было перестать спрашивать о смысле жизни, а вместо этого понять, что жизнь задает вопросы нам, ставит задачи — ежедневно и ежечасно. Наш ответ должен состоять не в разговорах и размышлениях, а в правильных поступках и правильном поведении. В конечном счете жить означает брать на себя ответственность за выбор правильного ответа на проблемы жизни, и выполнять задачи, которые она постоянно дает каждому человеку. Эти задачи, и следовательно, смысл жизни, — разные для разных людей, они меняются от одного момента к другому. Поэтому невозможно определить смысл жизни вообще. На вопросы о смысле жизни никогда нельзя отвечать огульными утвержениями. «Жизнь» не является чем-то абстрактным и неопределенным, это нечто очень реальное и конкретное, и, точно так же, ее задачи реальны и конкретны. Они составляют судьбу человека, которая различна и уникальна у каждого. Ни человека, ни его судьбу нельзя сравнивать с любым другим человеком и любой другой судьбой. Ни одна ситуация не повторяется, и каждая ситуация требует своего ответа. Иногда ситуация, в которой оказывается человек, требует от него изменить свою судьбу действием, поступком. В других случаях для него более благоприятно воспользоваться возможностью выждать — и это может быть лучшей реакцией. Иногда требуется просто принять судьбу как она есть и нести свой крест. Каждая ситуация уникальна, и всегда есть только один верный ответ на нее. Когда человек понимает, что его удел — страдать, он должен принять это страдание как свою задачу, свою единственную и уникальную задачу. Он должен понять, что даже в страдании он уникален и один во всей вселенной. Никто не может освободить его, или облегчить его страдание, или взять его на себя. Единственная его возможность — решить, как он будет нести свое бремя. Для нас, заключенных, эти мысли не были теорией, оторванной от реальности. Они были единственными мыслями, которые могли нам помочь. Они удерживали нас от отчаяния, когда казалось, что нет никаких шансов выйти живыми. Давным-давно мы прошли стадию вопросов, в чем смысл жизни, наивные сомнения, когда понимаешь его как достижение каких-то целей путем активного созидания чего-нибудь значительного. Для нас смысл жизни охватывал более широкий круг жизни и смерти, страдания и умирания. Когда нам открылся смысл страдания, мы перестали мысленно преуменьшать мучения лагерной жизни, пытаясь их игнорировать, или питать ложные иллюзии и поддерживать искусственный оптимизм. Страдание стало для нас вызовом, от которого мы не хотели отворачиваться. Мы стали понимать скрытые в нем возможности для подвига, возможности, которые заставили поэта Рильке воскликнуть: «Wie viel ist aufzuleiden!» (Как много существует страданий, чтобы справиться с ними!) Рильке говорит о том, чтобы «справиться со страданиями», как другие сказали бы «справиться с работой». У нас не было недостатка в страданиях, так что надо было просто повернуться к ним лицом, стараясь свести моменты слабости и скрытых слез к минимуму. Но слез не следовало стыдиться — они свидетельствовали, что человек обладает самым высоким мужеством — мужеством страдать. Не все это понимали. Только некоторые признавались со стыдом, что плакали, как мой товарищ, который на вопрос, как он избавился от своих отеков, признался: «Они изошли слезами из моего организма». Хрупкие ростки психогигиены, насколько они были возможны в лагере, были и индивидуальными, и коллективными. Индивидуальные психотератевтические усилия часто были родом «жизнеспасительной процедуры». Они обычно были связаны с предотвращением самоубийства. В лагере строго запрещались любые попытки спасти человека, который предпринял самоубийство. Например, нельзя было перерезать веревку, на которой он пытается повеситься. Поэтому важно было предотвратить такие происшествия. Я помню два случая едва не состоявшихся самоубийств, которые поразительно похожи друг на друга. Оба человека говорили о том, что собираются покончить с собой. У обоих был один и тот же довод — им нечего больше ожидать от жизни. В обоих случаях надо было их убедить, что это жизнь еще ждет от них чего-то: кто-то в будущем на них надеется. И действительно — для одного из них это был ребенок, которого он обожал, и который дожидался отца в чужой стране. Другого дожидался не человек, а предмет творчества. Он был ученым, автором серии книг, которую надо было еще закончить. Этого не мог сделать никто другой, так же как никто другой не мог бы стать настоящим отцом обожаемого ребенка. Эта уникальность и единственность, которая выделяет каждую личность и придает смысл ее существованию, имеет отношение к творчеству настолько же, насколько и к человеческой любви. Когда выясняется, что невозможно заменить одного человека другим, в полной мере проявляется ответственность человека за свое существование и его продолжение. Человек, осознавший свою ответственность перед другим человеческим существом, которое страстно его ждет, или перед незаконченной работой, уже не сможет бросаться своей жизнью. Он знает, «зачем» ему жить, и будет способен вынести почти любое «как». Естественно, возможности для коллективной психотерапии в лагере были ограничены. Прямой пример бывал эффективнее любых слов. Старший надзиратель блока, который не был на стороне властей, имел массу возможностей, просто своим справедливым и ободряющим обращением с заключенными, оказывать далеко идущее моральное влияние на тех, кто был ему подвластен. Непосредственное влияние поведения всегда более эффективно, чем влияние слов. Но в некоторых случаях слова тоже были эффективны, особенно когда душевная восприимчивость бывала обострена какими-то внешними обстоятельствами. Я помню, как нам представился такой случай для психотерапевтической работы с обитателями всего барака. Это был скверный день. На построении нам было объявлено, что с этого момента целый ряд поступков будут рассматриваться как саботаж, и, следовательно, будут немедленно караться смертью через повешение. Среди них были такие преступления, как отрезание узких полосок от наших старых одеял (мы использовали их как повязку для фиксации голеностопа) и совсем незначительные «кражи». За несколько дней до этого полумертвый от голода заключенный взломал склад и украл несколько килограмм картошки. Кража была обнаружена, и несколько заключенных опознали «грабителя». Когда тюремные власти узнали об этом, они приказали выдать им виновного — или весь лагерь будет весь день голодать. Естественно, 2500 человек предпочли поститься. Вечером этого голодного дня мы лежали в наших бараках-землянках в очень плохом настроении. Разговаривать не хотелось, к тому же каждое слово раздражало. И тут еще, как назло, погас свет. Настроение упало до предела. Но наш старший надзиратель был мудрым человеком. Он сымпровизировал небольшую речь обо всем, о чем мы думали в этот момент.Он говорил о многих из нас, погибших за последние несколько дней либо от болезней, либо покончивших с собой. Но он также упомянул, что, по-видимому, настоящей причиной их смерти была потеря надежды. И он заявил, что должен быть какой-то способ предотвратить хотя бы для остальных опасность дойти до такого крайнего состояния. И он указал на меня, чтобы я дал такой совет. Видит бог, я был не в состоянии читать лекцию по психологии или произносить проповедь, чтобы предоставить моим сотоварищам какую-то душевную помощь. Я замерз и был голоден, раздражен и устал, но сделал над собой усилие и использовал эту уникальную возможность: сейчас более, чем всегда, надо было подбодрить людей. И вот я начал с самых тривиальных утешений. Я сказал, что даже в теперешней Европе, в шестую зиму Второй мировой войны, наше положение было не самым ужасным из всех, что можно придумать.Я сказал, что каждый из нас должен спросить себя, какие невосполнимые потери он перенес до сих пор. Я предположил, что для большинства из нас таких потерь было немного.Тот, кто еще жив, имеет основания для надежды. Здоровье, семья, счастье, профессия, состояние, положение в обществе — все это вещи, которые можно восстановить или снова достигнуть. В конце концов, наши кости все еще целы. Опыт, через который мы прошли, может в будущем оказаться очень ценным для нас. И я процитировал Ницше: «Was mich nicht umbringt, macht mich starker.» (То, что не убило меня, делает меня сильнее.) Потом я заговорил о будущем. Я сказал, что если судить хладнокровно, дожить до такого будущего почти нет надежды. Каждый может сам прикинуть, насколько малы его шансы на выживание. Свои собственные шансы я оцениваю как один к двадцати — и это при том, что в лагере пока нет эпидемии тифа. Однако я не собираюсь отказываться от надежды и сдаваться. Потому что ни один человек не знает, что принесет ему следующий день, и даже — следующий час. Даже если нельзя ожидать никаких сенсационных военных событий в ближайшие несколько дней, кто знает лучше, чем мы, с нашим лагерным опытом, как иногда подворачиваются счастливые возможности, совершенно внезапно, по крайней мере для отдельного человека. Например, вас могут неожиданно включить в особую группу с исключительно хорошими условиями работы — «везение» заключенного могло быть именно такого рода. Но я говорил не только о будущем и о завесе, что его скрывает. Я упомянул и прошлое, все его радости, свет которых сияет даже во мраке настоящего. Я снова процитировал поэта, чтобы я сам не выглядел проповедником: «Was Du erlebst, kann eine Macht der Welt Dir rauben«. (То, что ты пережил, никакая сила не Земле не может у тебя отнять.) Не только пережитое нами, но и все, что мы сделали, все наши значительные мысли и все, что мы перестрадали — все это не потеряно, хотя и находится в прошлом: все это обрело существование благодаря нам. То, что состоялось в прошлом — тоже род существования, и может быть — самый надежный род. Потом я заговорил о многих возможностях придать жизни смысл. Я сказал моим сотоварищам (которые молча лежали в темноте, хотя время от времени слышался вздох), что человеческая жизнь в любых условиях никогда не становится лишенной смысла, и что этот беспредельный смысл жизни включает страдания и умирание, лишения и смерть. Я просил несчастных людей, которые внимательно слушали меня в темноте барака, взглянуть прямо в лицо всей серьезности нашего положения. Нельзя терять надежду; необходимо сохранять мужество и верить, что безнадежность нашей борьбы не умаляет ее достоинства и смысла. Я сказал, что в трудные минуты кто-нибудь смотрит на нас — друг, жена, близкий человек — живой или мертвый, или Бог — и ожидает, что мы не разочаруем его. Он надеется увидеть, что мы страдаем гордо — а не униженно — и что мы знаем, как достойно умереть. И в конце я говорил о нашей жертвенности, которая при любом исходе имеет смысл. В нормальном мире, мире материального успеха, эта жертвенность, вполне естественно, могла показаться бесцельной. Но на самом деле наша жертвенность имеет смысл. Те из нас, кто обладает какой-нибудь религиозной верой, сказал я открыто, поймут это без затруднений. Я рассказал о моем товарище, который, попав в лагерь, постарался заключить договор с Небесами: пусть его страдания и смерть спасут существо, которое он любил, от мучительного конца. Для этого человека страдания и смерть были полны смысла: это была его жертва, полная самого глубокого значения. Он не хотел умереть напрасно. Ни один из нас этого не хочет. Целью моих слов было найти полный смысл нашей жизни, здесь и теперь, в этом бараке и в нашей практически безнадежной ситуации. Я видел, что мои усилия не были напрасны. Когда лампочка снова загорелась, я увидел изможденные фигуры друзей, бредущих ко мне со слезами на глазах, чтобы поблагодарить меня. Но я вынужден признаться, что мне очень редко хватало внутренних сил для такого контакта с товарищами по несчастью, и я упустил много других подобных случаев. Мы подошли к третьей стадии душевных реакций заключенных: их психологии после освобождения. Но до этого рассмотрим вопрос, который часто задают психологу, особенно лично знакомому с такими вещами: что он может сказать о психологическом портрете лагерных охранников? Возможно ли, чтобы люди из плоти и крови могли так обращаться с другими людьми, как об этом рассказывают заключенные? Услышыв их рассказы и поверив им, нельзя было не задать вопрос, как такие вещи могли произойти, с психологической точки зрения. Чтобы ответить на этот вопрос, не вдаваясь в подробности, надо указать на несколько вещей: во-первых, среди охранников были садисты — садисты в чисто клиническом смысле. Во-вторых, именно таких отбирали, когда требовалось набрать особо жестокую команду охранников. Мы очень радовались, когда во время работы нам разрешали несколько минут погреться (после двух часов работы на жестоком морозе) у маленькой печки, которую мы топили хворостом и щепками. Но всегда находились бригадиры, для которых особым удовольствием было отнять у нас это утешение. Какое наслаждение выражали их лица, когда они не просто запрещали нам стоять около печки, но переворачивали ее и втаптывали ее чудное пламя в снег! Если эсэсовцам случалось невзлюбить кого-то, среди них всегда находился один, известный своим искусством и страстью к изощренным пыткам, к которому и посылали несчастного заключенного. В-третьих, чувства большинства охранников притупились за много лет, в продолжение которых, в постоянно растущих дозах, они наблюдали жестокие нравы лагеря. Эти морально и душевно закаменевшие люди по крайней мере отказывались принимать участие в садистских расправах. Но они не мешали другим их осуществлять. В-четвертых, следует сказать, что даже среди охранников были люди, которые нас жалели. Упомяну только коменданта лагеря, где я встретил освобождение. Один лишь лагерный врач (сам заключенный) знал, что этот человек тратил немалые деньги из собственного кармана, чтобы покупать лекарства для заключенных в ближайшем городке; нам об этом стало известно только после освобождения. Тут я не могу не упомянуть необычный инцидент, связанный с отношением некоторых заключенных-евреев к этому коменданту. После того, как американцы освободили наш лагерь, трое молодых венгерских евреев спрятали его в лесу. Потом они отправились к начальнику американцев, который очень хотел поймать бывшего коменданта, и поставили ему условие: они укажут, где он прячется, если американцы обязуются, что с ним ничего не сделают. После некоторых колебаний, это обещание было дано. Американский офицер не только сдержал слово, но и в каком-то смысле вернул коменданта на прежнюю должность: он занялся сбором одежды для уцелевших узников в соседних деревушках. Ведь мы до сих пор донашивали одежду тех товарищей по заключению, которых в Освенциме сразу отправили в газовые камеры. А вот старший лагерный надзиратель, сам заключенный, был безжалостнее, чем любой эсэсовец. Он избивал заключенных по малейшему поводу, в то время как комендант лагеря, насколько я знаю, никогда не поднял на нас руки. Очевидно, что простое знание, что один человек был лагерным охранником, а другой — заключенным, не говорит почти ничего. Человеческую доброту можно было найти в любой группе, даже в такой, которую в целом легко осудить. В этом отношении границы между группами перекрывались, и мы не должны все упрощать, говоря, что вот эти были дьяволами, а те — ангелами. Разумеется, быть добрым к заключенным, несмотря на общую атмосферу лагеря, было большим подвигом для охранника или бригадира; а с другой стороны, низость заключенного, который дурно обращался с товарищами по несчастью, заслуживает исключительного презрения. Совершенно понятно, что последние вызывали особую ненависть заключенных, в то время как их глубоко трогала малейшая доброжелательность со стороны кого-нибудь из охранников. Я помню, как бригадир потихоньку сунул мне ломоть хлеба, оставшийся у него, как я знал, от собственного завтрака. Я был растроган до слез вовсе не только этим кусочком хлеба. Меня тронуло человеческое отношение бригадира — его доброе слово и взгляд сочувствия. Из этого опыта следует, что в мире существуют две человеческие расы, и только эти две — «раса» достойных людей и «раса» недостойных. Они присутствуют повсюду: они находятся во всех группах общества. В этом смысле нет групп, состоящих только из одной расы — так, можно было найти достойного парня и среди лагерных охранников. Жизнь в концлагере распахивает настежь душу человека, демонстрируя ее до самого дна. Разве удивительно,что в ее глубине мы опять находим чисто человеческие качества, которые по своей природе являются смесью добра и зла? Пропасть, отделяющая добро от зла и проходящая через любое человеческое существо, доходит до самой глубины души и становится видимой даже на дне той бездны, которая раскрывается в концлагере. И вот — последняя глава психологии концлагеря — психология заключенного, который уже освобожден. Для описания опыта освобождения, который, естественно, у каждого личный, вернемся к повествованию о том утре, которого мы так страстно ждали и так мало надеялись дождаться — когда после многих дней страшного напряжения над воротами лагеря был поднят белый флаг. Состояние внутренней тревоги сменилось полной расслабленностью. Но мы вовсе не обезумели от радости, как было бы легко полагать. Что же происходило на самом деле? Мы, заключенные, устало прибрели к воротам лагеря. Мы робко оглянулись и вопросительно посмотрели друг на друга. Потом рискнули сделать несколько шагов за пределы лагеря. На этот раз нам не выкрикивали никаких команд, и не было нужды уворачиваться от удара или толчка. О нет! На этот раз охранники предлагали нам сигареты! Сначала мы вообще их едва узнали — они переоделись в штатское. Мы медленно пошли по дороге, ведущей из лагеря. Скоро наши ноги заболели и стали подгибаться. Но мы брели, хромая, дальше: мы хотели в первый раз увидеть окрестности лагеря глазами свободного человека. «Свобода!» твердили мы про себя, и все же не могли поверить. Мы так часто произносили это слово все годы, пока мечтали о ней, что его смысл стерся. Его реальность не могла пробиться в наше сознание; мы не могли представить себе, что это наша свобода. (Это было 27 апреля 1945 г. — Р.М.) Мы пришли на луга, полные цветов. Мы их видели и понимали, что это цветы, но они не вызвали у нас никаких чувств. Первая искра радости вспыхнула, когда мы увидели петуха с пышным многоцветным хвостом. Но это была лишь искра: мы еще не принадлежали к этому миру. Вечером, когда мы все снова сошлись в нашем бараке, каждый тихо спрашивал друга: «Скажи мне, ты радовался сегодня?» И друг смущенно отвечал, не зная, что все чувствовали одно и то же: «По правде говоря, нет!» Мы буквально потеряли способность радоваться, и нам пришлось медленно учиться этому заново. На языке психологии то, что происходило с освободившимися заключенными, можно назвать «деперсонализацией». Все выглядело нереальным, неправдоподобным, как во сне. Мы не могли поверить, что это наяву. Как часто за прошедшие годы мы бывали обмануты снами! Нам снилось, что наступил день освобождения, мы возвращаемся домой, здороваемся с друзьями, обнимаем жен, садимся за стол и начинаем рассказывать обо всем, через что мы прошли — и о том, как часто нам снился этот день. И тут в уши нам вонзался свисток, сигнал побудки, и наши сны о свободе кончались. И вот сон стал явью. Но могли ли мы действительно в это поверить? Тело не так склонно к торможению, как мозг. Оно с первого дня стало пользоваться свободой как следует. Оно начало жадно есть, часы и дни напролет, захватив иногда полночи. Поразительно, как много можно съесть! И когда один из нас был приглашен в гости радушным соседом-фермером, он ел и ел, потом выпил кофе, которое развязало ему язык, и он начал говорить, и говорил часами. Гнет, годами давивший на его разум, наконец свалился. Казалось, что он не в состоянии остановиться, что его желание говорить неодолимо. Я знал людей, которые только короткое время испытывали сильное давление (например, под перекрестным допросом в гестапо) — у них была такая же реакция. Много дней прошло прежде, чем развязался не только язык, но и что-то внутри, и тогда чувства вырвались из сдавливавших их оков. Однажды, через несколько дней после освобождения, я долго шел по полям, мимо цветущих лугов, в торговый городок недалеко от лагеря. Жаворонки поднимались в небо, и я слышал их радостное пение. На километры вокруг никого не было видно, не было ничего, кроме простора земли и неба и ликования жаворонков. Я остановился, взглянул вокруг и вверх в небо — и опустился на колени. В этот момент я плохо сознавал, что со мной; в голове звучала и повторялась только одна фраза, все время одна и та же: «Я взывал к Богу из моей тесной тюрьмы — и Он подарил мне свободу этого пространства!» Как долго я стоял там на коленях и повторял эту фразу — уже не помню. Но я знаю, что в этот день, в этот час началась моя новая жизнь. Шаг за шагом я опять становился человеческим существом. Дорога, которая вела от острого душевного напряжения последних дней в лагере к душевному спокойствию, конечно, вовсе не была гладкой. Неверно считать, что освободившийся заключенный больше не нуждается в душевной помощи. Мы должны помнить, что человек, так долго находившийся под огромным душевным гнетом, несомненно находится в некоторой опасности, особенно потому, что этот гнет был сброшен сразу. Эта опасность (в смысле психологической гигиены) является психологическим двойником кессонной болезни. Так же, как физическое здоровье подводника будет в опасности, если его слишком быстро поднять на поверхность из глубины, где он дышал воздухом под большим давлением, и у человека, который разом был освобожден от душевного гнета, моральное и душевное здоровье могут пострадать. В течение этой психологической фазы можно наблюдать, как люди с более примитивной натурой не могут избавиться от влияния жестокости, которая окружала их в лагерной жизни. Сейчас, будучи свободными, они считают, что могут пользоваться своей свободой жестоко и неограниченно. Единственное, что для них изменилось — что они сейчас не притесненные, а притеснители. Они стали хозяевами, а не жертвами сил произвола и несправедливости. Они оправдывали свое поведение перенесенными жестокостями.Часто это проявлялось в как будто незначительных происшествиях. Как-то мы с приятелем шли по полям к лагерю и внезапно вышли к полю, покрытому зелеными всходами. Я стал обходить их, но он взял меня под руку и потащил прямо через него. Я пробормотал что-то насчет того, что незачем топтать хрупкие всходы. Он пришел в ярость и закричал: «Не смей это говорить! Разве у нас мало отобрали? Мои жена и ребенок отправлены в газовую камеру, не говоря уже обо всем остальном — и ты не позволяешь мне затоптать несколько стеблей овса?!» Только постепенно к этим людям возвращалась банальная истина, что ни у кого нет права творить зло. Для этого нам пришлось приложить усилия, иначе последствия были бы гораздо худшими, чем несколько тысяч затоптанных стеблей овса. У меня до сих пор перед глазами стоит заключенный, который закатал рукава, поднес правую руку к моему носу и закричал: «Пусть эта рука будет отрублена, если я не покрою ее кровью в первый же день, когда вернусь домой!» Я хочу подчеркнуть, что это был вовсе не злой по природе человек. Он всегда был хорошим товарищем — и в лагере и после. Кроме искажения морали, вызданной резким освобождением от душевного гнета, было еще два фундаментальных переживания, которые угрожали испортить характер освободившегося заключенного: горечь и разочарование, когда он возвращался к своей прежней жизни. Горечь причиняло многое, с чем он сталкивался в своем родном городе. Оказалось, что во многих местах его встречают равнодушным пожатием плеч и избитыми фразами; когда он повсюду слышал одно и тоже : «Мы об этом ничего не знали» и «Мы тоже страдали», он спрашивал себя — неужели они не могут мне сказать ничего лучше? Но куда больнее было пережить разочарование. Тут уже не земляки и соседи (настолько равнодушные и бесчувственные, что от отвращения хотелось заползти в нору и никогда больше никого не видеть), а сама судьба оказывалась столь жестокой. Человек, который годами считал, что достиг абсолютного предела возможных страданий, теперь обнаруживал, что у страдания нет пределов, что он способен страдать еще, и куда сильнее. Когда мы старались внушить человеку в лагере душевное мужество, мы старались показать ему в будущем то, ради чего стоит стремиться выжить. Ему надо было напомнить, что жизнь еще ждет его, что какое-то человеческое существо дожидается его возвращения. Оказалось, что многих никто уже не ждал. Горе тому, кто узнавал, что человека, само воспоминание о котором питало его мужество в лагере, больше нет! Горе тому, кто едва дождавшись дня, по которому он так тосковал, обнаруживал, что этот день совсем не так радостен, как он ему снился! Он садился в трамвай, подъезжал к дому, который годами видел в своем воображении, нажимал на кнопку звонка, о чем он страстно мечтал тысячи раз — и только для того, чтоб убедиться, что человека, который должен был открыть ему дверь, тут нет — и никогда больше не будет. Мы говорили друг другу в лагере, что не может быть такого земного счастья, которое компенсировало бы все, что мы перестрадали. Мы не надеялись на счастье — не это питало нашу стойкость и придавало смысл нашим страданиям, нашим жертвам и нашему умиранию. Но все же мы не были готовы к горестям. Это разочарование, выпавшее слишком многим, оказалось очень трудно преодолимым, и для психиатра было тяжелой задачей помочь человеку с этим справиться. Но это не должно его обескураживать, а наоборот — дать добавочный стимул. И вот для каждого из освободившихся заключенных наступает время, когда, вспоминая свою лагерную жизнь, он уже не в состоянии понять, как он все это вынес. Как тогда, в день освобождения, все казалось ему прекрасным сном, так же приходит день, когда все пережитое в лагере кажется ему не более чем ночным кошмаром. И самое главное для вернувшегося — это удивительное чувство, что после всего, что он перестрадал, ему уже нечего больше бояться — кроме своего Бога.
Предание.ру — православный портал
Архимандрит Софроний (Сахаров)
Православие — свидетельство истины
(из писем к Д. Бальфуру)
Содержание
Архимандрит Софроний (Сахаров)
Православие — свидетельство истины
(из писем к Д. Бальфуру)
Предисловие
О единой Церкви
О неизбежности скорбей на пути ко спасению
О вечности
Ответы преподобного Силуана
О познании воли Божией
Монашество как форма любви
Христианство и Церковь
О единстве догмы, аскезы и экклезиологии
О необходимости аскетического подвига
О росте духовного сознания
О православной культуре
О естественном разуме и вере
В конце книги — статья Николая (Сахарова) «Архимандрит Софроний и Давид Бальфур»
Предисловие
Этот материал представляет собой тематическую подборку писем о. Софрония, относящихся ко времени его пребывания на Афоне. Они адресованы англичанину Давиду Бальфуру, принявшему православие, а затем монашеский постриг с именем Димитрий и священный сан (впоследствии снял с себя сан и перешел на дипломатическую службу). Жизнь Д. Бальфура была полна противоречий, о которых до сих пор не умолкают споры в церковных кругах Англии и Греции. В настоящее время готовится полное издание переписки о. Софрония с Д. Бальфуром, которая выйдет отдельной книгой под названием «Подвиг Богопознания. Письма с Афона». Подготовка к публикации иеродиакона Николая (Сахарова)
О единой Церкви
В настоящее время значительная часть христианского мира склоняется к принятию одной из опаснейших ересей, которая состоит в том, что якобы нет в настоящее время ни одной церкви, которая в полноте сохранила истину учения Христова, в полноте обладает ведением тайны святой благодатной жизни христианской в отношении нравственно-аскетическом, что многие из церквей, именуемых Христовыми, имеют равную благодать, и поэтому должно произойти соединение церквей на какой-то общей всем им программе. Один из самых частых вопросов, с которым приходится встречаться, — это вопрос о том, кто спасется и кто не спасется. Обычно эти люди думают, что спасется не только православный (по учению Православной Церкви), или не только католик (по учению Католической Церкви), но и все вообще добродетельные люди, верующие во Христа. Это мнение от протестантов перешло и к верующим других церквей; есть многие среди православных, держащихся этого мнения. Некоторые думают, что ни за одною из существующих ныне церквей нельзя признать полноту ведения и благодати, так как каждая из них в той или иной мере уклонилась от истины; что они (сии мудрецы) только теперь «на конец веков» постигли вполне дух учения Христова, а что до сих пор весь христианский мир в течение стольких веков заблуждался; что теперь пришло время, когда нужно соединить все расколовшиеся части во единую соборную и апостольскую Церковь, которая будет вполне истинствовать во всех отношениях, если при этом соединении будет принято только то, что является общим всем церквам. Некоторые, что еще хуже, помышляют в сердцах своих о каком-то особо высоком мистическом сверхцерковном понимании христианской религии, которое — …не буду обо всем этом говорить. Для того только уклонился в эту беседу, чтобы сказать Вам, что мне так хочется (и Богу молюсь об этом), чтобы Вы не прельстились этим всем, но твердо в сердце и уме убеждены были в том, что существует на земле та одна единая истинная Церковь, которую основал Господь, что Церковь эта хранит неповрежденным учение Христово, что она во всей своей совокупности (а не в отдельных членах своих) обладает полнотою ведения и благодати, и непогрешима. Что то, что некоторым кажется неполнотою в учении, есть не иное что, как еще остающаяся возможность научной разработки неисчерпаемого бесконечного богатства ее, что, однако, нисколько не противоречит сказанному выше об обладании полнотою ведения. Выраженное на Вселенских Соборах в окончательной форме учение Церкви — не может быть подвергнуто никаким изменениям, всякая дальнейшая работа ученая должна обязательно согласоваться с тем, что уже дано в Божественном откровении и учении Церкви Соборной Вселенской. Так же и в отношении благодати; полноту благодати может иметь только одна, единая Церковь, все же другие, имеют благодать за веру во Христа, но не в полноте. Можно верить и в то, что даже в наше время есть люди, которые по благодати Святого Духа равны древним великим святым (говорю это в связи с тем, что мне приходилось слышать о некоторых людях в России), ибо Христос днесь и во веки Тот же. Все это истина. Если кто отойдет от этой веры, тот не устоит…
Афон, 3/16 декабря 1932 г.
О неизбежности скорбей на пути ко спасению
Человеку, находящемуся в столь тяжком испытании, какое выпало на Вашу долю в настоящее время, писать крайне трудно, особенно это трудно мне, при тех отношениях, которые существуют между нами, вернее потому, что все выпадающие на Вас неудачи и скорби падают по моей вине.
И если бы возможна была вера в то, что я хочу Вам сказать теперь, то еще возможно полное исправление, полная победа. Но как можно ожидать от Вас этой веры ко мне теперь, после всего, что случилось уже с Вами?
Я еще удивляюсь Вашему великодушию и мужеству — как Вы еще не соблазнились вконец. Но если все-таки мы будем говорить не как младенцы, но как достигшие хотя бы по плоти мужеского возраста, то я решусь Вам сказать, что думаю, действительно думаю, не ложно, не ради словесного утешения.
Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживет весьма многих и тяжких скорбей.
Благодать приходит только в душу, которая исстрадалась. То трагическое положение, в котором оказались Вы теперь, не неведомо мне. Я сам до сих пор ясно помню ту невыразимо тяжкую брань, которую имел я в миру с врагом, в Париже особенно. Частично расскажу Вам.
Бывали случаи, иду из церкви домой, и так хочется пойти куда-нибудь к знакомым, поговорить, развлечься, что нет сил, кажется, вернуться к себе домой и быть там одному.
Но все-таки крайним напряжением воли прихожу к себе в комнату, и тогда почти падаю на землю в изнеможении от тоски и уныния, готовый землю скрести ногтями. От боли сердечной готов плакать, да и плакал. И только молитва спасала и водворяла мир в сердце. Зато такой мир, которого раньше и не подозревал возможным, какой на сердце мое не приходил дотоле. Бывали многократно такие случаи. Иду откуда-нибудь домой. Хочется зайти в Cafe; но я борюсь с этим желанием. И что же? Вдруг как-то непонятным для меня самого образом чувствую себя как бы потерявшим волю, и положительно как скотину на веревке кто-то невидимый ведет меня в сторону Cafe какого-нибудь. Даже жутко становилось. Только Господь знает, да пережившие подобные же искушения, с какой болезнью, с каким невероятным трудом приходилось побеждать эти бессловесные желания.
Или, помню, с такою же силою влечет куда-нибудь в кинематограф или еще куда-нибудь, в такие места, которые меня, по существу говоря, никогда не удовлетворяли. Но зато, когда приходишь домой, то, если никуда не зашел, молитва бывает, как огонь.
То что Вы пишете, мне так понятно. Все что хочешь буду делать, только бы не молиться. Тогда я понял силу слов Отцов, что нет дела тяжелее молитвы. Но когда преодолеет человек искушение, молитвою же, то последняя бывает так сладка, как ничто иное в мире. И путь этот воистину скорбный, тесный, и немногие, по слову Господа, обретают его.
Моя глубокая вера, — если Вы (это для всякого человека) не переживете тех скорбей, нищеты, унижений, быть может голода, совершенной оставленности всеми — и людьми и даже Богом: «Боже мой, Боже мой, вскую оставил мя еси», — то никогда не познаете любви Божественной. Сердце, не сокрушившееся от ударов скорбей и не смирившееся в конец от нищеты всякой (и духовной, и телесной), не способно принять Божию благодать. Последняя покупается весьма дорогой ценой.
Когда нас борет враг, пользуясь самым естеством нашим, желанием любви человеческой — душевной, а иногда и просто животной — плотской, то будем, подобно Марии Египетской, пав на землю, умолять Бога, чтобы Он нам по милосердию Своему дал познать Свою Божественную любовь взамен той плотской человеческой, от которой мы ради Него отреклись.
Но молясь так, надо молиться только до того момента, когда угаснет всякое желание плотской любви и водворится мир в душе и теле. Большего не надо искать, чтобы не впасть в искушение, в «прелесть».
Если можно, терпите, дорогой. Поругайте меня, виновника Ваших бед, но терпите.
Верите ли Вы, что так сказать Вам дерзаю потому только, что, во-первых, люблю Вас, а во-вторых, и сам я познал подобные Вашим скорби.
Если хотите царствовать со Христом, то побеждайте страсти. Иного пути нет — ведь это только «искушение«. Я никогда не поверю Вам, что Вас может удовлетворить что-либо в мире сем. Театр, кино, Cafe и тому подобное — все это только для детей, неразумных сердцем…
Жизнь по заповедям Христовым — воистину Голгофа. И это такой путь, что вступивший на него, если не будет побеждать молитвою все нарастающие трудности и отступит, вспять возвратится, то и там, куда он возвратился, то есть в мир (то есть жизнь по страстям), не найдет он радости той, какую имеют люди мира сего, — не познавшие Бога.
В прошлую, последнюю Великую войну часто, посылая в атаку солдат, начальство ставило пулеметы сзади наступающих, или офицер шел с двумя револьверами в обеих руках, чтобы всякого малодушного и готового отступить расстрелять. Таким образом получалось для атакующих что спасение и жизнь только впереди, если победишь врага. У нас, монахов, положение подобное этому. Наше спасение во всех смыслах только впереди.
Когда скорби души моей, все возрастая, достигли, кажется, апогея, тогда я, не путем отвлеченных философских рассуждений, но живым и глубоким чувством сердца познал цену человеческой души, то есть что она дороже всего мира.
Страдания столь великий плод приносят, что, если бы мы были поразумнее, то не желали бы «сойти со Креста». Одному иеромонаху нашему явился во сне Господь распятый на Кресте и сказал: «С Креста не сходят, а снимают». И эти слова Господь повторил трижды. И затем видение кончилось.
Я бы рассказал Вам еще нечто, но боюсь предварить Ваш опыт жизненный. Об одном молюсь, чтобы Вы не убоялись нашедшей тучи.
Жалею, что Вы редко пишете старцу своему. Посмотрите в конце 32-го Слова у Симеона Нового Богослова, как он советует своему ученику писать чаще, так как при этом он (преподобный Симеон) будет молиться за него теплее. И это верно, потому что при долгом молчании то, что окружает, ослабляет молитву за того, кто дальше. Кругом, куда ни посмотришь, скорби. И то, что на глазах, то сильнейшее сочувствие к себе вызывает. Только когда в мире и относительном благополучии будете, тогда писать можно реже, а когда у Вас скорби и брань тяжкая, то не надо медлить, пишите отцу Силуану, и верую Богу, Вы получите помощь. Положение Ваше особенно трудно потому, что Вы пребываете в единоборстве с врагом.
И это прежде, чем научились бороться со страстями. Но и научившиеся (относительно, конечно), побеждают их подвигом и трудом. Иоанн Златоуст блудную страсть называет нашим мучителем беспощадным, который почти до глубокой старости на всякий день терзает нас. Надо полюбить болезненное состояние тела, чтобы найти относительный покой от этой лютой страсти.
Жестоко слово сие, но что поделаешь. Лучше, по слову преподобного Исаака Сирина, нам умереть в подвиге, чем, поддавшись страстям, потерять образ человеческий, изменить Христу.
Христианин обязательно должен быть подвижником. Тем более монах, иерей. Возненавидь себя, начни себя мучить не только воздержанием от страстей, но и противлением им, то есть наступлением на них, и сразу почувствуешь облегчение. Как бы свет некий в душе появится. Василий Великий, Иоанн Лествичник говорят, что приятнее произвольное страдание, чем невольная бессловесная радость.
В зависимости от того, как человек живет, складываются и внешние обстоятельства его жизни. Иногда по причине наших внутренних ошибок или, наоборот, исправлений, изменяются к худшему или лучшему и внешние условия жизни…
Слава Богу за все.
Будем терпеть.
Таков наш путь.
Преткнулся — встань.
Пал — подымись.
А отчаиваться никогда не нужно.
Афон, 28 июня (10 августа) 1934 г.
О вечности
Шлем Вам свой Пасхальный привет и наилучшие пожелания. И старец отец Силуан, и я всегда помним и любим Вас.
Как монах я располагаю возможностью выражать свою любовь прежде всего молитвою. Быть может, это наиболее существенная форма выражения любви, потому что она и нас, и все наши отношения переносит в иной мир; молитвою препобеждается разделение не только местное, но и душевное. Однако и привет в письменной форме имеет свою силу и тоже в известной мере заменяет живое общение.
Я давно Вам не писал. Теперь по случаю Пасхи Христовой хочу поделиться с Вами, как с близким родным, надеждою на то, что и мы в назначенный Отцем Небесным час воскреснем для вечной жизни. В этом году с самого начала января я сильно болел. Смерть много ночей в упор смотрела мне в глаза. Как смущается душа и как скорбит она в эти часы, описать, кажется, невозможно.
Тягостнейшие искушения ураганом находят на душу во время этого жуткого состояния на грани жизни и смерти, когда приближается решение вечной участи, страх овладевает душою. Только мысль о распятом Спасителе укрепляет ее.
В какие-то минуты изменяется сердце, приходит любовь, и тогда душа готова оставить этот мир без малейшего сожаления. Сожаления, впрочем, нет и до прихода любви, но тогда страх от предстоящего Божиего Суда, страх от чаемого осуждения и отвержения заставляет как бы держаться еще за эту жизнь, в надежде, что еще что-то сделаешь для своего спасения. За последние 20 лет моей жизни я много раз бывал близок к смерти, но столь тяжелые искушения, какие выпали на меня в этом году, бывали редки и не столь продолжительны. В этом году снова с большою силою я переживал, что наша земная жизнь есть исполненное тяжелой борьбы стояние на грани бытия и небытия, стояние между раем любви Божией и адом оставленности Богом.
Однако, как бы ни были тяжелы наши страдания здесь, в глубине души таится сознание их глубокого смысла. Я люблю размышлять о смысле страданий, люблю размышлять о вечности. Мне думается, что наша земная, временная жизнь для нас неизбежно должна быть страданием. Время — образ изменчивого бытия. Во всяком изменении есть элемент страдания.
Мы люди, принадлежа одновременно, вернее, параллельно двум мирам — горнему и дольнему, во все течение земной жизни как бы раздираемся. Стремимся к вечной жизни, имея пред собой образ Божественного бытия, неизменного в своем совершенстве, и вместе погружаемся в заботы о земном, не в силах будучи презреть потребностей и этой жизни. «Чаю воскресения мертвых». Только она, эта чаемая вечная жизнь, — есть подлинная жизнь.
Вечность приходится представлять себе не как продолжение времени в бесконечность, но как единый непротяженный акт полноты бытия. Вечность объемлет всю протяженность времени — сама же протяжения не имеет.
Мы чаем приобщения вечной жизни. Но, по смыслу вещей, становясь вечным, человек становится не только бессмертным, но и безначальным. Святитель Григорий Палама так мыслил, ссылаясь на Святых Отцов.
Отсюда ясно, что вечность есть иной образ бытия, причем такой, к которому выработанные нами в пределах эмпирической действительности понятия протяженности и последовательности, понятия начала, конца, до, после — не могут иметь приложения.
Вечная жизнь — это духовная жизнь.
Вечность — это мир чистой мысли и нравственности в их нераздельном единстве. Но чистую мысль и нравственность должно понимать не только в смысле психологическом, как субъективное переживание человека, но и в смысле онтологическом, как объективно сущее, — то есть Ум и Любовь Божества, то есть Христовы Любовь в Премудрости, и Премудрость в Любви. И если это соответствует истине, то подлинно вечен Един Бог, а мы лишь постольку, поскольку пребываем в Боге и Бог в нас пребывает. Когда же «Бог будет всяческая во всех», тогда и мы явимся обладателями вечности и уже не отчасти, а в полноте. К этому «краю желаний» стремится душа. Тогда только возможна будет ничем не омраченная радость.
А теперь, празднуя не горнюю, а только еще дольнюю Пасху, только образ той вечной, мы все-таки не достигаем совершенного покоя радости.
Однако и эта Пасха действует на душу удивительным образом.
Знаю одного человека, в Париже, который с Великой субботы до 3-го дня Пасхи, в течение 3-х дней был в состоянии видения, которое в образах нашего земного бытия он находил возможным выразить только словами, что он видел утро невечернего дня.
Утро — потому что свет был необычайно нежный, тонкий, «тихий«, как бы голубой. Невечерний же день — вечность. Помню еще, как три года тому назад, при первой нашей встрече, почувствовав дыхание вечности, мы с Вами затаили на время дыхание.
Афон, 5 (18) апреля 1935 г.
Ответы преподобного Силуана
Я очень рад, что в Афинах есть столь положительное явление, как ΑδελφοτησΖωη[1]. Хорошие отзывы от этом братстве можно слышать от многих. Но для мирского человека даже элементарная христианская нравственность, как отказ от спиртных напитков, от табака, от посещения мест общественного развлечения, воздержание в пище, честность, скромность и целомудрие, и тем более целибат, представляются уже пределом совершенства и отречения от мира и от себя, и даже как περβολη. Зная это, я не придаю большого значения их отзывам, радуясь только тому, что их удивление и благоговение к подвижникам полезно прежде всего для них.
Вас я знаю как человека, не склонного увлекаться, скорее рассудочного и даже иногда слишком критически настроенного. Принимая это во внимание, а к тому же и Вашу опытность в духовной жизни, Ваш восторженный отзыв о братстве Ζωη я воспринимаю с особою серьезностью. Мне стыдно за Афон и прежде всего за самого себя. Я на Афоне не встретил того совершенства, которое Вы нашли там. Живя в лучших, чем они, условиях, мы не достигаем их высоты. Уже давно до глубины души я осознал, что мы «отреби миру и всем попрание» — Περικαθαρματα του κοσμου παντων περιψιμα…
Отречение от мира не есть единожды совершаемый акт; отречение от мира — непрерывный подвиг всей жизни. Безмолвие — показатель степени отречения, отрешенности от мира. Чистота ума соответствует степени отречения от мира. А если мир понимать как «совокупность страстей» (Исаак Сирин), то совершенное отречение будет совершенным бесстрастием. В этом смысле мы совсем еще не отреклись от мира; мы только телом удалились из мира.
Вы хвалите Ζωη за отказ «от всякого компромисса и оппортунизма», которые являются едва ли не главным принципом всей нашей деятельности и поведения. Вы отмечаете у них «совершенное послушание», а у нас даже и человеческой дисциплины нет. (Сущность христианского послушания я вижу в молитвенном искании воли Божией и следовании ей. Под дисциплиною я разумею или добровольное (например, политическая партия) или вынужденное (например, армия) подчинение человека человеку, что является необходимым условием успеха всякого общественного человеческого предприятия.)
Можно только порадоваться тому, что Вы наконец нашли это и в Православной Церкви. Читая и перечитывая Ваш отзыв («требуют такой хрустальной чистоты и подчиненности… все молчаливые, чинные, сдержанные… Дело не построено на быту… а на сознательности» и так далее), — я вижу, что у нас все наоборот. Мы самые настоящие варвары. Мне понятно, что Вы теперь отдыхаете душей в их среде после нашего варварства.
Мне нравится и избранная ими форма служения Церкви: апостольство. У нас, конечно, другой путь, иной план борьбы за себя и за мир. Принципиально я вовсе не склонен унижать и наш путь. Жалею лишь, что не достигаем мы своей цели: их образ жизни, их путь — Вам ближе.
Наши пути не совпадают (пути, а не конечная цель). Истина едина, единообразна, проста. Однако имеет бесчисленное множество различных проекций. Причина различия проекции Единой простой Истины — различие воспринимающих поверхностей. Они Вам ближе. Этим отчасти я объясняю то, что Вам среди них «легче дышать«, что они Вам более «по душе«. Но разве хотя бы даже я с самого начала не говорил Вам, что это Ваш путь?
Вы пишете: «прошу, не вступите в спор со мной».
Вы так недавно были свидетелем моего ничтожества, что я теперь потерял силу, смелость или дерзновение говорить с Вами о духовной жизни.
Более, чем кто либо, я хожу «πλαγιωδ» — окольными путями. Смею ли я открыть рот? Не скрою, на сей раз мне трудно Вам писать.
В Воскресенье 6/19 апреля я снова ходил к отцу Силуану, говорил о Вас. Я хотел несколько подробнее познакомить его с тем, что Вы писали. Сокращенно приведу Вам нашу беседу.
Я: «Отец Димитрий смущен противоречиями в Ваших советах и благословениях. То Вы благословили ему возвратиться во Францию, то годами жить в Иерусалиме».
Отец Силуан: «Первый раз, когда он меня спросил, — я молился Богу; — вышло ему возвратиться во Францию. Сказал ему. Он, вижу, не хочет. Хочет в Греции; я молился, — сердце не слагается. Он захотел в Иерусалим. Пусть едет. Ведь он, как дитя. Я, как нянька, удерживал его от беды, чтобы он голову не сломил. Но пусть он живет в Греции. Это даже интересно для опыта».
Я: «А что если этот опыт будет «горький» ?»
Отец Силуан: «Что поделаешь».
Я: «Отец Димитрий считает лучшим, если он будет решать такие вопросы сам».
Отец Силуан: «Пусть, пусть. Мы его свободы не отнимаем. Это еще хорошо, что он написал письмо. Он только свободы ищет; но это не в первый раз мне наблюдать. Некоторые спрашивают совета; им скажешь; они не хотят послушаться, им тяжело это; так они начинают даже враждовать. Вот отец Х. сколько лет не перестает против меня идти, а раньше ходил. Сколько таких случаев».
Я: «Союз ученика со старцем — добровольный и в этом смысле свободный. Если отец Димитрий находит неудобным для него следовать некоторым Вашим советам, хочет решать такие вопросы сам, то тем самым делает свободным и Вас. Связь порывается».
Отец Силуан: «Он сам меня назначил своим старцем. Мне уже нельзя было отказаться. При постриге Владыка передал его мне заочно… А теперь я считаю, что нужно еще потерпеть. Само дело покажет».
Я: «Отец Димитрий говорит, что неправильно спрашивать у старца указаний на такие подробности (детали), как например, где жить, куда ехать. Нельзя же пользоваться старцем как оракулом».
Отец Силуан: «Что же он, наши молитвы сравнивает с оракулом? Дешево же он нас оценил.
Пусть он живет по-своему, как хочет. Опыт его научит. Он потерял веру, а без веры пользы не будет. Получится как в песне про Луку («К тебе за советом приехал я, кум», и так далее)».
Я: «Отец Димитрий просит меня «не вступать с ним в спор» «.
Отец Силуан: «Какая нужда нам спорить. Напишите ему, что мы не будем его разубеждать. Когда я увидел, что он не хочет послушаться совета, то в конце я ему сказал, что пусть живет, где хочет, лишь бы хранил себя, жил по-монашески. Время, говорю, трудное. Я видел, что если с ним поступить строго, то он возмутится».
Вспомнили мы:
«Учителю, что сотворю?» Господь: «Заповеди веси». Юноша: «Это я от юности все знаю. Скажи мне большее». Господь, возлюбив его, рече: «Продай имение… и следуй за Мною». Он же, «дряхл быв, отъиде скорбя».
Из Патерика. К Пимену Великому пришел брат просить благословение устраивать вечери любви для братий-монахов. Преподобный благословил. Старший брат преподобного Пимена — Авва Анувий, узнав, сделал замечание Пимену за немонашеский совет. В другой раз пришел тот же брат к преподобному Пимену. Святой, уже в присутствии Аввы Анувия, спрашивает: «Ты зачем приходил в прошлый раз?» Ответ: «За тем-то». Преподобный Пимен: «А я что тебе сказал?» Ответ: «Ты благословил». Преподобный Пимен: «Это я по ошибке. Невнимательно выслушал. Немонашеское дело устраивать вечери любви. Оставь это». Брат, со скорбию: «Я другого ничего делать не могу», — и ушел. Тогда Авва Анувий: «Прости». Преподобный Пимен: «Я видел, что он не послушается, если ему запретить, потому и благословил, чтобы он делал это с мирною душою«.
К Антонию Великому пришли братья, спрашивают: «Как спасемся?». Великий Антоний: «Делайте то-то». Ответ: «Не можем». Преподобный Антоний: «Делайте тогда то-то». Опять ответ: «Не можем». В третий раз святой: «Ну тогда делайте то-то». Ответ: «И этого не можем». Преподобный Антоний к своему послушнику: «Свари им кашицу и отпусти с миром». И Священное Писание говорит, что и пророки дают советы «по сердцу» вопрошающего.
Я не хочу Вас опечаливать. Но Вы сами подняли вопрос о противоречиях в советах старца отца Силуана. Если бы Вы действовали с верою по первому совету, то не имели бы места противоречия<…>
Сказал я отцу Силуану и еще одну вещь. Говорю: «Мне очень трудно писать или говорить отцу Димитрию, когда я вижу, что он нас понимает по-своему. Он думает, что наши советы объясняются тем, что мы заинтересованы удержать его в Русской Церкви. Некоторые действия наши он понимает не как желание ему помочь, а, скорее, наоборот».
Отец Силуан: «У меня никогда и в мыслях этого не было. Для меня все равно, что греки, что французы, что русские, что евреи. Я всем желаю только спасения. Заступаться за Русскую Церковь я тоже никогда не думал. Он спросил меня, что делать, куда ехать? Я по молитве сказал ему. А по-человечески я не знаю, где какие условия».
Афон, 7 (20) апреля 1936 г.
О познании воли Божией
Затем мы[2] вообще говорили о том, как познается воля Божия и каких видов она бывает. Можно сказать, в мире все без исключения совершается по воле Божией, и не будет ошибки.
Однако благочестивые люди никогда не переставали искать волю Божию. Здесь имеется в виду, конечно, воля Божия «благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Способный совершеннее познавать сию последнюю — поставляется выше. На этом принципе построена Священная Иерархия (Дионисий Ареопагит).
Старец Силуан (и тем более я) не претендуем на обладание сим великим даром, и потому не можем не отступить, когда высший нас свидетельствует иначе, чем мы. Противиться воле Божией мы не дерзаем. Дерзание становиться тем более трудным, чем в большей мере человек сознает свою ответственность пред Богом за данный совет или указание. А мы все-таки боимся Бога. Теперь нам лучше. Мы покойны и рады за Вас, потому что и мы для Вас не искали ничего, кроме воли Божией. Нам лучше еще и потому, что теперь ответственность в случае ошибки в большей мере ложится на того, кому Вы последовали.
Итак, по Вашим письмам видно, что общими усилиями найдена воля Божия. Да будет с Вами Господь. Трудность искать волю Божию состоит в том, что нет внешних признаков, по которым с определенностью можно было бы решить этот вопрос. Ни благоприятно складывающиеся обстоятельства, ни, наоборот, скорби и трудности не являются окончательным критерием.
Есть еще одно обстоятельство, помимо приведенных Вами в письме, лишающее возможности быть настойчивым и требовать послушания. Воля Божия нередко ведет на Голгофу. Кто это сознает, кто сам ходил этим путем, тот вряд ли решится быть настойчивым и повелительным.
Афон, 17-18 (30-31) мая 1936.
Монашество как форма любви
Теперь Вы для меня служите опорою вследствие более полного взаимного понимания; и то, о чем я раньше не решался говорить, дабы не соблазнить или не напугать, теперь стало в центре Вашего внимания. Все-таки нас так мало (малое стадо), что каждый отдельный человек, готовый пойти по этому скорбному и тесному пути, является большою нравственною поддержкою для изнемогающих и малодушных подобно мне…
Я действительно изнемог. Я, несмотря на то, что не имел «иллюзий… о легкости духовных достижений», все же встретил трудности, превосходящие все мои предположения, и убедился в своем ничтожестве, размеры которого от меня раньше были сокрыты.
Я сознаю величие монашеского пути, а осознание своей ничтожности, обнаружившейся довольно скоро на этом пути, породило во мне сомнение в правильности избрания мною его. Могу сказать, что я своего призвания не нашел, не понял, не услышал. Однако я сознаю совершенную невозможность для меня идти иным путем, найти иную форму служения Богу и ближнему. Ты влек меня, Господи, — и я увлечен, Ты сильнее меня — и превозмог (Иер. 20:7).
Таким отрицательным образом решается вопрос о мне. Я не хотел, потому что сознавал трудность, и вместе увлекался. Я упорно противился Богу, но Он нашел способ принудить меня. И теперь мне непосильно тяжело; я положительно раздавлен. Причина болезни внутри, поэтому невозможно облегчить мое состояние изменением моего внешнего положения и условий. Так снова отрицательным образом решается вопрос и о месте моего пребывания.
Вчера (5/18 сентября) уехал от нас игумен отец Иоанн (Шаховской). Жалею, что он не остался у нас на больший срок, не дал нам насладиться его обществом. Это человек какой-то особой чистоты, как ангел; благодать Божия очевидно почивает на нем. Он как-то по-детски открыто любит Бога и потому беседа с ним доставляет глубокое наслаждение, исцеляющее действует на душу.
Я готов писать о нем много; я хотел бы почаще иметь общение с ним, хотя бы только видеть его. И при всем том, как ни парадоксальным покажется Вам это, он убедил меня в превосходстве «черного иночества» своим сдержанным отношением к нему.
Он находит возможным заменить существовавшие до сих пор монастыри трудовыми братскими артелями, видимо, отдавая преимущество трудовой, но, конечно, соединенной с молитвой и целомудрием жизни среди мира, служению ближним и проч… Все, что он говорил, само по себе, конечно, хорошо и похвально, но для меня было неожиданностью встретить в нем непонимание и недооценку идеалов черного иночества. С печалью думал я, что если и такие избранники, как отец Иоанн, не вполне понимают смысл черного монашества, то что же ждать от других.
Я думал, неужели Господь отымет от человечества эту, по выражению преподобного Феодора Студита, третью благодать (первая — крещение, вторая — покаяние, третья — монашество)? Неужели действительно пришел срок, когда величайшая, поистине неземная культура будет отвергнута человечеством? Посещение отца Иоанна еще и в том отношении было для меня полезно, что теперь мне особенно дорого стало монашество (монашество, а не целибат, возможный и среди мира).
Я не монах, а мечтатель о монашестве. Монашество я понимаю как особую форму любви. Любовь возможна различных видов. Иногда она радует и делает жизнь среди людей приятной и плодотворной. Но возможна и такая форма любви, которая мучит и тяготит и делает жизнь нестерпимо тяжелой, доколе она не достигнет своего последнего желания, и пути к достижению которого избирает она необычные.
Жизнь, надо полагать, всякого человека настолько сложна, что даже при самом сосредоточенном внимании человек не в состоянии понять совершающихся в нем процессов, а быть может, что и самая эта сосредоточенность на себе приводит к еще большему недоумению, к более глубокому чувству тайны жизни.
Наблюдения и опыт показывают, что страдания являются почвой, на которой только и может произрасти большая любовь. Впрочем это сопряжено с опасностями и возможностью извращений.
Различны призвания, различны и пути. Вот одна из возможностей.
Неудовлетворенность данной действительностью и искание иной жизни, подлинной, вечной. Посещение благодати, которая с великой силой восхищает человека в иной мир, божественный, в неизреченном свете показывает ему, дает приобщиться вечности. Затем уже с измененным сознанием, как познавший закон вечной божественной жизни — а именно любви к Богу и ближнему — человек оставляется на подвиг в этом мире.
Все силы сосредоточиваются на сообразовании внутренней жизни сердца с познанным законом, и тут начинается Крестный путь. Свет виденный отошел, уязвив сердце и оставшись в уме лишь в форме отвлеченного познания о законах вечной жизни. Просвещенный таким образом ум начинает созерцать великую трагедию падения человека и созерцается нами эта трагедия в нашем же сердце. Оказывается, что оно полно совершенно противных чувств и расположений. Нет такого зла в мире, которого не находилось бы в нашем сердце, и это иногда в страшных размерах. Видеть это в себе, конечно, не доставляет радости. Сознавать себя заживо во аде — о, как скорбно. По мере роста сознания болезни растет и жажда спастись.
Сознание же, что судьба братий моих подобна моей, рождает в сердце сострадание к ним и понуждает молиться не о себе только, но о всех. Господи… помилуй нас, то есть всех нас людей, без исключения.
И скажу Вам странную вещь, которая, быть может, покажется Вам извращением. Забота «о всех» делает неудобным служение отдельным лицам и заставляет как бы удаляться от них. Получается какое-то увлечение чем-то абстрактным. Впрочем, думаю, «все» не есть абстракция. Преобладающим, однако, количественно содержанием жизни души является недоумение и ожидание. Положительно ничего не понимаешь, ничего не можешь. Кругом мрак. Нет того света, который был в начале, и только мучительное ожидание, когда же этот мрак преложится и станет светом. Господи, когда же… доколе?
Другое побуждение к монашеству — желание постоянной молитвы. Любовь к молитве привела большинство в монастырь. Под величайшей же культурой я разумел умное делание. Сущность умного делания: Господь сказал, что в сердце рождаются, из сердца исходят помышления… Желание соблюдать заповеди Господни заставляет все внимание сосредоточить на сердце. Ум безвидный безмолвно внимает сердцу… Вся тайна в этих немногих словах.
Можно по этому поводу много философствовать о том, что Бог созерцается чистым умом, что доколе не совлечется человек умом всего тварного, не может зреть Бога, и прочее многое. Характерным для нашего православного «мистицизма» является сосредоточение всех сил на соблюдении нравственных евангельских заповедей, и именно чрез погружение в мир нравственный-духовный достигается совлечение мира естественного. Подобное совлечение доходит до полной потери чувства не только окружающей нас вещественности, но и самого тела нашего, как сказано: не знаю, в теле или вне тела. Причем это происходит так тихо, нежно (не знаю, как и выразить), что человек совершенно и не замечает, как это происходит, а лишь после молитвы «открывает» «догадывается» что произошло с ним.
Всякий иной путь, например, механического отвлечения ума от вещества (то есть от представления чего-либо вещественного), от помышлений, погружение во мрак безмыслия, без того направляющего начала, о котором я сказал выше, считаю несвойственным православной аскетике.
Кажется, слишком много я написал. Вы все это знаете, но как бы споря (однако с любовью) с отцом Иоанном, я изложил свои мысли о черном иночестве. (Вы знаете, надеюсь, что отец Иоанн Шаховской уже давно написал книгу о «белом иночестве», то есть в миру)…
Вы знаете нашу обстановку. Я боюсь советовать Владимиру приехать на Афон хотя бы и временно. Кто ни приедет — разочаровываются. Один соблазн, ни следа подлинного монашества, даже человеческого благообразия. К тому же нет возможности оградить посетителей от нелюбезностей всякого рода со стороны «администрации» нашей. Отец Иоанн Шаховской уехал так скоро отчасти, думаю, потому, что ему, постриженцу нашего монастыря, отказали в церковном общении.
Отец Силуан правду говорит, что мы не по-монашески живем, потому и не должно удивляться, что люди избегают общения с нами, как дела бесполезного…
Афон 10 (23) сентября 1936 г.
Христианство и Церковь
Итак, ты думаешь, что я тебя не пойму. Первое, что, как мне кажется, я должен понять — это твое желание освободиться от тех уз, которые на тебя налагало иерейство и монашество. И это так легко понять. Сколько раз я сам переживал и переживаю еще тесноту и тяжесть этих оков. Достаточно самого поверхностного ознакомления с канонами Церкви и законами государства о монашестве и священстве, чтобы понять, как мы стеснены до последней степени, до форм гонения. Отречение от мира — мир отомщает нам отвержением и изгнанием и ненавистью. Особенно монашеству. Монашество гонится даже церковными властями. Хочется спросить, на каком основании, по какой причине все это предпринято против нас? Разве нам даны какие-либо особые права и преимущества, чтобы связать нас соответствующими обязанностями? И мне известны случаи, когда иереи и монахи, возмущенные бессмысленными садистическими издевательствами владык и иных церковных властей, отказывались от священства и рясы, но не от Христа. Отказывались, чтобы жить свободно во Христе, стоять в той свободе, в которую, как говорит апостол Павел, нас искупил Христос. И если это ощущают греки и русские, то тем более ты — англичанин — должен переживать это более остро и болезненно.
И если сказать о себе, почему я до сих пор терплю все это, или что дает мне силу терпеть, или каким способом я борюсь, подобно тебе, за свою внутреннюю духовную свободу, то исповедую тебе и это. По моему глубокому убеждению (не только вере), христианство не может быть бесцерковным — будем ли мы рассматривать Церковь как мистическое тело Христа или как историческое явление — общество христиан. Состояние членом последнего — то есть общества христиан, неизбежно налагает известные обязанности внутренние и внешние. Неизбежно — считаться с состояниями и требованиями сочленов. Мой метод в борьбе за свободу — предельное возможное для меня удаление и самоограничение. То есть я вяжу самого себя так крепко, чтобы мне не ощущать налагаемых на меня церковью и обществом оков. И это считаю нужным делать, чтобы мне не потерять того, что положительного дает мне Церковь, сохраняя при том возможную свободу. Что же дает мне Церковь? Таинства: крещение, покаяние, причащение, священство и прочее. Чрез Церковь я, в доступной мне мере, становлюсь наследником величайшей в истории человечества культуры. Чрез Церковь и в Церкви я чувствую постоянно самую живую связь со святым Иоанном Богословом и апостолом Павлом и апостолами, со святым Афанасием, Василием и другими Отцами, с преподобными Антонием и Сисоем, с преподобными Макарием и Исааком, с преподобными Максимом и Симеоном Новым Богословом, со святым Григорием Паламою, преподобным Серафимом Саровским. Они — мои, родные. Но я воспринял их в церковном ряду. Вне Церкви — связь с ними ослабляется. Пусть в меньшей мере, но я живу единою с ними жизнию. Чрез Церковь в моем сознании я ношу образ Христа распятого по безмерной любви за наши грехи. Образ, который постоянно кротко, но сильно влечет к себе душу! И вот все это дает мне силу терпеть многое уродливое и извращенное, что мы постоянно встречаем в церковной среде. Я говорил об удалении своем от церковного общества. Но нередко мы видим в истории Церкви возвращающихся в эту невежественную духовно среду, чтобы по примеру Христа — положить душу свою за братию свою. И это опять-таки в Церкви. Много отрицательного, уродливого, связующего, но все же еще более положительного. Мне кажется, что выход из Церкви ради свободы в конечном итоге приведет к ущербу. Лично я могу констатировать, что в своем последнем стремлении стяжать любовь Христову — душа остается свободною при всех оковах, налагаемых на монаха Церковью и обществом — миром.
Ты говоришь: «Внутренней борьбой я приобрел какую-то духовную свободу». Дерзаю сказать — не думаю, чтобы твоя свобода была большею, чем та, которую я имею на пустыне. Но когда я вращаюсь в среде других монахов, я действительно приноравливаюсь к строю их жизни<…> Но я глубоко переживаю самую тесную, неразрывную связь нашей аскетической жизни с догматическими основными положениями. Так например, когда я знакомлюсь с католической доктриной Иоанна de la Croix, я вижу его связь с августиновским учением о последствиях грехопадения. Когда я знакомлюсь с Шлейермахером, я не могу не обратить внимания на то, что его бездогматическое христианство, бездогматическая вера — привела его к тому, что он пантеистическое мироощущение Спинозы охарактеризовал как классическое выражение религиозной жизни (разумеется, подлинной, истинной). Вообще опыт и изучение ясно показывает самую тесную связь внутренней духовной жизни с догматическими воззрениями (теориями).
Я лично считаю необходимым быть очень осторожным. Я верую во Христа. Я верю Христу. Я связан любовью Христа. Я доверяю Христу, Которого познал в Церкви. Когда-то искание «подлинного бытия» привело меня на Афон. Теперь я всеми силами души желаю уподобиться хоть в наималейшей мере Христу, потому что в Нем для меня заключена подлинная, вечная, божественная жизнь; искать же я перестал.
8/21 августа 1945 г.
О единстве догмы, аскезы и экклезиологии
Ты отодвинул от себя «чувство трагического характера человеческой духовной жизни». И я по временам делаю то же самое. Я закрываю глаза, закрываю свои чувства, чтобы не видеть бытия человеческого, которое для меня в пределах этого мира представляется действительно трагическим. Делаю так, когда изнемогает душа моя, когда нестерпимо заболевает сердце мое. Но когда после некоторого отдыха я снова открываю их, то снова, иногда с еще большей остротой и напряженностью, я вижу все ту же глубокую трагедию. Думаю, что и ты лишь на время сможешь отойти от этого страшного, томящего видения, а потом снова невольно вернешься к нему, потому что это не просто идея, создание больной фантазии, а сама суровая действительность. При этом самым трагическим мне представляется не то, что люди вообще много страдают, а то, что умирают, не познав Бога.
[Ты пишешь:] «Старание во всем заключить себя в исключительных конфессиональных рамках ослабляет у меня всякую религиозную веру, делает непонятным и недействительным в моем сознании отношение Божией любви и Божьего промысла к человечеству как целому». И для меня между благовестием: Бог есть любовь (1 Ин. 4:8), с одной стороны, и созерцаемыми в пределах этого мира судьбами человечества, с другой, заключено великое противоречие. Но я не думаю, чтобы удаление от Церкви могло посодействовать его разрешению. Подобно тебе и я пребываю в постоянной борьбе за внутреннюю свободу, в постоянном искании разрешения многих противоречий и недоумений. Эта борьба у меня по временам принимает характер «борьбы» с самим Богом (при всем сознании моего последнего ничтожества). Иногда я молюсь с кротким плачем, а часто, как безумный, спорю, настаиваю, требую, ругаюсь, почти богохульствую… Но при всем том<…> я люблю Бога до последней глубины моего существа и Ему отдаю последний суд, потому что Он располагает бесконечными возможностями за пределами этого мира. Любовь к миру, к человеку меня толкает на «войну» с Богом. Этому духу борьбы с Богом я предоставляю действовать в душе свободно и наблюдаю, как он, достигнув некоторой непоколебимой стены, падает разбившись, и тогда убеждаюсь, что еще глубже люблю я Бога<…> В конечном итоге, каковы бы ни были судьбы всего человечества, всего мира, всей твари, Бога я люблю единственной подлинной вечной любовью.
Тысячи раз в душе моей происходила сильная борьба, но всегда побеждала любовь Христова, так что и я, до некоторой степени, могу повторять слова апостола Павла: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39).
Недавно я писал тебе, что я перестал искать Бога. Единственно, что я ищу, — это как-то хотя бы в малейшей мере внутренно уподобиться и усвоиться Христу. Я хочу познать хоть отчасти, хоть в самой малой мере переживать так, как Он, Господь, переживал единство любви к Богу и человеку. Для нас, в пределах этой жизни, эти две заповеди в полноте несогласуемы. Любя Бога, служа Ему, я отхожу от ближнего, забываю его. Любя ближнего, служа ему, я или забываю Бога, или удаляюсь от Него или даже враждую. И потому неудержимо влечет к Себе образ несравненного Христа, сочетавшего и ту, и другую любовь и в ней указавшего нам закон вечного подлинного бытия. Я не ищу теперь какого-то непонятного, расплывчатого, безличного вечного бытия, какого-то «неведомого Бога»; Бог и вечное бытие в предельной конкретности мне даны во Христе. Этого Христа ищу я, то есть Ему уподобиться и усвоиться. Когда, при сознании своего крайнего недостоинства, я все же молюсь Ему, то от напряжения этой молитвы собирается воедино все мое существо, то есть и душа, и тело, то есть ум, сердце и все члены тела, даже кости, — все от напряжения как бы оцепеневает, изменяется дыхание. Так сильно и неудержимо влечет к Себе Христос душу, всего человека. Христос, Которого мне дала Церковь. Ни единым средством, содействующим единению со Христом, не пренебрегаю. Но разве возможно где-либо вне Церкви найти большее богатство этих средств? В Церкви я имею Бога воплощенного, так что, [во Святом причащении] Бога мы едим и пьем, Богом, Словом Его мы дышим. Именем Его, Словом Его, властию Его мы совершаем таинства, и эти таинства не суть какие-то лишь символы, но воистину реальность. Это же так очевидно чрез весь опыт.
Моя мысль проста, но, быть может, нелегко ее передать, потому что я не знаю, о чем нужно сказать, чтобы не обременить тебя излишними словами. Ты не удостоил меня в полноте твоего доверия. Я больше доверяю тебе себя. Ты полагаешь, что я не пережил того опыта, который дан тебе в настоящее время, и потому не смогу тебя понять, а буду так просто, по конфессиональному фанатизму оскорблять то святое, что ты испытал. Но как ты «готов слушать со вниманием мое мнение», так и я вполне готов с любовью выслушать все, что бы ты ни сказал. Если я, Бог свидетель, всегда бескорыстно готов тебе отдать все, что имею по любви во Христе, то и ты, если нашел что-либо большее и лучшее того, чем обладаю я, потрудись то передать и мне.
Трех вещей я не понимаю:
1. адогматической веры,
2. бесцерковного христианства,
3. безаскетического христианства.
И сии три — Церковь, догмат и аскетика (то есть христианский подвиг) — для меня единая жизнь. Мне кажется неправильным претендовать на то, чтобы в Церкви все было «по-нашему». Когда ты говоришь о тесноте конфессиональных рамок, я понимаю тебя. И я тысячи раз переживал и переживаю стеснения, но их терплю, потому что от Церкви я имею и положительные дары. Аскетика (то есть духовный подвиг и упражнения) неотъемлема не только от всех известных истории религий, но и вообще от всякой человеческой культуры. В основе всякой аскетики по необходимости лежит та или иная идеология (догмат). Всякая религия — язычество, иудейство, магометанство, пантеизм, христианство — имеет свою аскетическую культуру, отличную от других, и это различие обусловлено различием догматических представлений. Я думаю: ценою личного подвига и внимательного изучения нужно приобрести знание теоретической основы аскетизма, чтобы иметь возможность свободно и разумно пользоваться различными существующими аскетическими средствами, чтобы существующие формы аскетических упражнений слить в единое целое.
В идеале — нужно как-то знать всю совокупность аскетических видов, форм, методов, средств, чтобы приобрести некоторую внутреннюю свободу, чтобы не впадать в чуждые христианству сферы. Из таких «чуждых» сфер в настоящее время, полагаю, наиболее опасной для христиан является пантеистический мистицизм. В идеале нужно как-то знать всю последовательность духовного возрастания, восхождения от низшего и меньшего к высшему и большему, чтобы обеспечить непреткновенное преуспевание. Нужно знать «иерархию» духовных ценностей, чтобы не поставить низшее над высшим и тем неисправимо положить конец восхождению. Пример превращения «иерархии» духовных ценностей — Огюст Конт, который думал, что он открыл закон исторического развития ума. По нему человеческий ум проходит три последовательных стадии развития мировосприятия: теологическую, метафизическую и позитивную. В духовной жизни очень часто приходится встречаться с явлением «превращения иерархии». В таких случаях я вспоминаю уроки гимнастики в детские годы, когда, повиснув на трапеции вниз головой, видишь «внизу» (под ногами) — потолок, а вверху над головой — пол с различными предметами…
О необходимости аскетического подвига
[Ты пишешь:]: «Мой образ жизни совсем не аскетический… главный интерес — уйти внутрь». Здесь ты несколько отступил от обычной терминологии. Я тебя понял так: ты решил отказаться от отрицательной формы аскетизма и хочешь остановиться только на положительной (этого в свое время искал и отец Лазарь — Эдгар Мур). Идеологически это представляется нам как нечто более совершенное, но опыт показал, что положительное действие — возрастание в добре, положительная форма — любовь, — в пределах этой жизни по необходимости встречается с отрицательной формой аскетического действия, то есть с борьбою с действующим в нас «законом греха».
«Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Зло, этот «закон греха», приобрело силу действующего закона невозрожденной жизни нашей психофизической природы. Процесс возрождения, преображения нашей жизни есть соединение двух аскетических активностей — активности Бога и активности самого человека. Вторая, как подвиг человека, принимает иногда отрицательную форму (пост, воздержание, целомудрие, бдение, нестяжание, послушание — отсечение своей воли, нелюбоначалие и прочее), иногда же положительную форму. Чем большего напряжения достигает сия последняя, выражающаяся в постоянном устремлении духа к Богу, в молитве, сострадании, любви, тем менее заметной становится отрицательная форма, частично отпадая, но не переставая, однако, существовать. В начале процесса духовного роста, в начале процесса аскетического обучения по необходимости преобладает отрицательная форма, потому что положительное аскетическое действие есть искомое, цель. Начать с нее своею волею мы не можем. Она есть дар. И когда этого дара удостаиваются некоторые прежде подвига отрицательной формы, то, как показал опыт многих веков, все же через некоторое время дар этот отымется, и тогда в поисках «потерянного рая» христианин предается и отрицательному аскетизму в большей мере, чем не получившие дара.
О росте духовного сознания
[Ты пишешь:] «Не знаю, причинит ли тебе лишь скорбь и недоумение перемена в моих убеждениях».
Для меня несомненно, что ты переживаешь подлинное оживление твоей духовной жизни, и этому я глубоко радуюсь. Однако весь ряд высказанных тобою в письме мыслей меня наводит на предположение, что происходящее в твоей душе есть лишь начало подлинно религиозной жизни. И именно начало, какой бы силы ни достигали твои настоящие переживания. И если человек с этого начинает, то это должно приветствовать. Но если он на этом остановится (как на чем-то совершенном), то это уже будет «прелестию». Шлейермахер сделал именно эту ошибку. Он попытался «догматизировать» именно эту начальную форму религии, неясное, неконкретное «томление духа», искание Бога, устремление к Богу, жажду подлинного бытия, без положительного осознания, в чем оно. Предел этой формы — потрясающее чувство прикосновения к Великому Вечному Бытию. Все этого рода религиозные переживания человеческого «Я», имеющие характер весьма напряженной жизни самой глубины человеческого духа, — известны и вне христианства, в опыте пантеистическом (буддизм, Плотин, теософия и другое). Но ими далеко не исчерпываются переживания христианина.
И потому мне очевидно, что Шлейермахер висел на трапеции вниз головой. Этот несомненно даровитый, но и характерный протестант, отвергший догматическую веру Церкви и «догматизировавший» свой сентиментальный мистицизм — именно в силу последнего впал в чуждую христианству сферу, в то, о чем я уже писал тебе, а именно: чисто пантеистическое мироощущение Спинозы он признал классической формой религиозной жизни. Шлейермахер по существу, по характеру своей мистики несравненно ближе к пантеизму, чем к христианству. Он даже веру в Личного Бога, веру в личное бессмертие не считал необходимым.
Позволю себе повториться. Этот тип мистических переживаний прикосновения к Непостижимой Великой Сущей Реальности, пред которой реальность этого мира уничтожается, — для христианина есть лишь начало подлинной духовной жизни. Это начальное переживание (знакомое и пантеистам) Шлейермахер (подобно теософам и вообще всякого рода пантеистам) счел конечным искомым и потому отверг не познанную им, как должно, ту последнюю конкретность, в Которой и с Которой Церковь предала нам откровение о Божественном вечном бытии.
О православной культуре
[Ты пишешь]: «Я остался православным в культурном смысле слова», а вместе с тем «я перестал верить многим православным догматам», и еще: «мой образ жизни совсем не аскетический».
В чем же тогда православная культура?
Мне кажется, что если отвергнуть православный Символ веры и веками жизни во Христе приобретенный аскетический опыт, то от православной культуры останется только греческий минор и русская тетрафония.
От твоих слов создается впечатление, что ты тесным рамкам Церкви предпочел протестантскую свободу.
О естественном разуме и вере
Ты пишешь: «Внутренней борьбой я приобрел какую-то духовную свободу». В этой борьбе одержал победу естественный разум. Опыт истории показал, что естественный разум, предоставленный самому себе, роковым образом приходит к пантеистическому мироощущению и мистике. Если же это происходит в душе христианина, не желающего все же отказаться от Христа подобно Льву Толстому, то он приходит к протестантскому рационализму или спиритуализму, мистически приближающемуся к пантеизму. Я как-то внутренно убедился, что отказ от Церкви приведет к отказу от проповеди апостолов. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами… что осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь…» (1 Ин. 1:1-2).
«Слово плоть бысть». Именно этого воплощенного Логоса — видимого, слышимого, осязаемого — проповедует Церковь в своих догматах. Предельная конкретность. Тело и Кровь Христа — на литургии. Разве ты не переживал никогда этого при служении литургии? Икона… Освящение плоти святых, столь очевидное, когда Дух Святый с силою действует в них. Отсюда — мощи, так непонятные, так соблазняющие спиритуалистов.
Ты все это знаешь. И если я говорил об этом, то не потому, что считаю тебя несведущим, но потому что я сам живу тем, о чем пишу. Представь себе молодую девушку, мечтающую о женихе и браке. В своих мечтах она рисует образ жениха благородного, красивого, умного, героя. С бьющимся сердцем, с восторженными глазами она воображает и брак, и сладость поцелуя. И сладки ей эти мечты… В то же время другая, подобная ей девушка действительно вступила в брак с прекрасным женихом. И она в свое время жила мечтами. Первая в свои бессонные ночи новой жизни, конечно, не породит, но ее мечтательные переживания все же будут как-то похожи на переживания действительного брака второй. Таковым теперь мне представляется различие пантеистической мистики от христианской жизни в Боге…
22 августа/4 сентября 1945 г.
АРХИМАНДРИТ СОФРОНИЙ И ДАВИД БАЛЬФУР
Иеродиакон Николай (Сахаров)
Источник:Церковь и время. -М., 2001.
-N 2(15). -С. 170-183.
Архимандрит Софроний (Сахаров, 1896—1993) известен в православном мире как автор книг «Старец Силуан» (Париж, 1952), «Видеть Бога, как Он есть» (Эссекс, 1985), «О молитве» (Париж, 1991), «Рождение в Царство Непоколебимое» (Москва, 2000) и др. Некоторые из его книг, такие как «Старец Силуан», по своей популярности стали православной классикой XX века. Для всех, кто соприкоснулся, пусть даже отчасти, с духовным наследием отца Софрония, всякое слово о нем может показаться излишним. Его писания — красноречивое свидетельство о духовном богатстве сего замечательного подвижника благочестия нашего столетия.
Жизненный путь отца Софрония охватывает почти все XX столетие. Основные вехи его духовного развития так или иначе переплетались с судьбой человечества в XX веке. При этом его слово оставалось незаменимой духовной поддержкой для разных поколений — они находили в нем ответы на многие вопросы, порожденные противоречиями, конфликтами и трагедиями современной жизни.
Публикуемые в журнале «Церковь и время» письма к Д. Бальфуру — первое из духовных писаний отца Софрония (1). Предшествующие переписке годы его жизни были ознаменованы напряженным поиском Бога. Отца Софрония не покидала мысль о том, как человек может перейти грань этой временной жизни, ибо, по его словам, «дух человека не принимает идеи смерти» (2). Сам отец Софроний так описывал свое состояние в тот период: «Все мое бытие было заключено в искании выхода из узких рамок времени и пространства» (3), к познанию Вечного и Абсолютного.
Уже будучи в Париже, отец Софроний поступил в Свято-Сергиевский богословский институт, чтобы глубже постичь христианское мировоззрение. Однако учеба в Институте, несмотря на то, что здесь преподавали выдающиеся представители русского богословия того времени, не смогла удовлетворить его жажды богопознания. В 1925 году он уехал на Афон, где был принят в братию Свято-Пантелеимоновского монастыря. Напряженный внутренний поиск предшествующих лет подготовил почву к восприятию величайшего духовного явления нашей эпохи — старца Силуана (1866—1938). Отец Софроний, как никто иной, смог понять и оценить по достоинству богооткровение, которого сподобился старец Силуан: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся» (4). Как пишет отец Софроний, это было воистину событием историческим, определяющим всю нашу эпоху: это было «началом победы, исходом к вселенской любви» (5). Несмотря на то, что старец Силуан был человеком малограмотным, он сумел разрешить глубочайшие жизненные вопросы, на которые не смогла дать ответ даже богословская элита Парижа. Ныне старец Силуан — прославленный святой Православной Церкви, широко известный и почитаемый во всем мире. Он был причислен к лику святых в 1987 году.
Переписка с Бальфуром отчасти проливает свет на первые годы знакомства отца Софрония со старцем Силуаном, начавшегося в 1930 году. Сам отец Софроний позднее писал об этом: «Это было в те дни, когда я не находил достаточных слов, чтобы принести Богу мою благодарность за встречу мою со Старцем Силуаном. В то время, я был весь под “знаком”, (чтобы не сказать неподходящего в данном случае слова — впечатлением) того Света Преображения, в котором Бог показал мне Старца. После семи лет глубочайшего “недоумения”… в котором я находился до этой встречи, мне в Старце было дано подлинно откровение и утверждение» (6).
Переписка отображает пройденный путь аскетической борьбы и внутреннего подвига, которым отец Софроний откровенно делится со своим братом во Христе. Рожденное в недрах Афонской традиции учение, изложенное в письмах, во многом предвосхищает книгу «Старец Силуан». Являясь свидетельством повседневной жизни святогорцев, переписка изобилует содержательными упоминаниями о старце Силуане как современнике и соподвижнике. В ней содержится множество полезных аскетических советов, отличающихся конкретностью.
Из-за свойственной ему скромности отец Софроний при жизни не хотел, чтобы эти письма стали достоянием широкой публики. В них так много откровенного, глубоко личного. Позднее он признался Бальфуру: «Я, по неопытности моей, писал Тебе о самом себе, о том, что я сам мыслил и переживал, о том, как сам я боролся с той или иной страстью… Именно эта неопытность, или, иначе говоря, только начало опыта, и характеризует весь этот период моей с Тобою связи в молитве. Теперь я многого не сделал бы из того, что позволил себе тогда. Но прошлого не вычеркнешь из жизни, как “факт”. Его можно покрыть покаянием, сделать бессильным для вечности, но как факт исторический оно останется именно таковым фактом. Я, конечно, не первый, которому выпадает на долю переживать стыд за свое прошлое, за сказанное неуместное слово или написанное. Да и в том уже находишь себе некоторое удовлетворение, что хотя бы в последующие годы мне было дано усмотреть ранее сделанные ошибки» (7).
В Евангелии сказано: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5:14), посему было бы неуместным сокрыть духовное богатство, заключенное в этих письмах, «закопать… в землю» талант сей премудрости духовной (Мф. 25:18) или, «зажегши свечу» поставить ее «под сосудом» (Мф. 5:15), предав забвению слово, Святым Духом движимое. Но да исполнится завещанное Господом: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Именно в силу глубоко личного характера и «неопытной» откровенности письма правдиво отражают внутреннее горение духа молодого подвижника, отца Софрония, приоткрывают тайны его сердца, исполненного огнем любви Христовой. Читая их, каждый может почерпнуть нечто на пользу душе во укрепление веры и духовное утешение. При этом публикуемые письма едва ли можно рассматривать в качестве общего руководства к духовной жизни, поскольку сам отец Софроний отмечает: «писанные к определенному лицу в определенных условиях… они во всех отношениях являлись предназначенными для некоторого переходного времени» (8). Соответственно, содержание писем определялось текущими духовными нуждами их адресата — Давида Бальфура.
Давид Бальфур: краткий очерк жизни и деятельности
Вся жизнь Давида Бальфура была неутомимым поиском истины. Его пытливый ум никогда не позволял ему успокоится на достигнутой цели. Движущей силой в его жизни была, по его выражению, «жажда подлинного бытия» (9).
Давид Бальфур родился 20 января 1903 года в интеллигентной английской семье. Вскоре после рождения сына его родители приняли католичество — это во многом определило религиозное становление молодого Давида. Во время обучения в католической школе он ощутил в себе призвание к священству и монашеству. После обучения в Риме в 1922 году он стал послушником в бенедиктинском католическом монастыре Фарнбург, недалеко от Лондона. С ранних лет своего духовного развития он проявил интерес к восточному монашеству и в 1926 году переехал в бельгийский монастырь, ныне известный как Шеветонь — католический монастырь, придерживающийся православного типикона. Там он дал монашеские обеты и позднее сподобился священного сана (10).
Божье призвание
В 1932 году произошло событие, которое перевернуло всю жизнь Д. Бальфура. Он посетил Святую гору Афон с целью исследовать некоторые рукописи. Там произошла его судьбоносная встреча со старцем Силуаном и отцом Софронием. Когда Бальфур прибыл в Свято-Пантелеимоновский монастырь, первым на берегу, когда он выходил из лодки, его встретил отец Силуан и проводил его в обитель. Дорогою, как впоследствии рассказывал старец Силуан, у него все время было желание сказать Бальфуру: «Молитесь, и Господь Вас просветит!» Однако старец не решился тогда сказать этих слов, желание же не оставляло его и даже усиливалось. Тогда он, уразумев волю Божию, решил пригласить Бальфура в келью, где сказал ему: «Бог мне внушил Вам сказать — молитесь и Господь Вас просветит!» Для Бальфура, долго мучившегося сомнениями и нерешительностью, разрешить которые он хотел своим умом, — то есть обычным, особенно для современного человека, путем всестороннего логического рассмотрения, — эти простые и, в сущности, самые обыкновенные в нашей жизни слова, были едва ли не откровением. Они указывали ему путь к разрешению тяжких сомнений — путь решительный, хотя, быть может, и сверхъестественный. Еще один схимонах Пантелеимоновского монастыря, живший «на пустынке» в одной версте от обители, уже после отъезда Бальфура с Афона, рассказывал, что он во все время пребывания Бальфура на Святой горе и в Пантелеимоновском монастыре имел весьма сильное желание сказать ему: «Принимайте Православие, оставьте Католичество!» Отец Софроний впоследствии его спросил:
— Почему же у Вас было такое странное желание? Столько посетителей бывает у нас в монастыре — и католиков, и протестантов, и других. При том же не принято у нас, монахов, входить в общение с гостями и вообще посторонними, тем более иноверными.
Пустынник ответил:
— Я видел Бальфура в Церкви и полюбил его, и стало мне жалко его, что он неправославный, и молился я за него, — и вот так пришло мне желание сказать Бальфуру, чтобы он принимал Православие.
Было и у других монахов подобное желание, и многие за него молились. Сам отец Софроний молился за Бальфура в течение нескольких месяцев. И вскоре Господь порадовал его великой радостью.
Иеросхимонах Пинуфрий, уже по отъезде Бальфура, спросил отца Софрония о нем. Отец Софроний ничего не рассказал тогда о Бальфуре, просил только молиться за него, так как Бальфур, уезжая, просил всех монахов молиться о нем. Пинуфрий сначала сказал с некоторой безнадежностью:
— Что же мы будем молиться за католиков; они нам чужды; дай Бог всем спастись…
Однако стал молиться. И что же? Через несколько дней, встретив отца Софрония, он рассказывал:
— Бальфур — необыкновенный человек… представьте, по Вашей просьбе ночью, на каноне, стал я за него молиться, и вдруг молитва за него пошла у меня какая-то особенная, и так овладела сердцем моим, что все эти дни и дома, и в Церкви только за него и молюсь.
Отец Софроний промолчал: он благодарил Бога и удивлялся промышлению Божию. Рассказал он все это старцу Силуану. Старец же много раз повторил: «Бальфур обращен в Православие чудом».
Позднее отец Софроний, вспоминая о тех днях, писал: «Еще далеко не все мне известно относительно Давида Бальфура… но довольно уже, чтобы увидеть, как дивно благодать Божия действует одновременно в сердцах многих людей… быть может, для того, чтобы то, что не сделает один, сделал другой; быть может, для того, чтобы возможно большее число людей привлечь к участию в Божественном деле Христовом — искупления и спасения мира; быть может, для того, чтобы всех нас связать крепко любовью… быть может, потому, что любовь Божия не без правды… я же думаю, что все сие перечисленное далеко не исчерпывает бесконечной премудрости Божиего промысла о нас» (11).
Принятие Православия
Столь сильным и глубоким было у Бальфура переживание промысла Божия, что для него стало очевидным: он должен принять Православие. Именно с этого момента завязалась братская переписка между Бальфуром и отцом Софронием. Руководимый духовной поддержкой отца Софрония и отеческими наставлениями старца Силуана, Бальфур перешел в Православие 12 сентября 1932 года с признанием священного сана. Это произошло в Литве, принял его в каноническое общение с Церковью митрополит Елевферий, Экзарх Московской Патриархии в Западной Европе. Местом нового служения отца Давида стало Трехсвятительское подворье в Париже. Там же он дал монашеские обеты, но уже как православный священник. Постригал его архиепископ Вениамин. При этом владыка дал ему новое монашеское имя — Димитрий и поручил духовному руководству старца Силуана.
Испытания
Вскоре после пострига у Бальфура начались искушения, подвергшие испытанию его верность монашеским обетам и его православную веру вообще. Принятие Православия для католического монаха было связано со многими жертвами. Это не было простым «обращением к Богу». Ведь за спиной у Бальфура были десятилетия глубокой духовной жизни в Католичестве; и его обращение не было следствием интеллектуального выбора, а, скорее, его интуитивного «согласия» на внутренний призыв Бога и Его промысл. Неудивительно, что у него осталось много вопросов и сомнений догматического порядка относительно православной веры. С этими вопросами он и обратился к отцу Софронию как интеллигенту, способному удовлетворить его духовные и умственные искания. Отец Софроний благодаря тонкой духовной интуиции, как никто иной, сумел дать ответы, убедительные даже для такого высокообразованного богослова, каким был отец Димитрий, относительно православного подвижничества. В письмах можно проследить последовательное разъяснение истин Православия и уклонения от них в Католичестве. Так, замечательным примером православной апологетики являются письма, затрагивающие мистический опыт Иоанна Креста — одного из самым популярных католических святых-кармелитов XVI века (12).
Письма середины 30-х годов свидетельствуют о том, сколь самоотверженным был для Бальфура разрыв с католическими друзьями: расценив его поступок как предательство их веры, они отплатили ему отчуждением. С особой болью восприняла уход Бальфура из Католичества и приятие монашеского пострига в Православии его мать. Вдохновение на страдания, на скорби, на несение креста Христова является центральной темой многих писем отца Софрония в тот период. Их цель — зажечь сердце отца Димитрия дерзновенной верой в то, что скорби — суть печать богоизбрания.
С назначением архиепископа Вениамина Экзархом Америки на отца Димитрия было возложено новое послушание — сопровождать своего архиерея в качестве секретаря и переводчика в США. Вскоре он стал свидетелем юрисдикционного дележа между двумя иерархами — митрополитом Вениамином и отделившимся от Московской Патриархии митрополитом Платоном. Этот соблазн стал серьезным испытанием для его еще неокрепшей веры. По возвращении в Европу Бальфур провел шесть месяцев в Лондоне в надежде создать приход — надежде, которой не суждено было осуществиться. Осенью 1935 года, имея целью найти для себя духовное пристанище, отец Димитрий во второй раз приехал на Афон и провел там шесть месяцев в строгом отшельничестве. И вновь — крушение надежд: святогорцы не признавали ни его «католического» крещения в прошлом, ни тем более его священный сан. После этого греческие гражданские власти, всячески препятствовавшие поселению на Святой горе иностранцев, вынудили отца Димитрия покинуть Афон.
Разрыв
О том, что происходило в душе отца Димитрия, нетрудно догадаться. Разочарование, усталость из-за непрекращающихся духовных скитаний, изгнания и странничества заставили его искать более «стабильного» места служения. Ради этого он пошел на духовный разрыв со своим старцем — отцом Силуаном — и пренебрег его советом вернуться в Париж и затем ехать в Англию, чтобы проповедовать там Православие. В письме к отцу Софронию он написал: «Молитесь за меня, не осуждайте меня и имейте в виду, что буду всегда стараться исполнить заповедь — поехать и проповедовать в Англии. Но о способах подготовки, временах и средствах осуществления я твердо решил судить сам, по совету с начальством и с такими духовниками, которых Бог мне пошлет на месте… Советоваться буду, и приму к руководству общую линию, но больше не могу. Нельзя пользоваться старцем как оракулом» (13). На это старец Силуан ответил: «Что же он наши молитвы сравнивает с оракулом? Дешево же он нас оценил. Пусть он живет по-своему, как хочет. Опыт его научит. Он потерял веру, а без веры пользы не будет» (14). Позднее Бальфур говорил: «Если бы я поступил по совету Старца, моя последующая жизнь потекла бы иначе» (15). О своем преслушании старцу Силуану Бальфур сожалел до последних дней жизни.
Взяв судьбу «в свои руки», он решил остаться в Афинах. Поначалу все складывалось как будто бы удачно: он был зачислен в братию монастыря Пендели близ Афин, поставлен духовником, окончил Афинский университет с отличием, возведен в сан архимандрита, назначен настоятелем в церковь при афинской королевской больнице — «Евангелизмос». Обладая незаурядными музыкальными способностями, он сумел организовать там профессиональный церковный хор. Во время своих визитов в «Евангелизмос» члены королевской семьи нередко посещали богослужения в больничной церкви, привлекаемые стройным пением руководимого Бальфуром хора. Таким путем отец Димитрий стал приближенным греческого королевского двора, и, как говорили тогда, принимал исповедь у некоторых членов королевской семьи.
Однако Афинское служение отца Димитрия оборвалось так же внезапно, как и другие его начинания. На этот раз событием, неожиданно потрясшим его жизнь, была немецкая оккупация 1941 года. Всего за несколько дней до прихода немцев в Афины, утром 18 апреля, он сумел получить отпустительную грамоту от местного архиепископа, а вечером уже был на пароходе с другими беженцами, плывущими в Египет.
Что произошло позднее, трудно понять однозначно: этот момент остался наиболее загадочным в жизни Бальфура. По приезде в Каир он стал искать для себя новое место служения в Православной Церкви, будучи уже известным архимандритом и духовником, но – безуспешно. Внутреннее истощание его веры на этот раз достигло своего предела. Сам Бальфур свидетельствовал: «Я потерял веру в то, что Православная церковь является “единственной обладательницей Истины во всей ее полноте”» (17). Позднее отец Софроний писал, имея в виду, помимо прочих случаев, вероятно, и историю с Бальфуром: «Из моих встреч я имел немало случаев убедиться, что всякое снижение христианства влечет за собою или личные, или общественные катастрофы. Только этим снижением и можно объяснить бегство из церковной ограды многих лиц, искренно ищущих универсальной “кафолической” Правды, и универсальной “кафолической” Истины. Говорю не о развращенных, а о тех, кто глубоко ищет разрешения великих проблем нашего бытия, кто стремится к интегральному и даже абсолютному познанию, естественному для человека» (18).
После пяти месяцев «бездействия» в Каире он сбрил бороду, снял рясу и порвал с Православной Церковью. Не имея ни денег, ни насущного хлеба, ни близких, ни семьи, ни отечества, ни, самое главное, — веры, Бальфур пережил глубокий внутренний кризис, из которого стал искать исхода любой ценой. Позднее он охарактеризовал этот период как «годы бессловесного безбожия» (19). В Каире ему случилось жить в комнате, из окон которой было видно Британское консульство. Когда он видел своих соотечественников, входивших и выходивших из дверей консульства, у него возникало чувство, что он не может стать одним из них. По сравнению с собственным плачевным прозябанием их жизнь ему казалась стабильной, устроенной, полной уверенности в завтрашнем дне. Под влиянием своего двоюродного брата, который был государственным чиновником в Британском представительстве в Египте, Бальфур обратился в консульство с просьбой предоставить ему работу. Он надеялся, что свободное владение несколькими иностранными языками поможет ему заработать на жизнь.
Будучи принят на работу в Разведывательные службы Британской Армии в Каире, он, к своему удивлению, вскоре был возведен в звание майора. Как человеку, в совершенстве владеющему греческим языком, Бальфуру вскоре был предложен важный пост в Британском министерстве иностранных дел по политическим сношениям с Грецией. В качестве дипломатического лица осенью 1944 года он был назначен в Афины для работы в Британской Армии.
Эпилог. Бог есть Любовь
По возвращении в Афины, но уже как дипломат, Бальфур возобновил переписку с отцом Софронием. Причиной пробуждения в нем религиозного интереса стала трагическая смерть его брата, который погиб в Гонконге в застенках японского концентрационного лагеря для военнопленных. Это событие возродило в Бальфуре чувство бренности всего земного и переживание трагедии человеческого бытия, хотя внутренне он был еще слишком далек от отца Софрония, чтобы разгорелся в нем некогда потухший огонь веры. После войны жизнь Бальфура, казалось, потекла по «обычному руслу» мирской жизни: дипломатическая работа, брак, семья. По службе ему пришлось много раз переезжать из одной страны в другую, жить во многих городах: Тель-Авиве, Смирне, Генуе, Женеве и др.
За все это время отец Софроний не прерывал связи с Бальфуром. В начале 50-х годов отец Софроний, предвидя в недалеком будущем внутреннюю перемену в своем друге, предсказал: «Ты пишешь: “Так далеко все это от меня теперь… Не знаю, можешь ли ты понять, как далеко отошел я от всех вас?”» А вместе с тем добавил: «А все-таки я вспоминаю с любовью и благодарностью старых друзей, и хочется с ними общаться. Я нескромно думаю, что забыть нашу любовь во Христе совсем ты все-таки не сможешь. Психологически произошло перемещение центра твоего внутреннего мира. Сила новых впечатлений, сильное влияние всего того, что тебя теперь окружает, — все это с годами потеряет свою остроту, и тогда ты снова увидишь, что мы не так далеки от тебя, что нам есть место в твоем сердце, как есть место для тебя и в нашем сердце. Я уже тебе говорил, и, быть может, излишне повторять, что я не забуду тебя. Впрочем, я не смею так сказать, ибо я человек. “Я не забуду тебя” — это слова Бога» (21).
Естественно, сознавая свою ответственность пред Богом за душу Бальфура, отец Софроний никогда не прекращал усиленно молиться за него. И в 1962 году в Женеве произошел последний и уже окончательный поворот во внутренней жизни Бальфура. Как-то ночью он разбудил свою семью и, находясь в необычно взволнованном состоянии, торжественно произнес: «Я вновь верую». Остается тайной, какое Божественное посещение он тогда пережил, но с того момента он усиленно искал воссоединения с Православной Церковью. Более всего жаждал он причащения Святых и Животворящих Таин — Тела и Крови Искупителя. Он незамедлительно отправился к отцу Софронию — своему старому и верному во Христе брату, к тому времени уже игумену Свято-Иоанно-Предтеченского монастыря в английском графстве Эссекс. Их трогательная встреча окончилась глубокой покаянной исповедью Бальфура за все годы его духовного отчуждения, прожитые вдали от Церкви. После этого Бальфур обратился к митрополиту Николаю, Экзарху Западной Европы, с просьбой принять его обратно в лоно Церкви как мирянина. С того момента Бальфур со всяким тщанием хранил верность Православию до конца своих дней, неизменно причащаясь святых Христовых Таин. Многие вспоминали, как он, молясь за литургией, проливал горячие слезы покаяния. С этого момента возобновился и его духовный контакт с отцом Софронием. Духовническое руководство на этот раз осуществлялось не через письма, а лицом к лицу во время их частых встреч. Именно поэтому в письмах того периода духовные вопросы почти не затрагиваются.
Бальфур продолжил свое служение Православной Церкви, но уже как богослов-мирянин. В 1970-е годы он поступил в аспирантуру богословского факультета в Оксфорде. Его научным руководителем был крупнейший современный патролог — ныне здравствующий епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Под его руководством Бальфур подготовил к изданию некоторые из святоотеческих текстов. Наиболее крупным его вкладом в развитие святоотеческой науки было издание писаний преподобного Григория Синаита и святителя Симеона, архиепископа Солунского.
После продолжительной болезни Бальфур мирно отошел ко Господу 11 октября 1989 года. Так закончился нелегкий жизненный путь этого во многом замечательного человека. Незадолго до смерти Бальфур как-то сказал о своем пройденном духовном поприще: «Я, как неразумный ослик, думал угнаться за двумя могучими конями — старцем Силуаном и отцом Софронием». В последнем письме отец Софроний написал Бальфуру: «Да, мы связаны навсегда всем, что произошло в прошлом за более чем полвека. Бог так много проявлял Свое внимание к судьбам нас обоих, что мы не должны утерять к Нему чувство вечной благодарности» (22).
Примечания
1. Это вторая подборка писем, публикуемых журналом. Первую, под общим названием «Православие — свидетельство истины», см. в журнале «Церковь и время», №3 (12), 2000.
2. Архимандрит Софроний. Письма в Россию. М., 1997. С. 19.
3. Там же. С. 22
4. Архимандрит Софроний. Преподобный Силуан Афонский. Эссекс, 1991. С. 20, 59, 89 и др.
5. Архимандрит Софроний. Письма в Россию. С. 28.
6. Архимандрит Софроний. Письмо к Д. Бальфуру от 31 октября 1961 г. В: The Archive of the Gennadeios Library, Athens. G2.
7. Там же.
8. Архимандрит Софроний. Письмо к Д. Бальфуру №19 от апреля 1934 г. В: The Archive of the Gennadeios Library, Athens. G1. №В-19.
9. См.: Д. Бальфур. Письмо к о. Софронию от 27 сентября (10 октября) 1932 г. В: The Archive of the Monastery of St John the Baptist. MBS.
10. О раннем периоде жизни Д.Бальфура и его обращении в Православие упоминает монахиня Силуана (Соболева) в книге «Три встречи» (М., 1997. С. 76—83). В ее повествовании есть некоторые исторические неточности. Так она, называя отца Давида «лордом», по-видимому приняла его за известного политического деятеля начала XX в. — лорда Бальфура, тогда как отец Давид имел более скромное социальное происхождение. Также занимательный рассказ о том, как Давид Бальфур «пожертвовал много денег Римскому Папе» и «основал Шеветонский монастырь для борьбы с Православием», не имеет под собой реальных исторических оснований.
11. Из письма отца Софрония епископу Вениамину. Письмо не сохранилось. Некоторые отрывки восстановлены благодаря заметкам, сделанным самим Д. Бальфуром. См.: Д. Бальфур. Заметки из письма отца Софрония к митрополиту Вениамину. В: The Archive of the Gennadeios Library, Athens. G1. Excursus.
12. Необходимо отметить, что, сознавая приверженность Бальфура духовности кармелитов в прошлом, отец Софроний поначалу вынуждался быть крайне осторожным в своей критике Католичества. Из сохранившихся набросков писем (MSB) очевидно, что в окончательной версии каждого письма отец Софроний скрашивал в более мягкие тона свои изначальные мысли, где он подвергал критике некоторые моменты в аскетической традиции Католичества. Позднее, в 1952 г., в книге «Старец Силуан» отец Софроний более подробно разбирает духовные отклонения, свойственные западной мистике. Этим вопросам посвящены главы «О видах воображения» (см.: Архимандрит Софроний. Преподобный Силуан Афонский. Эссекс, 1991. С. 64—70) и «О мраке совлечения» (там же. С. 78—80).
13. Д. Бальфур. Письмо к отцу Софронию №1 от 7 апреля 1936 г. В: The Archive of the Monastery of St John the Baptist. MBS (см. приложение II, 1: «Старец — не оракул»).
14. Архимандрит Софроний. Письмо к Д. Бальфуру №24 от 7 (20) апреля 1936 г. В: The Archive of the Gennadeios Library, Athens. G1. №С-11.
15. См.: Епископ Каллист (Уэр). Obituary: David Balfour. In: Sobornost (incorporating Eastern Churches Review). Лондон, 1990. T. 12, №1. С. 55.
16. Там же. С. 56.
17. Там же.
18. Архимандрит Софроний. Письмо к Марии Семеновне Калашниковой (сестре отца Софрония) от 24 августа 1973 г. В: The Archive of the Monastery of St John the Baptist.
19. Д. Бальфур. Письмо к отцу Софронию №5 от 8 апреля 1945 г. В: The Archive of the Monastery of St John the Baptist. MBS (см. приложение II, 5: «Годы безбожества»).
20. Так, в конце декабря 1944 года он был переводчиком Уинстона Черчилля во время переговоров с греческим правительством.
21. Архимандрит Софроний. Письмо к Д. Бальфуру от 24 декабря 1950 г. В: The Archive of the Gennadeios Library, Athens. G2.
22. Архимандрит Софроний. Письмо к Д. Бальфуру от 18 января 1987 г. В: The Archive of the Gennadeios Library, Athens. G2.
Примечания
1. В предшествующем письме Д. Бальфур поделился с о. Софронием своими восторженными отзывами о христианской общине «Жизнь» в Афинах
2. Отец Софроний и старец Силуан
Письма Ольге Гиндиной с Западного фронта и из плена, 1920-1921 гг.18 мая 1920 года. Село Новые Сокольники. Дорогая Ольчик! Я уже за Западном фронте ближе к тебе. Уже 5-й день еду. По прибытии на место, поеду к тебе на несколько дней. До скорого свидания. Целую крепко тебя и дочурочек. Твой Лазарь. 19 мая 1920 года. с. Бисебечин (?) Витебской губ. 3 ч. дня. Моя родная Олюшечка! Недавно прибыли в село в сорока верстах от Полоцка. Я тебе уже написал в двух открытках, что переехал с полком на Западный фронт. Поляки уже отступили на нашем участке. Расположился я с отрядом на берегу реки Дриссы: скоро пойду купаться. Чудные дни! Я тебе писал в открытках, что скоро приеду на несколько дней домой, так как командир полка и комиссар согласились, сегодня буду говорить с главным начальством — бригадным врачом, и если он согласится, то я приеду на несколько дней, благо здесь близко. Чувствую себя прекрасно, так как ближе к вам, мои деточки! Надоел север с угрюмой бедной природой. Я украинец и так рад каждому садочку, каждому деревцу. Хотя в Витебской губ. тоже не очень природа веселая, но все-таки хорошо. Олюньчик, голубка моя! Я приготовил для тебя 15 т.р., но не хочу послать, а хочу привезти сам. Если ты получила присланные 14 000 (5+5+4), то расплатись с долгами и одалживай опять… Не беспокойся — деньги будут, так как жалованье, кажется, нам увеличили чуть ли не вдвое. 10 ч. Вечера. Пообедал, полежал в садике на зеленой травке, отдохнул с дороги, а то устал в вагонах. Как-то ты там живешь, моя голубка? Как девочки? Судя по тому, что ты мало пишешь, тебе не сладко живется, да, я знаю! Твои последние две открытки от 4.IV и 14.IV лаконически мне говорят о том. И мне совестно, что я теперь лучше живу тебя: не голодаю, деньги не расходую, хотя душа тревожится за всех вас. Оленька! Я боюсь, что тяготы жизни, проза семьи изменят тебя, что ты разлюбишь своего Лазиньку и чего доброго с горя полюбишь более близкого. Ведь у тебя увлекающаяся натура. Оленька! Ведь ты не будешь мне лгать, правда? Я все, все разрешаю тебе, только ты скажешь мне правду, согласно нашему старому условию! Олющечка! Милая! Прости меня за сказанное, я верю, верю тебе, но мне так тяжело без тебя, единственная надежда, что скоро увидимся. 1 июня 1920 года. Полоцк. Вагон. 10 ч. Вечера. Дорогая Олюшечка! Ну и измучился, и все еще не добрался и не знаю когда доберусь. С самой Орши еду в воинских поездах в грязных тамбурах, не спал две ночи. Сегодня, наконец, добрался до Полоцка утром и поехал дальше, откуда выехал, но полка там уже не застал. Вернулся обратно в Полоцк, ходил в городе узнавать, где полк и нащупал след, ждал целый день поезда и сейчас еду искать по направлению к Двинску. Скоро пойдет поезд (воинский) и я спешу опустить письмо, чтобы ты не беспокоилась. Полоцк имеет ужасный вид: нет ни единого дома с целыми окнами, масса разрушенных снарядами домов и опустевших совершенно. Поляки стреляли беспрерывно прямо по улицам и было много жертв, но все это осталось позади, теперь поляки уже далеко. Болят ноги, так как я сделал сегодня минимум верст 20 пешком, что с мешком не совсем удобно, так как я к тому же не сыт был, имел скверное настроение, но недавно я на вокзале съел две тарелки щавеля за 200 р. (без хлеба) и стал веселее. Думаю, что завтра наконец доберусь до своих. Олечка! Милая! Не думай, что я хоть на секунду раскаялся, что поехал! Наоборот, я прямо счастлив, у меня новый запас энергии, бодрости, я теперь немного спокоен хотя бы за один фронт — Горецкий. А вот на счет второго — Машевского, сомнение берет и частенько. Твои коржики все съел, а тортик еще цел. О Деюсе думаю все время! Чудная девочка! А я, негодный папка, ей ничего даже не привез. Ну, клянусь бородой Аллаха, что в следующий приезд обрадую ее подарками. Я уже хочу ее видеть! Ты ведь к ней не ревнуешь? А Мусинька пусть лапку не сосет, тогда я ее любить буду. А Ольчик пусть папку любит и тогда все будет в гармонии, да, забыл, для общего тона Лыска должна давать много молока… Ну, кончаю, скоро едем. Уже стемнело. На платформе много красноармейцев, играют на гармошке. Весело! Ну-с, крепко целую тебя и девочек. Твой Ларазь. Сердечный привет Грише и Бенуа и истинным друзьям, хотя кажется их нет больше у меня в Горках. 6 июня 1920 года. На позициях. Дорогая Олюлючик! Полк догнал и вот уже три дня и три ночи как беспрерывно идем в поход и заняли сегодня позиции. Кругом артиллерийская и пулеметная стрельба. Поляки наступают на нас. Я нахожусь верстах в четырех от позиций. Не спал уже три ночи, безумно устал, но питаюсь великолепно, так как крестьяне с радостью нас встречают и дают молока вдоволь, яйца, мед и все что угодно. Сплю под отрытым небом и целый день на воздухе, аппетит хорош. Ольчик! Я опять оказался правым, когда спешил к сроку: если бы я не подоспел вовремя для меня вышла бы крутая неприятность. Кто-то донес дивизионному врачу о моей командировке и он три раза запрашивал командира, где я. Доктор Андреев, заменявший меня, заболел сыпным тифом и два дня больной ожидал меня, не ложась в постель и не объявлял; как только я приехал, я его отправил в лазарет. Если бы я опоздал, полк остался бы без врача. Видишь, Олюльчик, как надо всегда быть аккуратным. Если бы я не выбрался тогда, то теперь ни за что не мог бы уехать, ибо остался один. Работы много, но я пока справляюсь. Вот спать до безумия хочется. Какое благо сон! Идешь ночь напролет, а ночи здесь свежия. Из Питера мне привезли от Раисы шинель и ботинки. Шинель меня очень выручила. Я послал тебе две открытки с дороги. Живу воспоминаниями о прожитых у тебя днях. Я посвежел, перестал хандрить и чувствую себя хорошо. Если еще получу от тебя письмо с весточкой о старичках, будет совсем хорошо. Тебе я организую скоро посылку с продовольствием. Я уже заготовил соль и прочее. Здесь все дешево после белых, но берут николаевскими деньгами. Письмо посылаю нарочным санитаром, сопровождающим больных. Целую чудную дочурочку Дейку и многообещающую Муську. Привет Грише и Бейле с семьями. Твой Лазарь. 10 июня 1920 года. На позициях. Дорогая Олюлючка! Молчал целую неделю, ибо когда грохочут пушки и трещит пулемет, мысль не работает и не хочется ни о чем думать, кроме как об исходе борьбы не на жизнь, а на сметь. То, что я пережил за эту неделю, я не смогу передать тебе в этом письме. Настоящий ужас войны я понял только теперь, ибо то, что вытворяют поляки, не поддается описанию. Уже семь дней как я не сплю, беспрерывно полк в походе и в боях самых отчаянных. Масса раненных и под обстрелом приходится перевязывать. Очень измотался. Весь полк переутомлен. Мы отступали вчера и перешли Двину назад, думали хоть немного отдохнуть, но только что получили приказ перейти опять Двину и занять старые позиции. Сейчас опять двигаемся. Меня уже охватил тоже военный азарт, и бог теперь решается судьба революции. Олечка, голубка моя! В опасные минуты я думаю о тебе и детишках и мне становится легче при мысли, что кто-то думает о тебе и может быть любит. Вчера на пункте у меня умерли три раненных белогвардейца. Молодые, красивые, с тонкими чертами лица, они безропотно ожидали свою кончину. Был холодный вечер я их укрыл одеялами и старался как можно облегчить их предсмертные муки, ибо они тоже люди, ослепленные шовинизмом и угаром капиталистической ненависти к России. Как много приходится пережить здесь! Забываешь дни и часы, ночь становится днем и нет разницы, ибо все равно не спишь, а только растягиваешься на земле на часок и засыпаешь, как убитый, под грохот пушек. В общем, Ольчик, теперь приходится мне испытывать все трудности и опасности военной жизни, но настроение и самочувствие хорошее, вот только бы поспать. Ах, сон! Какое счастье поспать хоть часов пять подряд! Как твои тыловые дела, домашние нужды? Поверь, голубка, что все неприятности тыла ничто в сравнении с тем ужасом, который на фронте. Нервы напрягаются до невероятности, вот-вот кажется нервы лопнут и черепная коробка от напряжения мозга разорвется в дребезги. Ну-с, довольно, а то тебе сделается страшно. Все-таки, я в непосредственной опасности не нахожусь, хотя все случайно: здесь страшно холодно и такие холодные носи, что весь продрогнешь, особенно когда не спишь, но понемножку привыкаю и к спанью на голой земле и ко всем другим передрягам, так что привилегий теперь нет ни для кого. Надо испытать все! Сейчас я в деревушке у Двины. Чудный вечер. Солнышко еще не зашло. Кругом сады и так хотелось бы растянуться на травке в саду, но я спешу тебе написать, ибо скоро выступим и будем итти всю ночь, все время рискуя попасть в лапы к панам, что хуже всего. Но как-нибудь выйдем из положения и все-таки разобьем панов в конце концов. Ну-с, надо итти в штаб. Кончаю. Может быть, после напишу. Крепко целую мою Олюльчик, Дейку и Мусю. Папа. 14 июня 1920 года дер. Верасюга Вил. губ. Открытка. Дорогая Олюшечка! Недавно приехал на новый участок. Развернул перевязочный пункт и жду работы… На позициях погромыхивает. Сегодня случайно столкнулся в лесу с товарищем врачом, с которым вместе кончали. Он тоже с полком. Оригинальная встреча в полуверсте от окопов. Посылку никак пока не могу организовать, так как едем и едем. Выворачивайся как-нибудь, а потом опять получишь. Как Деюся и Мусинька? Как Лыска? А главное, как твое самочувствие, будь бодра, не тоскуй, мне хорошо. Твоей Лазарь. 14 июня 1920 года. дер. Верасюга Вил. губ. 12 ч. Ночи. Олюньчик, голубка моя! С тех пор, как я уехал от тебя, мне не удавалось ни разу быть в спокойном состоянии: то я волновался, пока догонял полк, а догнавши, сразу попал в бои и пришлось много пережить, о чем я писал тебе уже. Сегодня я послал тебе открытку, а сейчас решил поболтать с тобой, т.е. Болтать буду собственно я, а тебя буду воображать слушающей меня со светлыми глазами, в которых горит огонек любви, «може ко мне, а може к Дейке и Муське». На позиции стихло. Изредка доносится одиночный пушечный выстрел. Спустился тихий вечер. Отряд закончил устройство пункта и сидит у костров, варит ужин. Я с канцелярией в халупе (так назыв. маленькая избушка). Хозяйка ткет полотно и все время стучит станком, хотя уж поздний вечер. Темнеет. Мухи суетливо заканчивают тоже свой бездельный день и мешают писать. Сегодня я поспал несколько часов и стал совершенно другим человеком. Успокоился. Хотя в области сердца и покалывает немногое: ночные походы, недосыпание изнурили меня и развинтили нервы. Хотя бы еще суточки постоять на одном месте, но вряд ли завтра, вероятно, будем атаковать и в случае удачи двинемся дальше. К чувству усталости от приходов в последние дни прибавилось чувство морального угнетения, когда после кровопролитных боев полку пришлось два дня отступать и отдавать панам занятые деревни опять на грабеж и истребление. С плачем провожали жители нас, с ужасом ожидая опять нашествия белых, которых население ненавидит всеми фибрами души. Тоскливо отступать, хуже чем на шахматной доске… Но теперь мы опять перешли в наступление. 15 июня. Только что встал. Яркое солнце уже высоко. Чудное утро. Ночью спал как убитый, но будили несколько раз. 16 июня, 11 ч. утра. Вчера не закончил письма, так как начался бой. Началась такая пальба из пушек, что я был оглушен. Халупа вся тряслась. Через полчаса уже показались раненные и началась работа, один снаряд разорвался случайно у перевязочного отряда, но вреда никакого не принес. Целый день и вечер перевязывали и отправляли. К вечеру бой утих. Мы удержали свои позиции. Сегодня я был разбужен опять орудийными выстрелами. Уже попривык. Узнал, что Киев взят и это подняло настроение. Чувствую сегодня себя очень хорошо. Безумно хочется получить от тебя письмецо, но теперь с почтой беда, все письма с позиций надо отправлять оказиями. Ну, довольно о фронте, тебе ведь надоело. Как у тебя в садике? Хорошо, правда? Как дочурки Деюся? Загорела, небось? Вспоминает папку? А Муська сосет пальчик? Приказываю (по-военному) ей прекратить эту штуку. А Ольчик все суетится? нервничает? Бедная кошечка! Как мне больно при мысли, что я не могу обеспечить тебе хоть немного покоя и облегчить борьбу за существование. Остается столько надежда… Тихо. Сейчас пойду полежать в сосновый лесок на густом мху. Какой воздух чудный там! Лежишь и так легко, легко делается на душе и время бежит незаметно, пока пальба опять напомнит тебе об ужасной жестокой действительности. Олюльчик! Голубка моя худенькая! Пишу и почему-то вижу тебя в красной кофточке с коротким рукавом (у тебя была такая), но не стриженой. Ну такой, какой ты была на Разъезжей… Не знаю почему, а стал часто-часто думать о тебе и все вижу тебя или на Разъезжей или Невском, 33. Хочется думать о тебе как о своей возлюбленной, думающей только о тебе, о любви, а не хозяйке и матери двух девочек. Так хочется отбросить будничные заботы о завтрашнем дне с этой грязной Фимой, грубой, так хочется вернуть и свою и твою молодость… Эх! Напрасные мечты! 17 июня 5 ч. Дня. Ну и перепалка была вчера вечером и всю ночь. Поляк обошел сзади и начал палить. Отступаем. Опять много раненных. Сегодня мы будем наступать. Жаркий день. Солнце палит невыносимо. Устал. Завтра едут два санитара в Витебск за медикаментами и я пошлю ими это письмо. Хотел организовать тебе посылку, не поверишь, руки не берут ничего делать, апатия и притом постоянное напряжение внимания. Письмо мое как дневник, обрывками как обрывочно все переживания и впечатления здесь на фронте. Ну, довольно. Заканчиваю. Да, вчера получил опять одно из твоих старых писем. Жду новенького. Целую моих девочек и сою возлюбленную кошечку. Лазарь. 23 июня 1920 года. Фольварк Фулуполь(?) 7 ч. Вечера. Тяжело без тебя, Олюньчик. Опять безумно затосковал. Если бы ты была со мной, то я был бы всем доволен и переносил бы стойко все трудности фронтовой жизни. В эти сутки было спокойно. Ни мы, ни паны не наступали и было тихо. Сейчас прошла гроза, стало светло. Молнии еще сверкают, и гром гремит. Опять пошел дождик. Команда забралась в больной сарай, я тоже. Вытащил из панского дома ломбардный столик с зеленым сукном и засел поболтать с тобой. Скучно. Не с кем поделиться. Нечего читать. День тянется бесконечно. Приходят с позиции больные, осматриваешь их, отправляешь дальше или отправляешь на несколько дней при отряде отдохнуть. А потом шляешься по лесу, по саду. Тяжело одиночество. Не с кем даже поговорить. Народец все неразвитый, грубый, в полку интеллигентных очень мало. Когда много раненных и кипит работа, тогда не чувствуешь как пролетает время, а при затишье — смертельная тоска. Голубка моя! Ольчик Ведь только три недели назад как я видел тебя и кажется, что прошла уже целая вечность. Пролетели быстро денечки и кажется сном мое пребывание у тебя. А сердце так ноет, так ноет и так больно, больно. К тебе хочу! Понимаешь? В обстановке вражды и классовой ненависти и смерти так хочется ласки любимой, так нужна близость дорого существа. Олюньчик! Деточка! Хорошая Любишь? Да? Почему же ты не пишешь? Целую крепко тебя и дочурочек. Лазарь. 13 июля 1920 года. дер. Погарцы Виленской губ. Дорогая Олюшечка! Вчера получил твои два письма, посланные уже давно еще в Петрозаводск. Пока после отъезда не получил еще ничего. Теперь мой полк все время в боях, походов очень много. Много бессонных ночей под грохот артиллерии. После временного отступления мы снова наступаем. Последние дни меня страшно измучили и я чувствую себя страшно разбитым. Белорусские деревни страшно грязные, «халупы» без полов и я предпочитаю спать в сараях, когда не холодно. Притаюсь удовлетворительно, достаю кой-что у жителей. Еще ни в одном месте не стояли больше суток. Только приляжешь, а тут снова в поход, но скоро, конечно, привыкну и к этому положению. Сегодня очень жарко, скоро будет опять дождь. Особенно трудно делать переходы по дождем. Я переезжаю все верхом, но часто иду пешком, так как верховая езда тоже утомляет сильно организм. Врач Андреев вернулся из лазарета и мне теперь легче немного, хотя он саботажник и лентяй. В общем настроение не важное. Как ты, Олюньчик, справляешься? Как детишки? Скучаю очень по Вас, тоскую. Хоть бы скорей разбить панов проклятых! У меня начало пошаливать сильно сердце и появилось в последнюю неделю много седых волос. Скоро стану совсем старичком и принять меня не захочешь. Не знаю, когда получишь это письмо, ибо с почтой беда теперь, мы далеки от города с железной дорогой. Переживаний так много и впечатлений тоже, что не знаешь с чего начать описывать, как это всегда бывает. Много интересных для наблюдений над психологией человека, идущего навстречу смерти и только что пережившего смертельную опасность. После боя люди большей частью похожи на пьяных, сильным упадком всех душевных способностей. Некоторые страшно возбуждены, другие апатичны, и был случай, когда два красноармейца заснули в окопах во время жестокого боя. Особенно тяжело, когда среди убитых оказываются твои близкие знакомые, а в последних боях много моих приятелей в полку погибло, молодых, красивых, полных веры в жизнь и так тяжело становится, когда узнаешь про смерть того или другого. Один лекпом мой ранен и взят в плен. За меня все-таки не беспокойся, так как перевязочный пункт работает не под выстрелами, хотя и близко от окопов. Фронт — это суровая, но хорошая школа. Здесь выковываются характеры, хотя порой и треплются. Ну-с, целую крепко, мою любимую Олюньчик, не тоскуй, не забывай, береги деток Дейку и Муську, целую крепко. Ваш папка. 18 октября 1920 года. Лагерь военнопленных в Рембертове (около Варшавы) Моя дорогая, любимая Олюньчик и дорогие деточки Деюся и Муся! Уж несколько раз я оказиями посылал весточку о себе, но не знаю, попала ли хоть одна весточка. Я жив, с 21 авг. в плену. В настоящий момент живу сносно, питаюсь недурно. Работаю, как врач, среди пленных. Тоскую по дому безумно. Пользуюсь относительной свободой. Имею газеты, книги. Научился уже читать польские газеты. Мир заключен и ждем обмена пленных, надеюсь, что еще увидимся. Не тоскуй, береги свое здоровье и деток, не жалей ничего для питания. Я верю в тебя и знаю, что как-нибудь справишься в тяжелое время, обо мне не беспокойся, если я остался цел до сих пор, то выживу и дальше. Немедленно сообщи обо мне моим старикам; живы ли они и удастся ли мне увидеть дорогих старичков? Как мало прожито, как много пережито. Как Деюська? Мусинька? Здоровы ли, от тебя я не жду писем, ибо нет сообщения. Живу я вместе с д-ром Темкиным, с которым кончил вместе факультет и это значительно облегчает наше положение. Я уже обут одет и имею уже пару теплого белья. Безумно хочу быть здоровым, чтобы опять увидеть вас, мои деточки! Рано или поздно, а когда-нибудь должны же сбыться мечты. Мысли бегают, много-много хочется сказать, но… Оставим до личного свидания. Целую, Олюньчик, твои светлыя глазки, твои худенькия руки, моя близкая, любимая! Не забывай меня, я — жив! Кланяйся счастливым, свободным друзьям и знакомым. Твой до смерти Лазарь. 6 ноября 1920 года. Тарту. Сообщаю, что Ваш муж находится в польском плену, жив и здоров, работает между больными. В качестве врача в лагере для военнопленных около Варшавы. Он вам писал, но Вы этого письма по другим причинам не могли получить. Можете ему писать по адресу: Эстония, г. Тарту, Пермививрик (?), господину Таль, для передачи Геллерштрему. Я.К.Геллерштрем. 21 декабря 1920 года. Петроград Позвольте Вас уведомить, что муж Ваш жив здоров, цел невредим, находится в плену у поляков, около Варшавы в одном лагере вместе с моим сыном. Мы от него получили сегодня письмо в котором просит известить Вас. С почт. М.Темкин. 14 января 1921 года. м. Ружаны, Ломжицкой губ. Дорогая женушка Ольчик! Если получишь это письмо, то знай, что оно — не первое, я уже послал и через Америку и через Германию и Эстонию, но все же не уверен, что ты хоть одно получила. Поэтому каждый раз повторяюсь: я в плену с 21-го авг., то есть скоро уже пять месяцев. Как жил и поживал, расскажу, когда опять будем вместе. В настоящее время я работаю в полевом госпитале, где лечатся и наши пленные и польские солдаты. Питаюсь хорошо, отношение хорошее. Пишут, что скоро будет обмен пленных. Приходится ждать и надеяться. Как твое здоровье! Измучилась, бедняжка? Ну, ничего не сделаешь, авось еще улыбнется и счастье. Как наши детские Леюся и Муся. Наверно, уже не узнаю их, как приезду. Олюньчик! Детка! Береги себя и деток, не жалей ничего, лишь бы НЕ ГОЛОДАТЬ. Обо мне не беспокойся, как-нибудь проживу. Погода теплая, морозов нет совсем, а теперь 14-го января идет дождь. Деюсю крепко целую в день именин 29-го января. Когда приеду — справлю именины еще раз. Только что я окончил обход всех больных, немного устал, но теперь я свободен на целый день. Живу я, как уже писал, с коллегой д-ром Темкиным. Мы неразлучны со дня пленения, и это скрашает неволю (так в ориг.). Это письмо посылаю через Польский Кр. Крест, надеюсь, что получишь. Целую крепко моих деток. Ваш папа. 15 января 1920 года. Тарту. М.Г. Сообщаю, что Ваше письмо от 24/XI я получил сего 14 янв. и переслал его Вашему мужу. Он в плену с авг. м. и находился в лагере для военнопленных в Рембертове, близ Варшавы. Может быть, он теперь в другом лагере. Письмо попало к знакомым в Варшаву, которые всегда будут знать его местонахождение. Адрес его знакомых: Варшава, Купецка 12, м. 3. Муровник. Вместе с ним находится в плену д-р Темкин, родители которого живут в Петрограде, Б.Московская, № 11, кв. 8. и др. Ирдер, жена котораго живет в Москве, Девичье поле, Долгий пер. 18, кв. 2. Очень рад, что мог исполнить свой долг к ближнему. С совершенным почтением Я.К.Геллерштрем 12 февраля 1921 года. Нью-Йорк Уважаемая г-жа Гиндина. Только что я получил письмо от моего брата — врача Темкина — пленника в Польше с просьбой уведомить Вас, что Ваш супруг, доктор Гиндин, находится в плену вместе с ним и он здоров. Спецу послать вам эту весточку, так как знаю, с каким нетерпением Вы ее ждете. Ваш муж и мой брат находятся в местечке Ружаны, Ломжинской губ. Это адрес моего брата. Думаю, что и для вас этот адрес хорош, если можете послать письмо каким-либо путем. За последнее время им живется сносно. Такова ирония российской действительности: из Ломжи в Гомель — через Нью-Йорк. Буду надеяться, что сие письмо прибудет, когда Ваш супруг уже вернется. Примите наилучшие пожелания от незнакомца С.Темкин. 23 февраля 1921 года. Белосток. Дорогая Ольчик! Я здоров, уже две недели как живу в Белостоке и работаю в военном госпитале. Я совершенно свободен и хожу куда угодно. Бываю на собраниях эсперантистов и в кинематографе, так что немного ожил. До сих пор же жил как-нибудь, о чем расскажу лично. Надеюсь, что скоро увидимся, так как обмен пленных должен скоро начаться. Как девочки? Береги себя, не переутомляйся, не тоскуй. Все пройдет и «будет радость» после долгой разлуки. Я питаюсь хорошо, так как получаю бесплатный офицерский паек. Имею книги и журналы. Газеты тоже, конечно, не русские. Живу вместе с коллегой Темкиным, с которым не расстаюсь вовсе время пленения. Здесь уже почти весна: солнышко греет сильно. Тает, да и зимы почти не было: все время было тепло. Я уже опять имею обувь и одежду (немножко походил босиком…) Ну да ничего. Самое скверное осталось позади. Теперь как-нибудь выберемся опять к дорогим деткам. Ну, до свидания. Целую моих девочек, твой Лазарь. П.С. Это письмо я посылаю через эксперантистку в Эстонии. Ответ посылай через: г. Дрезен, Ревель, Эстония, п.ящ. 6. Белосток, 23 февраля. 1921 г. Дорогая Ольчик! Вчера, ровно через полгода после пленения (взят в плен 21 августа 20 г.). Я получил твое маленькое письмецо, присланное мне из Эстонии и посланное тобою 24.XI.20. Я не могу описать тебе то, что испытал я, измучившийся и истосковавшийся, когда увидел написанные тобою столь дорогим для меня почерком. Я плакал, как дитя. Но не время теперь описывать переживания. С тех пор, как я передал письмо через Эстонию, утекло много воды. Я уже переменил четыре раза свое местопребывание и слишком много перенес. В настоящее время работаю в военном госпитале в Белостоке, с 10 февраля, и живу хорошо, то есть сыт, имею книги, газеты, хожу в эсперантское об-во. Писал тебе много раз и не писал своего адреса, ибо менял место неволи. Не забудь, что я в чужой поле. Теперь живу полнее, чем в первые 5 месяцев, и надеюсь, что все-таки скоро вернусь. Как наши девочки, Деюльсик и Мусинька? Дея уже, верно, барышня, и забыла своего папку, а Муся и знать его не захочет. Ну, что ж, такова судьба! А я их помню и очень крепко. Когда прохожу по улице и вижу людей, я долго не могу уйти, мне хочется ласкать каждого ребенка. Ох, как я измучился! Олечка! Деточка! Береги себя и девочек. Помни, что ты дороже мне всего и вех и после летаргического сна пленения, после кошмара, еще как захочется жить! Я чувствую такой избыток энергии в себе, придавленной, униженной и оскорбленной всем пережитым. Беспокоюсь, чтобы ты не потеряла квартиры, хотя я и строго другие писали о жизни после возвращения. Но все это мечты! А пока я знаю, как тебе приходится… Боюсь за тебя, Ну, а старички мои? Не верю, чтобы было благополучно. Бедные мои старички! Живу я с самого начала пленения с д-ром Темкиным, из Петрограда. Нам удается все время получать назначения в одно и тоже место. Я получаю жалованья 1000 марок в месяц и бесплатный офицерский паек (хлеб, сахар, крупу, картофель, чай и пр.). Готовим себе сами. Говорю уже и пишу немного по-польски. На днях начинаю учиться говорить по-английски. Узнал на днях адрес Медема и Ковне — и напишу ему. Имею эсперантские книги и журналы. Во всей Европе опять сильно начинает возрождаться интерес к Эсперанто и во всех странах организуется масса курсов, но до сих пор я никак не мог связаться ни с кем. Это письмо посылаю опять по адресу эстонца и одновременно пишу на адрес нескольких эсперантистов в Эстонии для пересылки тебе. Вот все. Целую крепко моих девочек. До скорого свидания. Лазарь. 10 марта 1921 года. Белосток Дорогая Олюньчик! Я здоров. Работаю в военном госпитале в Белостоке. Госпиталь стоит в сосновом лесу в четырех верстах от города, но я каждый день гуляю в город. Питаюсь хорошо, но тоскую безумно. Здесь уже полная весна. 1-го марта переживал вместе с вами день рождения Мусиньки. Жива ли? Здорова ли? А Деюся? Я купил много книжек с картинками, надеюсь, что скоро все-таки начнут посылать домой ибо как договор о пленных, так и все приготовления к обмену здесь уже готовы. Но дни идут и солнце греет и душа болит и волосы седеют… Недавно послал тебе два письма: через Ревель. Пиши на адрес Геллерштрема, он мне перешлет. Если бы я знал, что все вы здоровы, что старички мои живы, я пережил (бы) неволю легче, но неизвестность так мучительна. Стараюсь не оставаться одному, а после работы гуляю до усталости, чтобы сразу засыпать, не думать, не думать… Лицом я даже теперь выгляжу полным, но весь измучен, постарел, боюсь, что разлюбишь, когда приеду. Ну, а авось как-нибудь обойдется. А ты, Олюшечка, будь молодцом, главное себя береги, помни, что жизнь еще впереди, что я скоро вернусь и вся любовь, вся жажда жизни как бурный поток весенний должен снести все препоны и вдвоем мы как-нибудь справимся с жизнью, как бы она ни была тяжела. Ибо я все знаю… и все-таки стремлюсь к тебе, к девочкам нашим, ибо не единым хлебом жив человек. Жди меня, не тоскуй, ведь ты тоже уже прошла маленькую школу и знаешь, что все пройдет и будет радость. А я стал чудаком: когда иду по улице и вижу детей, то останавливаюсь, буре за ручки, целую и нередко матери (…) ________________ Конец письма утерян. 23 марта 1921 года. Осовец, Гродненской губ. Дорогая Ольчик! Опять я на новом месте: в госпитале военном в Осовце (50 верст от Белостока). Устроился. Комната на втором этаже среди соснового леса. Питание хорошее. Только окончательно оборвался. Все истрепалось. Но авось скоро все-таки пустят домой. Больных мало и я почти свободен целый день. (Здесь я всего два дня). Здесь много русских сестер старой формации, но я держусь все время особняком. Живу вдвоем с одним знакомым, пленным врачом из Москвы. Здесь весна в полном разгаре, но на душе еще тоскливее от яркого солнца и пения птиц. Мысль вся и чувства принадлежат Вам, мои дорогие деточки. Как-то Вы там? Пишешь и не знаешь, получишь ли письмо. А Деюся и Мусинька? Ведь я им буду как чужой, когда приеду, не захотят знать такого злого папку, так надолго оставившаго их. Но когда вырастут и узнают всю жестокую правду жизни, то думаю, что простят. Сегодня пурим и через месяц уже Пасха, а весна идет, не ожидая нас. Ну будем также тверды и полны веры в лучшее будущее и совместное счастье и будем ждать… Ждать. Целую моих деточек, пусть понят, что папка их крепко, крепко любит и тоскует. Твой Лазарь. Апрель 1921 года. Юрьев. Глубокоуважаемая госпожа Гиндина. Счастлив переслать вам сесть от Вашего супруга. Обмен пленных начался и можно поэтому ожидать, что он скоро будет у Вас, думаю — что это письмо от него последнее, надеются быть дома в мае. Слава Богу, что самое ценное — жизнь его и семьи осталось. Я также был в плену, в Рембертове, по внешности потерял всякое человеческое достоинство, унижения неописуемые и только благодаря случайности, я родился в Эстонии — был освобожден, спасен. Прибыв к семье, я должен был узнать, что двое из моих четырех детей умерло — остальные и жена, к счастью, здоровы, и я мог их отправить к родственникам в южную Германию. В скором будущем я, по получении разрешения, также туда поеду, где думаю, по своей профессии — в качестве бухгалтера — устроиться и все тяжелое останется позади нас, того же желаю и Вам, время лечит наши раны. С пожеланием всего наилучшего Я.Геллерштрем. Осовец, 4 апреля 1921 года. Эсперанто Мой ангел! Я послал уже несколько писем, но не уверен, что ты их получила и знаешь о моей судьбе. Я жив и здоров. Работаю врачом в военном госпитале и уже много раз бродил по месту моего плена. Когда я не работаю, то могу свободно ходить по всему городу. Я тепло одет (сейчас весна…), у меня есть книги, еда. Работает комиссия по обмену военнопленных, т.ч. я надеюсь, что мы еще увидимся. Береги свое здоровье, помни, что ты уже не девочка, и жизнь также. Целую тебя крепко и моих девочке. Твой Лазарь. 8 апреля 1921 года. Осовец. Дорогая Олюньчик! Я здоров. Работаю уже две недели в военном госпитале в Осовце, куда я переведен из Белостока. Сыт, обут, одет. Имею медицинские книги, читаю уже хорошо польские газеты и книги. Получил твою открытку, посланную в ноябре Геллерштрему. Береги себя и деток, и не тоскуй. Обо мне не беспокойся, мне хорошо. Боюсь только за тебя, что б тебя не измучила тяжелая жизнь. Я хочу тебя видеть той же Олечкой, веселой и жизнерадостной. Напиши моим старичкам. Бедные, бедные! Живы ил они? привет родным. Целую тебя, Деюсю и Мусиньку. Отвык уже от этих имен. Не скучай, верь и надейся. Твой Лазарь. 16 апреля 1921 года. Осовец. Моя любимая! Уже и каштаны под моим окном зеленеют и сирень скоро расцветет — а я все еще один, а ты с дочурками тоскуешь, наверно, еще больше. Кто не страдает — тот не живет, у того нет великого ощущения счастья в радости. Еще немного и я опять буду с тобой. Здесь есть маленькая, голубоглазая девочка у одной сестры и я вожусь с ней, тоскую по своим. Мне необходимо забвение, если б я имел бы деньги, то наверно запил бы. Я не могу оставаться одним. Ведь здесь только маленькая часть моего «я», а весь я там, далеко у тебя. Здесь еще отравляюсь слухами, ложью, делающими больно и при всей своей вере начинаешь колебаться. Душа застыла в ожидании и надев маску, живешь автоматически. Единственное удовольствие это пение с пленными. В чудные вечера собираемся на лужку и тянем русские тоскливые песни и каждый вкладывает в них всю свою тоску, всю жажду жизни замершей, подавленной. Моя близкая, любимая! Переноси стойко испытания, не падай духом, сохрани радость жизни — ибо жизнь все-таки красива и дает часто награды: ведь один взгляд твоих любящих глаз искупит при возвращении все мои страдания, и может быть, и ты найдешь во мне, как бывало, радость для себя. За материальную сторону жизни моей не беспокойся: живу в чистоте, одет, обут, сыт. Мой коллега д-р Темкин, с которым я теперь расстался (он остался в Белостоке) нашел свою «суженую» в плену и женится, но едет в Россию. Случай царствует в мире и все преходяще. Береги себя, береги свою душу, не озлобляйся, учись у детей инстинктивной радости и ощущению жизни. Олюньчик! Что бы ни стало — а приготовь огород. Попроси Грушу от моего имени, он тебе поможет. Я хочу по приезде рвать редиску, поливать огурцы и отдохнуть… Отдохнуть. Деточки мои! Пусть каждый весенний день говорит вам, что яркое солнце победило мороз и растопило снега, а Пасху уж будем праздновать, когда все мы воскреснем и у меня будем «исход». Целую крепко. Ваш папа. Родным и друзьям привет! 11 мая 1921 года. Осовец. Моя дорогая Олюньчик! Какая радость Я получил на днях твое письмо от 19 марта с/г, которое меня нашло каким-то чудом, так как я переменил с Рембертова 4-5 раз место. Спасибо, деточка, за весточку, я немного успокоился. Только жаль, что ты до марта не получила ни одного из многочисленных посланных тебе разными путями писем. А в последнее время я почти каждый день тебе пишу. Последние два месяца я живу хорошо. Работаю в госпитале, питаюсь хорошо и главное квартира хорошая: кругом сосны, каштаны под самым окном, сирень. Гуляю много. Читать не могу ничего, кроме газет (читаю уже хорошо по-польски). Здоровье у меня не совсем хорошее, то есть здоров, но нервная система совершенно расстроилась, до чертиков, надо будет полечиться по приезде. А скоро кажется отправляют в Россию одну партию (медицинский персонал пойдет в последнюю очередь). Это письмо я и посылаю пленным. Я счастлив, что у тебя все благополучно, но боюсь за тебя, что ты устанешь измучишь себя, а ты еще так молода и жизнь еще впереди и в самую пору расцвета приходится так много работать. Моя девочка! Любимая! Умоляю тебя береги себя, не переутомляйся. Дейку я даже себе не представляю и Мусю тоже. Неужели у меня уже две невесты-дочери? А приданого еще на гроша. Придется надеяться только на их красоту и таланты. Олюньчик! Не тоскуй, подожди еще немножечко. Все будет хорошо. Кланяюсь Любе, Рае, Грише, Белзе с семьей. Думаю, что поспею к Гришиным огурцам. Целую крепко моих девочек. Папа. 18 мая 1921 года. Осовец. Дорогая Олюньчик! Твое письмо от 19 марта я получил, хотя я с Рембертова переменил уже несколько раз местонахождение и вот уже два месяца работаю в госпитале в Осовце. Природа здесь роскошная, комната у меня в лесу, под коном сирень. Сыт. Но завтра уезжают все пленные из госпиталя в Россию, а медицинский персонал пока еще оставляют до особого распоряжения. Станет еще скучнее. Твое письмо улучшило мое настроение, но все же я нервничаю очень. Удивляюсь, что ты не получила до марта ни единого из многочисленных посланных тебе разными способами писем. Я пишу тебе часто, зная, что много писем пропадет. Хотя я ничего особенного в них и не пишу. Но все — же, дорогая, в июне-июле буду вероятно дома. Думаю, что по приезде дадут все-таки немного отдохнуть дома, а то я стану совсем инвалидом. Деточка моя! Любимая! Ты пиши моим старичкам, и Оле, а то я, скверный, большей частью пишу тебе, ибо вообще с трудом сажусь писать, не зная, дойдет ли письмо. Береги себя, голубка, не переутомляйся. У тебя ведь слабое сердце. Обо мне не беспокойся, цел буду. Кланяйся Любе, Грише, Белзе, Рае с сестрой и всем знакомым. Деюсю и Мусиньку крепко целую, папа по ним тоскует. Твой Лазарь. 16 июня. Осовец. Дорогая Олечка! Едет случайно одна из сослуживших в лазарете санитарок в Россию и я опять, как неоднократно, пробую переслать тебе весточку. Я здоров. Уже три месяца подряд работаю в крепости Осовец. Жду отправления домой. Предполагалось отправить 15-го июня, но опять какая-то задержка. Твое письмо от 23 марта сего года, посланное в Рембертов, я как-то чудом получил. Также я списался опять случайно с А.Котик из кооператива, которая мне много сообщила о твоей жизни и детках. Я уже так исстрадался и изнервничался, что не знаю, что со мной будет. Я брежу тобой вслух, не сплю и все думаю о тебе и детках. Боюсь за тебя, главным образом, чтобы ты не измучилась, ибо у детей жизни больше, они переживут как-нибудь физические невзгоды, у них все впереди, а тебе, тебе — ведь жить хочется, Моя девочка! Потерпи еще немного, авось все-таки отправят меня наконец, забыли совсем про нас… Больно, но ничего не сделаешь. Будем ждать. Привет родным, напиши старикам. Целую крепко. Твой Лазарь. 23 июня 1921 года Осовец. Моя светлоглазая девочка! Вчера получил твое письмо от 23 мая с/г. Ходил целый день и пересчитывал, вглядываясь в каждую букву, сегодня опять читал. Счастлив, что ты не унываешь, ждешь и надеешься. Счастлив за наших деток, черненькую и беленькую, лишенных на данное время отцовской ласки. Верю, что ты даешь им то, что нужно для маленьких крошек: нежное внимание и мудрую любовь. Моя Олечка! Моя голубка тоненькая! Спасибо, что успокаиваешь меня своими письмами, но все же на душе у меня тревога. Не говори! знаю… Вдвоем то нам не будет страшно. Я многому научился за последний год, о многом передумал в длинныя зимния ночи и ничто не изменило моего миросозерцания; я по-прежнему люблю жизнь, красивую, полную борьбы, мысли и по-прежнему заклятый враг мещанства и надеюсь, что нам еще будет хорошо. Я знаю, что проза житейская тебя охватила, ибо ты вся в борьбе за существование, но верю, чтобы сохранишь свежесть души, ясные очи свои и неозлобленное любящее сердце… Я так истосковался по тихой, стыдливой ласке твоей. Часто мне грезится, как твои тонкие руки касаются меня, мне делается так хорошо, но это только на миг — я один, один… Не удивляйся моему сентиментальному настроению: в саду под окном целый день накрапывает мелкий дождик, уж несколько дней не было солнца. Коллега, с которым я живу, тоже тоскует и лежит на кровати. А я зачитался польским беллетристом Реймонтом и одна новелла его навеяла на меня такую грусть… Ты хочешь приехать меня проведать, деточка? Спасибо. Но, голубка, это очень трудная и вряд ли возможная вещь. Подождем еще немного. От м-м Котик я получил еще согласно своей просьбе подробное письмо, где она сообщила мне не совсем утешительныя сведения об условиях городской жизни, о ценах и т.д., но я знаю, что ко всему приспосабливаются. Она с большим трудом пробралась сюда. А насчет Питера и лечения зубов, то, деточка, я даже прошу тебя об этом, береги свое здоровье. Вылечила ли ты грибок? Вначале моего пребывания здесь, не имея щетки и порошка, я сильно попортил свои зубы, но теперь при госпитале я их подлечил и кроме усталости и нервного потрясения я чувствую себя хорошо. Недавно снимался с коллегой и одним приятелем, послал бы тебе карточку, но боюсь, что она пропадет. Твоя карточка с Дейкой пропала у меня, как и все… и я часто стараюсь мысленно представить тебя и Дейку и мне кажется, что получается не то… А личико Муси я помню, как сквозь сон, помню только голубые глаза и больше ничего. Сердечный привет Любе, я знаю, что она хорошая, еще с Екатеринослава, и верю, что тебе с ней хорошо. О моем чувстве благодарности, конечно, словом нельзя передать. Родным твоим привет, друзьям — тоже. Целую крепко моих девочек. Ваш папка. 30 июня 1921 г. Дорогая Олюньчик! Спасибо, деточка, за письма: на днях получил одно за другим 2 письма от 25/V и 31/V. Радости моей нет границ, но еще сильнее затосковал: не видно просвету, совершенно неизвестно о нашей отправке, так и кажется, что никому нет до меня дела, забросили куда-то и сиди без конца, работай и умирай от тоски и беспомощности. Ну что из того, что я сыт? Все-таки мне кажется, что родина относится к нам халатно и это очень больно, больно до слез. Почему медицинский персонал должен быть отправлен в самую последнюю очередь? За какие грехи? Не понимаю. Слишком медленно идет обмен, чья вина — не знаю. Прости меня, голубка, что я сегодня пессимистически настроен, но надоело, надоело; хоть бы знать определенно — когда, тогда легче бы было. А ты и не думай пробираться ко мне — не выберешься потом, ад и не хочу, чтобы ты видела меня со связанными крыльями и беспомощным. Нет ни одного близкого друга, зачерствела душа и тело от слабости нервов хочется плакать в бессилии. Деточка? Олечка! Голубка моя! Родная! Ты не тоскуй, тебе ведь легче, около тебя детишки с черненькими и голубенькими глазками и близкие люди — а я один. Да, тебе материально тяжело, но это не так больно, как одиночество. Ну, довольно ныть. Не знаю почему, или благодаря дождливой погоде, или потому, что сегодня я уже заметил на деревьях маленькие груши и яблоки, что напомнило о лете — но сегодня мне грустно. Но довольно. Ну как ты провела время в Петрограде? Поправила ли то, что тебе нужно было? Как живут Давидовичи? Привезла ли мое зимнее пальто от Раисы? Видишь, как сразу вошел в хозяйство… Безумно хочется заботиться о тебе, о детишках. На днях купил за накопленные 1000 марок ботиночки для Деи, высокие, светло-желтые, чтобы возможно было привезти домой. Но я их поставил на столе и долго ими любовался… Хотелось плакать… Не знаю отчего. Каждый день я их вынимаю из коробки и гляжу на них… Мне кажется, что в них уже были ножки Деи. Ведь у меня ничего нет, что напоминало бы о тебе и Дейке… Даже карточки нет, вообще ни одной вещи, с которой я уехал из дому, ни одной книжки, даже твоей сумочки для носовых платочков (твой подарок) тоже нет… Оленька! Голубка! пришли мне карточку, умоляю. На днях я послал тебе свою карточку и старикам моим тоже, в это письмо опять вкладываю карточку. Если получишь обе — отдай одну близкому для тебя человеку, который делил с тобой печаль дней одиноких. Целую тебя и деточек крепко. Береги себя, желанная моя, любимая! Любе серд(ечный) привет и другим родным. Твой Лазарь. Адрес тот же. 5 июля 1921 года. Осовец. Моя близкая! Любимая! Недавно получил твои два письма от 23/V и 32.V и уже послал тебе пару писем со своими фотографиями. До сих пор еще каждый день перечитываю твои письма и каждый раз нахожу в них что-нибудь новое. Мне хочется почувствовать, какая ты теперь и любишь ли меня как прежде, как возлюбленного, или только как мужа и отца. Я так безумно хочу представить себе тебя, твои руки, голосу, глаза, твои ласковыя любящия глаза, и представь себе, вижу тебя, почему-то все деловой, озабоченной. Тогда я стараюсь вспомнить Питер и это мне хорошо удается: я вижу тебя у Марьи Дмитриевны, у себя и у шкафа Эсперанто в Институте. Таким далеким, таким хорошим кажется это время. Но больше всего я люблю вспоминать тебя такой, какой ты пришла ко мне в первый приезд мой в Горки, к скамеечке, в сумерки. Пришла и без слов тихо прижалась ко мне, вся белая, тонкая, святая. Пронесем ли мы через всю цепь тяжких испытаний нашу душу и нашу любовь такой же чистой, хорошей, бескорыстной, какой мне кажется, она была тогда? Стоят чудные летние дни. Вчера было ровно год, как я тронулся с места с фольварка… хоть убей, забыл название. Я, кажется, в прошлом году тоже 3-го или 4-го писал тебе от туда. Плен вычеркнул у меня из памяти много названий и имен, только даты помню хорошо. Гуляю каждый день далеко за крепость, к деревням. Вчера нашел во ржи много, много васильков, а у моста незабудок, и васильки мне напомнили глазки Муси и мне все хотелось сплести венок… Как видишь, я превратился в мечтателя, сентименталиста. Вечером читаю «Дядю Ваню» Чехова. Чехов как раз подходит под мое грустное настроение и его теперь перечитываю. Именно теперь, когда большинство устало от борьбы за существование и мысли о насущном хлебе, когда кажется, что в недалеком прошлом, при масле, сыре и всем добре было прекрасно, полезно читать Чехова, чтобы увидеть, что самый страшный враг это — пошлость, и что есть и должно быть у каждого человека что-то высшее, прекрасное, чего никто у него отнять не может. Голубка моя! Пиши мне часто, если можешь, пришли фотографию; как я измучился! Хочу тебя видеть, слышать, хочу играть с детишками и слышать их звонкий смех, я изболелся душой, чувствую, что нет сил больше. А ты не оставляй деток, о поездке ко мне и не думай, что неосуществим. О конце моего заграничного житья ничего не слыхать. Разве дело идет теперь об отдельных человеческих личностях? Не тоскуй, ты ведь дома, с тобою детки. Крепко целую тебя, Дейку и Мусиньку. Привет Любе и всем родным. Твой, только твой Лазарь. 23 июля 1921 года. Осовец. Моя дорогая девочка! Уж целый месяц, как я не имею от тебя писем. Стало так тоскливо, без них. Я пишу тебе часто. Письма мои, конечно, однообразны, как однообразна моя жизнь. Вчера, гуляя вечером один по аллеям крепости, я впервые на тополях заметил желтые листья и стало понятно, что лето уже идет к концу. А как недавно еще цвели под окном каштаны! Скоро год как я томлюсь, но надеюсь, что скоро будем вместе: не позже сентября. Если бы иметь от тебя частыя весточки, время бы шло куда быстрей — и я не чувствовал бы так одиночества. В настоящее время я занят рыбным спортом: в 4 часа утра я и еще один сосед отправляемся на речку, ловим плотву, окуней, а главное дышим свежим утренним воздухом. Это занятие прекрасно действует на мою истрепанную нервную систему. Следя за поплавком, за отражением прибрежных деревьев и кустов в зеркальной воде, не думаешь ни о чем и делается легко. От 9-ти утра до 12-ти работаю в госпитале, затем читаю газеты. В 2 часа обед. От 4-х до 6-ти опять в госпитале, затем на станцию встречать и провожать проходящий поезд… Я тебе уже писал, что хождение к поезду одно из разнообразий нашей жизни. Видишь каждый день несколько новых лиц, главное — видишь движение. Недавно встретил проезжающего эсперантиста с зеленой звездочкой: подошел и разговорился. С полчаса беседовали. Опять разнообразие. Вот видишь, как мало я могу сообщить тебе о моей жизни. Живу на всем готовом и не о чем заботиться… А вот ты-то как? Вот мысль о тебе, о девочках наших, о старичках моих, не дает мне покоя. Когда я представляю себе борьбу за существование у тебя — мне делается стыдно и больно что у меня так много свободного времени. Но я приеду, моя Оленька, я только несколько дней отдохну и опять стану сильным и вдвоем нам будет легче и ничто не будет страшно. Только люби, не забывай, стереги деток, береги себя, береги свою молодость, молодость души. Верь, будет радость! Жди меня, уж мало осталось. Целую крепко тебя всю, мою близкую, любимую. Дейку и Муську безумно целую. Ваш папа. 5 августа 1921 года. Белосток. Дорогая женушка Ольчик! Сейчас отправляется последняя партия пленных из Белостокского лагеря, куда я прибыл из Осовца. Я же остаюсь работать еще в 3-м госпитале, в Белостоке. Вероятно, пробуду еще 1-1,5 месяца. Чувствую себя хорошо. Живу один. Жду от тебя писем. Напиши немедленно о твоем здоровье и о детках. Я так взволнован отправкой многих товарищей, с которыми я много аз встречался в разных местах плена. Они, вероятно, тебе напишут по моей просьбе. Живу теперь в 4-х верстах от города. Думаю, что за работой месяц пролетит быстро. Не скучай, не тоскуй, моя девочка! Моя дорогая! самое тяжелое осталось позади, и если я уцелел до сих пор, то наверно увидимся и нам будет хорошо. Береги себя, моя любимая. Ну, до скорого свидания. Крепко целую тебя, Дейку и Мусиньку. Привет друзьям. Твой Лазарь. 18 августа 1921 года. Тухоля. Дорогая моя Ольчик! Как видишь, я опять на новом месте. В Белостоке я прожил две недели, а оттуда по специальному распоряжению всех врачей собирают в лагерь офицерский, вероятно, уже для отправки домой. Этот лагерь находится далеко за Варшавой, около Познани. Живу вместе с офицерами в бараке, ребята хорошие и довольно весело. Вчера читал им лекцию об эсперанто и сегодня начинаю заниматься с большой группой. Здесь много народных учителей. Сам я у одного пленного начал изучать английский язык. Есть здесь и библиотека. Так как теперь я медицинской работой не занимаюсь, то остается много свободного времени, играем в шахматы и пр. В общем жизнь оригинальная и типы замечательные. Каждый день почти уезжает в Россию по 1000 человек пленных из этого лагеря и мы все чувствуем, что приближается и наш час. От тебя, моя детка, я уже два месяца не имею писем. Но я знаю, что ты не виновата. Ты — хорошая, моя любимая девочка! Через три дня у меня годовщина пленения. Здесь я встретил несколько офицеров знакомых из своей части и узнал про судьбу многих знакомых. Как же ты живешь, моя дорогая женушка? Как деточка Дейка и Мусинька? Я им купил чулочки и мячик в Белостоке, не знаю, удастся ли провезти. А тебе я привезу себя, хорошо? Будет с тебя? А если не захочешь, то отошлешь обратно. Я перестал хандрить среди этой хорошей кампании, жду и надеюсь и верю, что ты моя прежняя, любящая. Целую тебя крепко и деточек, пиши старикам моим. Привет друзьям. Твой Лазарь. 1 сентября 1921 года. Тухоля. Дорогая Олечка! Уже две недели, как я сижу в лагере, откуда мы будем отправлены домой, «вероятно» в сентябре. Здесь теперь собираются все пленные врачи. Мы теперь не работаем, а сидим на всем готовом. От тебя имел письмо только в июне, в Осовце. Итак, идет осень, но теперь мне гораздо лучше, чем в прошлой осени: я одет и сыт. Не беспокойся за меня. Береги себя и деток. Целую крепко. Пиши. Твой Лазарь. 6 сентября 1921 года. Тухоля. Друг мой, возлюбленная моя! Если бы я знал, что ты и теперь получаешь мои письма, как раньше, то писал бы чаще. Но теперь я далеко и в других условиях. Живу в бараке вместе с командным составом, тут же еще 3 врача. Сыт, одет. Ничего не делаю по специальности. Зато читаю много, благо у нас есть библиотека. Играем в шахматы. Я преподаю большой группе эсперанто. И мы уже разговариваем почти свободно. Учатся у меня врачи и много офицеров — бывших народных учителей. Так стараешься провести день, а вечером ходишь кругом барака как «кот у лукоморья» — ходишь, ходишь до усталости, а потом на нары спать. Рано встаем. В общем, было бы не скучно, но… Ты ждешь наверно указания срока, когда я наконец заявлюсь. Но я тебя уже сколько раз подводил, и сам разочаровывался, то не хочу писать, да и ничего не знаю. Вероятно, отправят до зимы, а когда — неизвестно. Изверился уже. Что касается душевного состояния, то оно должно быть тебе понятно. Пишу, а около меня делят довольно искусно только что принесенный хлеб на «порции» — итак, сейчас покушаем! От тебя так и не получил больше ничего поле писем от июня (1-го), вероятно потому, что менял два раза свое местопребывание. А хочется получить хоть одно словцо, что ты и девочки наши живы и здоровы и не голодаете. О стариках моих мне даже страшно подумать: если застану их, то это было бы чудом. Да, все мечты разметались в прах, но я все же мечтаю по-прежнему. Олечка! Детка! Не беспокойся за меня, береги свое здоровье и деток. Я все же пишу тебе часто, авось хоть одно письмо да получишь. Прости меня, голубка, если я дам тебе совет, может быть он покажется тебе смешным. Я знаю тебя, что ты пожалеешь продавать мои вещи, знаю. Но голубка, прошу тебя продай мою диагональ и английскую шубу (у меня есть зимнее пальто) а также ботинки новые и галоши, у меня теперь хорошие сапоги и заготовь сена для коровы. Я знаю, что практически я ничего не смыслю и Гриша наверно поможет тебе советом. Не сердись, любимая. Целую тебя и деточек. Лазарь. 10 сентября 1921 года. Тухоля. Дорогая Олечка! Едет транспорт с пленными в Россию и я пользуюсь случаем написать тебе несколько слов. Много, много писем я посылаю тебе, но вряд ли ты их получаешь. Из Осовца я уехал 1 августа в Белосток, где я поработал две недели в госпитале, а оттуда я отправлен в лагерь Тухоль, где собирают всех врачей для отправки домой. Здесь уже съехались шесть врачей знакомых. Предполагают отправить через 2-3 недели, если не будет никаких осложнений. Чувствую себя хорошо. Ничего не делаю, читаю, играю в шахматы и обучаю пленных товарищей эсперанто. Не тоскуй, моя голубка, уж осталось меньше ждать. Любимая деточка! Здоровы ли наши птенчики? От тебя письмо имел в Осовце от 31-го мая и с тех пор ничего. Ну, я спешу. Целую всю тебя и девочек Дейку и Мусеньку. Привет друзьям. Твой Лазарь. 20 сентября 1921 года. Тухоля. Дорогая Олюшечка! Вчера после месячного перерыва опять из лагеря отправился эшелон с пленными, сегодня идет другой и я с фельдшером моего же полка (случайно встретил его здесь) посылаю это письмо. Осталось еще несколько тысяч пленных, которые должны быть отправлены в течение сентября, если опять не будет осложнений и перерывов. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Постепенно научаешься не верить разным слухам и терпеливо ждать и мечтать о свободе. Вчера окончил читать «Записки из Мертвого дома» Достоевского. Как близко и знакомо все это мне теперь! Переживания, жажда свободы, ненавистная ограда из колючей проволоки, проверки, часовые! Нет настоящего, есть только будущее, как у всех героев Достоевского. Уж больше месяца как я приехал из белостокского госпиталя в лагерь для отправки домой и насколько я пользовался относительной свободой, работая в госпиталях, настолько строгий, часто арестантский режим для командного состава здесь в лагере. Пища сносная. Одежда и одеяло есть. Белье стираем каждую неделю в бане. Но настроение очень бодрое. Кампания хорошая, врачей шесть человек. У нас свой врачебный винт, шахматы, читаем (книги есть) пишем. Чудные солнечные дни и лунныя ночи! Как в прошлом году в лагере Рембертово. Но какая разница в настроении! Теперь все же я чувствую себя человеком, а тогда… Из окошечка землянки видно как отправляющиеся сегодня в Россию партия идет в баню, не идет, а бежит. Чувство скорой свободы придает бодрость всем этим бледным, измученным красноармейцам. Но довольно о себе. Честное слово, Олюньчик, что я совершенно не чувствую материальных неудобств своего положения. Тоска по тебе, по деткам, по старикам, полная неизвестность о вашей судьбе — вот что создает мучительное состояние и мешает спать по ночам — но все же скоро, скоро — Ты, я думаю; уже тоже научилась терпению, страдалица моя? Письмо я посылал тебе с каждым удобным случаем авось какое-нибудь попадет. Будь бодра, береги себя и деточек. Привет Грише с сыном, Бенуа и друзьям. Целую тебя всю и девочек, пиши, твой Лазарь. Пиши на всякий случай! 13 октября 1921 года. Тухоля. Моя дорогая! Не думал я, что мне придется писать тебе отсюда при пожелтевших метелях. Уже два месяца как я приехал сюда из Белостока и ожидаю отправки, сюда же собрали около десятка врачей. 2 октября мы должны были уехать, уже было все приготовлено, даже поезд был подан, но накануне отъезда нам объявили, что мы заложники и не будем пока отправлены. И вот уже вторую неделю мы сидим и ничего не знаем. Здесь еще довольно тепло, солнечные дни. Я одет, обут, имею матрац и одеяло. Пища удовлетворительная. Здоровье удовлетворительное. Не беспокойся за меня. От тебя последнее письмо я имел от 31 мая еще в Осовце, где ты писала, что собираешься в Петроград и 5-й месяц не имею никакой весточки. Тяжело. Старики мои мне за плен ни разу не написали и это наводит на мрачные размышления. Вообще душевное состояние мое невозможно передать словами, одно спасение это то, что народу здесь много и мы стремимся развлечь друг друга и не думать, не думать. Я тебе писал из Осовца, что я купил для Дейки ботиночки, наверно теперь уже малы будут. Не могу писать больше, слезы как-то невольно заволокли глаза. Целую крепко тебя, Дейку и Мурочку. Ваш папа. 22 октября 1921 года. Тухоля. Дорогая моя Олечка! Вчера у нас был праздник: приехал в лагерь представитель делегации и привез нам обмундирование и по паре белья. Но самое главное, что он нам сказал, что поедем в ближайшем будущем. Я тебе пишу очень часто, но не знаю, получаешь ли ты, от тебя же я имел последнее письмо от 31-го мая, где ты писала, что едешь в Питер. Голубка моя! Не думал я, что буду писать отсюда при пожелтевших листьях. Но видно приходится еще потерпеть. — Я здоров. Сыт. За меня не беспокойся. Береги себя и деток. Я тебе уже писал, что ты можешь продать из моих вещей все, кроме книг, только не голодай и деточек (1 нрзб). Прости, моя родная, что я даю тебе советы. Я знаю, что ты делаешь больше чем можешь. Продай мои ботинки новые и обе пары галош (у меня хорошие сапоги есть), а также диагональ можешь продать. Мне не нужно. Не думай о далеком будущем, делай то, что требует момент. А у меня скоро весь лагерь заговорит по эсперанто. Сегодня выходит первый номер эсперантистского журнала в рукописи, редактирую я его. Изучаю английский язык. Заполнил время чем можно, но плохо сплю по ночам думы одолевают. Пиши, как мои старички, ни одного слова за все время плена от них не имел. Не тоскуй, будь бодра, береги свое здоровье. Делегат говорит, что в ноябре будем дома. Будем верить, авось на этот раз будет правда, уж сколько раз разочаровывались. Получила ли ты письмо с моей карточкой? Впечатлений так мало, что не о чем писать, одним словом ждем отъезда, больше ничего. А девочки наши как поживают? Дейка наверно забыла уже папку? А Мурочка и совсем его не знает? Но ты, Олюньчик, еще помнишь? Ждешь? правда? Ну, будьте здоровы, крепко целую, папа. Тухоля, 28 октября 1921 года. Моя родная! Наконец, после четырехмесячного перерыва я получил от тебя письмо от 4 октября. К сожалению, оно застало меня еще в Тухоле. Как видишь, приходится часто разочаровываться. 2-го октября мы должны были действительно уехать, нас уже помыли в бане, одели в чистое белье — но внезапно… Перевели только в другие бараки… Сперва было очень тяжело после такого подъема, но теперь опять вошел в колею и жду. «Публика» наша очень нервничает, телеграммой вызвали члена делегации из Варшавы. Он на днях был у нас, привез обмундирование, обувь и белье. Сказал, что скоро поедем. Но для меня слово «скоро» уже много раз слышанное, потеряло свой обычный смысл. Ясно, что мы — жертва какой-то тайной дипломатии и с нами совершенно не считаются. Эта игра с нашими нервами настолько их обессилила, что мне теперь все равно, что со мной ни случится и может быть мне только кажется, что радость отъезда на родину для меня теперь не будет уж так остра. Измучился я. Но дни теперь проходят очень быстро, так как я занялся изданием эсперантского журнала с иллюстрациями, здесь есть художники. Уже вышло 3 номера. Это всех увлекает, а я занят целые дни, так как большую часть материала, приходится составлять самому. Продолжаю изучать английский. Твое письмо я знаю уже наизусть, так как уже второй день как перечитываю его без числа… У меня развилась настолько фантазия, что читая письмо, мне казалось, что говорю с тобой и слышу голоса дочек. А вот уже 2 года, как я ушел от этой семейной жизни. Как истосковался я по серебряному смеху моей Деечки. О тоске по тебе я не говорю, разве можно ее выразить словами? Одно в письме меня пугает: ты, кажется, нарочно умалчиваешь о моих стариках, как видно желая меня подготовить к чему-то. Все же, моя девочка, я рад, что ты сохранила веру и чувство радости жизни… Спасибо тебе, за ласковые слова. Я так отвык, от хорошего слова, и ласки. Я верю, верю тебе, моя близкая. Если бы у меня не было тебя и веры в тебя, я давно бы уже не жил. А все же дождемся и счастья, ведь заплачено уже заранее столькими страданиями. Целую крепко моих девочек. Папа. Привет друзьям и родным. Пиши! Тухоль, 25 ноября 1921 года. Дорогая Олечка! Я здоров. В ожидании отправки… На днях «чуть» не уехали, даже в бане на дорогу помылись, но опять засели. Может быть тебе из русских газет лучше известна причина нашей задержки, мы же сбиты совсем с толку и ничего не понимаем. Да и делегация, привозившая нам подарки, 7 ноября, дает очень уклончивый ответ, говоря, что «скоро» поедем. Потерпим еще. Не привыкать стать. Черные зимние дни. Изучаю английский язык, издаю журнал «эсперанто»-русский. Сегодня выйдет очередной номер. Не тоскуй, надейся, за меня не беспокойся. В прошлом году было хуже, а выжили. Береги деток, а за то, что не пишешь — сержусь. Когда ожидать и писать… Кажется имеем уже опыт большой. Целую крепко тебя и деток. Лазарь. Варшава, 1 декабря 1921 года. Моя дорогая Олечка! Как видишь, я в Варшаве. Я бежал из Тухоли. (последняя фраза написана на эсперанто). Теперь я через неделю поеду в Россию как эмигрант. Так что наконец я буду дома. Гуляю по Варшаве. Жди меня, не беспокойся. Я одет, обут. Эту открытку пишу в нашей делегации. Чувствую себя хорошо в надежде скоро быть дома. Целую тебя и деток. Привет родным и друзьям. Твой Лазарь.
|
«Есть мнения, что пандемия продлится несколько лет»
Круглый стол «БИЗНЕС Online» и КГМУ с ответами на главные вопросы о коронавирусе: маски, лечение и тяжесть последствий
«Это война микро- и макроорганизмов. Как она сложится, зависит от того, насколько будет стойким дух человека, который узнал, что у него положительный результат теста на коронавирус», — говорят участники круглого стола, организованного «БИЗНЕС Online» и Казанским медуниверситетом. Ведущие инфекционисты и пульмонологи Татарстана рассказали, заразны ли бессимптомные носители, распускать ли компаниям всех сотрудников по домам и почему переболевшим COVID-19 опасно расслабляться даже после выздоровления.
«БИЗНЕС Online» и КГМУ пригласили ведущих инфекционистов и пульмонологов Татарстана к откровенному разговору о COVID-19
Участники круглого стола:
- Диана Абдулганиева — главный терапевт РТ, шеф терапевтической клиники РКБ, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ;
- Айнагуль Баялиева — главный анестезиолог РТ, шеф клиники анестезиологии и реанимации РКБ, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии КГМУ;
- Александр Визель — главный пульмонолог РТ, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ;
- Владимир Жаворонков — замминистра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани;
- Халит Хаертынов — главный инфекционист РТ, доцент кафедры детских инфекций КГМУ.
Модераторы дискуссии: Алексей Созинов — ректор Казанского государственного медицинского университета, Рашид Галямов — издатель «БИЗНЕС Online».
Владимир Жаворонков: «Мы переживаем очень серьезную ситуацию: COVID-19 развивается вместе с другими ОРВИ на волне их сезонного подъема»
Как развивается Covid-19? Мы выходим на вторую волну, которая сильнее первой?
Жаворонков: Термин «вторая волна» сегодня ставится под вопрос, наши коллеги из Роспотребнадзора просят отойти от него…
Хаертынов: Я согласен. Когда мы можем говорить о второй волне? Когда закончилась первая. Но она ведь не заканчивалась: инфекция никуда не исчезала даже летом.
Жаворонков: Мы переживаем очень серьезную ситуацию: COVID-19 развивается вместе с другими ОРВИ на волне их сезонного подъема. Работу осложняет необходимость диагностики ОРВИ, вызванных другими вирусами, а также экзальтированность населения, когда любой подъем температуры априори рассматривается как COVID-19. Идут массовые обращения к врачам. Если раньше все спокойно переживали температуру 37,5–38 дома, понимая, что это обычная респираторная инфекция, сегодня по таким случаям происходит очень много вызовов, что резко увеличивает нагрузку и на амбулатории, и на стационары, и на службу скорой помощи.
Хаертынов: Я не могу сказать, что вирулентность падает. Со временем она действительно должна снизиться, но мы пока этого не видим. COVID-19 — особая инфекция. По идее, она, как и любое другое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, должно иметь сезонность. Но что мы увидели за эти полгода? Инфекция началась весной, продолжилась в летние месяцы (причем пик пришелся на май – начало июня), потом было некое снижение, а сейчас снова подъем заболеваемости. Это логично, потому что наступило холодное время, когда традиционно идет всплеск респираторных инфекций. То, что эпидемия длится так долго, — сценарий для нас неожиданный. Первоначальные прогнозы были таковы, что через 2–3 месяца, когда солнце появится и потеплеет, инфекция закончится. Эпидемия гриппа, например, не продолжается более двух месяцев. Нечто подобное мы ожидали и от коронавируса. Но этого, к сожалению, не произошло.
Халит Хаертынов: «Что касается лечения, появляются новые препараты. Но «золотой» пилюли не существует»
Когда это все закончится?
Хаертынов: Есть различные прогнозы. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допускает, что эпидемия продлится год, значит, речь идет о ее окончании в феврале – марте 2021-го. Но есть и другие мнения, согласно которым, пандемия COVID-19 продлится несколько лет. Мы пока не можем ответить на вопрос, когда достигнем пика — он может произойти через неделю, месяц, два месяца…
Абдулганиева: Если мы исходно считали, что это больше легочная инфекция, то сейчас понимаем, что она поражает внутренние органы: и сердечно-сосудистую систему, и желудочно-кишечный тракт, и центральную, и периферическую нервную систему — мы все это наблюдаем у наших пациентов. Если раньше мы говорили о жизни после COVID-19, то сейчас рассуждаем уже о жизни вместе с коронавирусом.
Жаворонков: Мы научились понимать, диагностировать и лечить COVID-19. Опыта стало гораздо больше. Огромные усилия проводит КГМУ по обучению персонала, разворачиваются ситуационные центры, где проводятся виртуальные консилиумы. Развернуты провизорные госпитали, где идет постановка диагноза, и специализированные — так называемые ковидарии для лечения.
Созинов: Около 400 сотрудников КГМУ принимают непосредственное участие в оказании медицинской помощи, причем 189 из них непосредственно связаны с работой временных инфекционных госпиталей. Большая армия — ординаторы обучающиеся, которые уже имеют диплом врача, многие из них проходят практическую подготовку на базе амбулаторных учреждений Казани. 393 студента работают в медучреждениях, в основном на должностях средних медицинских работников. Еще у 149 студентов в эти дни началась поликлиническая практика. Продолжают работать почти 300 волонтеров, штаб организации «Волонтеры-медики», которая имеет всероссийский масштаб, базируется в университете.
Хаертынов: Проблема в том, что наступает холодное время года, грипп на носу и он может подпортить нам картину. Оба вируса поражают органы дыхания, сердечно-сосудистую систему: ведь инфаркты и инсульты часто возникают после тяжело перенесенного гриппа. Если человек вовремя не привился, становится высокой вероятность осложнений. Сейчас очень важно провести вакцинацию от гриппа, возможна микст-инфекция. Мы такого в Татарстане пока не видели, но это возможно. А гриппом и дети часто тяжело болеют.
Диана Абдулганиева: «В любом случае, когда медики в течение нескольких месяцев лечат только одну болезнь, какой бы сложной и различной в своих проявлениях она ни была, понимание приходит»
Прививаться ли от COVID-19 российской вакциной? А лекарство нашли эффективное? Возможно ли повторное заражение?
Хаертынов: Ничего более удачного, чем вакцины для профилактики инфекционных заболеваний, еще не придумано. Что касается эффективности, надо исходить из того, что вакцина была создана в уважаемом институте имени Гамалеи, который имеет колоссальный опыт по наработке аналогичных вакцин. Я надеюсь, что она будет эффективной. Говорю «надеюсь», потому что пока мы еще не имеем результатов широкомасштабного ее применения. К сожалению, возможно и повторное заражение — как и при любом инфекционном заболевании. Не у всех антитела сохраняются, все зависит от напряженности иммунитета. Но речь не идет о массовых повторных случаях, таких единицы. Во всяком случае в Татарстане пока подобного не было зафиксировано.
Что касается лечения, появляются новые препараты. Но «золотой» пилюли не существует.
Абдулганиева: Мы пользуемся федеральными методическими рекомендациями по лечению COVID-19. Сейчас работаем по версии 8.1 от 1 октября 2020 года. Эти подходы видоизменялись, модифицировались по ходу того, как менялось наше понимание данной инфекции.
Эффективность лечения всегда зависит от нескольких факторов. Во-первых, это своевременность обращения пациента, постановки диагноза и начала терапии, а также форма течения болезни: легкая, средняя, тяжелая. В любом случае, когда медики в течение нескольких месяцев лечат только одну болезнь, какой бы сложной и различной в своих проявлениях она ни была, понимание приходит. Для врачей свойственно учиться, и медицинский университет приложил огромные усилия для формирования циклов их обучения. Среди медиков паники нет совершенно, потому что заболевание имеет четко очерченное естественное течение. Когда видим, на каком из этапов находятся пациенты, мы понимаем, какую комбинацию препаратов (как правило, это не один и не два) необходимо применить здесь и сейчас.
Визель: Но посмотрите, что творится с населением! Оно занимается еще и самолечением. Как бы мы, врачи, ни боролись с этим, все равно почти каждый человек начинает что-то делать, пить какие-то лекарства. Часто в WhatsApp пересылают сообщения вроде «Как это тебе не назначили антибиотики? Ты не думай, никого не слушай, купи два антибиотика и начинай их пить. Обязательно начни гормоны». Но есть же понятие «терапевтическое окно»: когда какое лекарство действует. Нужны гормоны? Да, нужны, но не в первый день. Нужны антибиотики? Да, в первую очередь в реанимации, но никак не дома. Против вируса они не действуют.
К тому же путают два документа: кроме рекомендаций 8.1, о которых сказала Диана Ильдаровна, есть второй документ — лечения ОРВИ в период COVID-19. Оттуда заимствуют какие-то схемы, пересылают в WhatsApp, начинают рекомендовать их знакомым. Мы должны действовать по 8.1, это очень важно. С первого дня эпидемии меня волнуют юридические вопросы телемедицины. На сегодняшний день юридически мы, специалисты, можем работать только в поле под названием «второе мнение». То есть вы можете через юридическую компанию отправить мне или другому врачу свои документы и получите заключение по ним, но это будет не медицинской консультацией, а заключением эксперта по вашим документам.
Баялиева: Я бы очень пожелала людям, которые еще не болеют, чтобы они береглись и ни в коем случае не думали, что они здоровы и не могут заболеть или не способны заразиться их близкие. Очень хочется, чтобы люди не занимались самолечением, доверяли больше врачам: в реанимации самые сложные случаи происходят вследствие того, что люди не сразу обращаются за медицинской помощью.
Алексей Созинов: «Если вы считаете, что вам все нипочем, будете ходить везде без маски, получать инфекцию со всех сторон, возможно, даже нескольких штаммов, то рискуете заболеть очень серьезно»
Если я заболею, ВЕЛИКИ ЛИ шансы оказаться в реанимации?
Абдулганиева: Половина заболевших COVID-19 ничего не почувствуют, без симптомов. 80 процентов от другой половины заболевших перенесут заболевание в легкой форме, как обычную вирусную инфекцию. У них может болеть голова, мышцы и глазные яблоки, першить в горле, насморк, все это относительно быстро заканчивается. И только у оставшихся 20 процентов от половины зараженных может развиться поражение легких и сопутствующие осложнения. Есть факторы риска: ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, онкологические опухоли, трансплантированные органы. У таких людей есть нарушения на уровне клеточного иммунитета. Когда вирус попадает в организм человека, первый, кто встанет на борьбу с ним, — клеточный иммунитет, макрофаги-фагоциты. Это наши сторожа. Если пациент принимает препараты, угнетающие иммунитет, например для лечения онкологии и после трансплантации органов, он попадает в группу риска.
Вообще, инфекционный процесс — это война микро- и макроорганизмов. Как она сложится, зависит от того, насколько будет стойким человек, который узнал, что у него положительный результат теста на коронавирус, насколько сильный у него настрой на победу. Мы все чаще встречаем пациентов, которые говорят: «Да, у меня COVID-19, но я готов лечиться и делать все, как скажете». Он готов выздороветь, у него будет все хорошо. А если человек пугается, у него появляется паника, он начинает искать разные схемы лечения, то борьба макро- и микроорганизмов станет гораздо сложнее. Эмоциональная готовность человека вступить в бой с инфекцией очень значима.
Созинов: Для прогноза течения болезни очень важна вирусная нагрузка. От того, насколько много вы получите инфекционных агентов, зависит течение заболевания. Если вы считаете, что вам все нипочем, будете ходить везде без маски, получать инфекцию со всех сторон, возможно, даже нескольких штаммов, рискуете заболеть очень серьезно.
Абдулганиева: Айнагуль Жолдошевна курирует самых тяжелых больных, в том числе реаниматологов. Они получают колоссальную вирусную нагрузку в момент интубации, когда все, что у пациента скопилось в дыхательных путях, выходит наружу. Были исследования на тему того, какая доля вируса попадает на средства индивидуальной защиты реаниматолога, где самые уязвимые места… Поэтому, когда заболевают врачи, мы сразу понимаем, что они получили огромную порцию вируса в момент встречи с пациентом. Каждый из нас ежедневно бывает контактным бессчетное количество раз. Но в эти моменты мы все находимся в масках.
Александр Визель: «Вообще, масочно-перчаточный режим должен быть в жестком правовом поле. Помните, недавно произошла история, когда девушка в театре на Таганке устроила скандал, не желая надевать маску?»
Панацея ли маски? А перчатки надо носить?
Созинов: Да, можно заболеть и в маске, но вероятность гораздо ниже и течение болезни будет гораздо легче, потому что к вам меньше попадет вируса. Стоит ли отказываться от такой защиты, потому что «некрасиво» или «очки потеют»? Эпидпроцесс идет: есть источник, восприимчивая сторона и пути передачи. Каждый отдельный человек не может влиять на источник инфекции — он везде. Но он может воздействовать на пути передачи, соблюдая социальную дистанцию, пользуясь масками и перчатками и не посещая массовых мероприятий.
Конечно, речь не идет о 100-процентной защите, но то, что есть эффект, — безусловно. Нужна преграда перед дыхательными путями, и она должна быть свежей, чистой, невлажной. Вот и все. Ко мне много раз подходили люди с вопросом о том, как правильно надевать маски, какой стороной, беленькой ли, синенькой, куда направлены складочки. Я всегда говорю, что в конечном итоге это не имеет никакого значения — самое главное, чтобы маска была свежая. Если она увлажненная, то сработает не в плюс, а в минус. Если вы ее надели, сняли, поносили в сумочке или в кармане, а потом еще несколько раз надели, это тоже будет работать в минус. Нецелесообразность этого четко должны все понимать. Если воспринимать маску как ответ полицейскому «отвяжитесь от меня», то пожалуйста. Но надо понимать, что только свежей маской вы и себя защищаете, и других.
Визель: Часто можно увидеть красивых девушек модельной внешности в масках с одним клапаном. У меня несколько друзей в Америке, там считается, что на такую маску нужно сверху надевать одноразовую. Потому что клапан защищает только тебя, а выдыхаешь ты вирус. И те, кто ходит в маске с клапаном, защищают только себя. Есть маски с двумя клапанами — они туда-сюда воздух фильтруют.
Вообще, масочно-перчаточный режим должен быть в жестком правовом поле. Помните, недавно произошла история, когда девушка в театре на Таганке устроила скандал, не желая надевать маску? Нужно обязать носить маски и перчатки юридически, тогда станет проще действовать и Росгвардии, и водителям автобуса, и в театре. Что касается перчаток, есть исследования, сколько раз за день люди касаются рукой носа. Я иду с сыном в магазин в маске и перчатках, мы оттуда выходим, выбрасываем и маски, и перчатки, обрабатываем руки антисептиком, и только после этого я берусь за руль.
Хаертынов: Инфекция может передаваться и контактным путем, поэтому масочно-перчаточный режим будет более эффективным, чем только масочный.
Владимир Жаворонков: «На мой взгляд, вирус еще слабо изучен, чтобы делать какие-то выводы. Последствия COVID-19 мы будем рассматривать под микроскопом еще долгие годы»
Если маски не спасли, сразу бежать на КТ?
Визель: Я бы очень хотел предостеречь от этого. Действительно, есть телепередачи, на которых «эксперты» говорят, что каждый должен иметь в кармане 5 тысяч, чтобы при первом насморке срочно делать компьютерную томографию. Сегодня каждый мнит себя специалистом по COVID-19. В результате приходят больные с тремя КТ за неделю! Это опасно, так можно просто-напросто получить лучевую болезнь.
Хаертынов: Методы диагностики разные. В основном используется обнаружение РНК-вируса методом ПЦР. Но, к сожалению, не всегда данный метод дает положительные результаты даже при явной клинике данного заболевания, и это необходимо учитывать при постановке диагноза. Нельзя сбрасывать со счетов вопросы эпидемиологии: если кто-то из членов семьи пациента заболел COVID-19, скорее всего, и у других членов будет та же самая инфекция даже при отрицательном результате ПЦР. Но и КТ точно не нужно проводить всем подряд, особенно на ранних стадиях заболевания. В любом случае все вопросы, связанные и с лечением, и с диагностикой, должен решать врач.
Визель: Нужно учитывать особенности организма в целом. Есть примеры, когда пациент присылает компьютерную томограмму, на которой только чуть-чуть что-то видно (изменения в легких — прим. ред.). Я прошу сдать анализы, а там показатели С-реактивного белка (индикатор уровня воспаления — прим. ред.) 160 при норме 5! Значит, завтра мы на КТ увидим тотальную тень. Таким образом, скорость поражения легких, как и других органов, очень сильно зависит от реактивности организма.
Айнагуль Баялиева: «Сложность инфекции в том, что приходится изолированно лечить пациентов, и в том, что людям, которые оказывают медицинскую помощь, действительно тяжело физически, потому что они одеты в специальную форму»
И каковы последствия? Если у пациента сильное поражение легких — все, это инвалид?
Визель: Главный вопрос: есть ли фиброз (образование в легких рубцовой ткани, приводящее к нарушениям дыхательной функции, — прим. ред.)? И мне на этот вопрос не может ответить даже Сергей Николаевич Авдеев, главный пульмонолог страны, который с первого дня в «красной зоне» работает. Да, после тяжелого COVID-19 в легких остаются большие плотные тени, но фиброз ли это, мы узнаем только через год. Бывает, что такие области светлеют и проходят.
Абдулганиева: Кроме легких, у COVID-19 есть еще ряд органов-мишеней. Самым распространенным и имеющим инвалидизирующие последствия является тромбовоспаление. У пациента с COVID-19 как в артериальных, так и в венозных сосудах могут формироваться тромбы. В первом случае может поражаться миокард сердца — происходит инфаркт, и артериальные сосуды мозга — инсульт. Таких пациентов мы видели: обычно это те, кто выписывался после COVID-19 и не проводил продленную — до 45 дней — профилактику антикоагулянтами (препараты, разжижающие кровь и препятствующие образованию тромбов, — прим. ред.). Начиная с 7-й версии рекомендаций мы обязательно их прописываем пациентам из группы риска. Это инвалидизирующие осложнения: человек после инфаркта и инсульта очень долго восстанавливает трудоспособность, если вообще сможет ее вернуть. Поэтому очень важно после выписки прислушиваться к рекомендациям врачей. К тому же пациенты после стационара не уходят в никуда: у них открытый больничный лист.
Визель: Люди после выписки очень переживают, мол, выписали, а температура 37,1 и слабость. Я сам перенес COVID-19, у меня антитела появились. Я слабость и температуру чувствовал месяц! Перед тем как читать лекцию, я должен был 15 минут полежать и выпить кофе. Потом все прошло. Надо быть готовым, что такие симптомы могут сохраняться долго после того, как болезнь уже ушла.
Абдулганиева: Что касается других последствий, то нарушение репродуктивной способности не доказано, но что касается ментальных и психологических отклонений — есть определенная тропность вируса (поражающая способность — прим. ред.) к центральной и периферической нервной системе. Описано такое состояние, как нейроковид, — оно проявляется в остром периоде болезни, но потом, по ходу реабилитации, достаточно успешно регрессирует.
Баялиева: Как и любая болезнь, COVID-19 имеет осложнения и особенности. Осложнения общеизвестны: это дыхательная недостаточность и сепсис. А сложность инфекции в том, что приходится изолированно лечить пациентов, и в том, что людям, которые оказывают медицинскую помощь, действительно тяжело — физически, потому что они одеты в специальную форму.
Хаертынов: Тяжелые случаи в основном ассоциируются с возрастом. Чем старше пациент, тем чаще развиваются осложнения, летальность выше. Доля детей с COVID-19 в структуре общей заболеваемости невысока — около 4–6 процентов. К счастью, у них заболевание в основном протекает в очень легкой форме.
Александр Визель: «Представляете, что станет со страной, если все еще четыре месяца будут дома сидеть?»
Тогда почему Москва перевела школы на «удаленку»? Может, в Татарстане тоже так надо ПОСТУПИТЬ?
Жаворонков: Это вотчина Роспотребнадзора и руководителей образовательных учреждений. Кроме того, есть очень четкие установки, в каких обстоятельствах класс уходит на карантин, — это не экстремальное мероприятие.
Баялиева: Распространение инфекции уже идет, роспуск школьников по домам его не остановит.
Созинов: Мы учимся жить с этой инфекцией. Исходить из соображений, что мы сейчас запремся в домике, а потом выйдем в новом чистом мире, — полная утопия. Остановить жизнь нельзя, иначе будут и экономические, и психологические последствия. Надо учитывать и оперативные последствия принятых решений. Есть даже информация, что в Москве в связи с объявленным карантином для школьников заметен рост покупок турпутевок, например.
Жаворонков: К тому же с момента начала учебного года мы не фиксируем значительного всплеска госпитализированных детей с COVID-19. Это очень хороший индикатор. А в ряде научных работ есть вообще изрядная доля сомнений в том, что бессимптомные носители заразны.
Созинов: Это как раз вопрос о вирусной нагрузке: у бессимптомных она очень маленькая, они не чихают, не кашляют.
Визель: У меня дети учатся в школе, там у родителей одного из детей обнаружили COVID-19. Ребенка забрали на карантин, но, несмотря на то что он контактировал с заболевшим, а весь класс тесно общался с ним, никто больше не заболел. Так что возможность передачи COVID-19 через детей под вопросом.
Алексей Созинов: «Простых решений нет, нужно время и солидарные действия власти, общества и каждого человека»
Что делать бизнесу? Распускать всех на «дистант»?
Визель: Конечно, если речь идет, например, об айтишниках, которые могут и дистанционно работать, то пусть сидят дома. В остальных случаях, даже если произошло заражение, распускать людей надо не на месяц-два, а на срок инкубационного периода — 14 дней. Представляете, что станет со страной, если все еще четыре месяца будут дома сидеть?
Созинов: Все равно тяжелые формы COVID-19 не у пожилых людей — редкость. Поэтому особое внимание должно быть к людям пожилого и старческого возраста. И распускать по домам нужно не столько айтишников, сколько пожилых. Много говорится про шведскую модель, ее пытаются показать как очень привлекательную, но, с другой стороны, сильна точка зрения, что шведы предали своих стариков. И это тоже правда, потому что в Швеции пожилых людей умерло в разы больше, чем в соседних Финляндии и Норвегии при похожем уровне распространения инфекции.
Жаворонков: На мой взгляд, вирус еще слабо изучен, чтобы делать какие-то выводы. Мы фиксируем контагиозные случаи, когда человек пообщался час с носителем и быстро заболел, а бывает, что супруга весь карантин находится рядом с заболевшим мужем и не болеет сама. Это очень интересно с точки зрения науки, я думаю, что последствия COVID-19 и особенности данной инфекции мы будем рассматривать под микроскопом еще долгие годы.
Созинов: Людям свойственно надеяться на волшебное решение проблемы. Но мне очень нравится высказывание, что у каждого сложного, запутанного, проблемного вопроса есть простой, ясный… и неправильный ответ. Это буквально про COVID-19. Простых решений нет, нужно время и солидарные действия власти, общества и каждого человека.
CDC должен предупредить людей, что побочные эффекты от прививок не будут «прогулками по парку».
Добровольцу вводят вакцину, когда он участвует в исследовании вакцинации против коронавируса (COVID-19) в Исследовательских центрах Америки. в Голливуде, Флорида, 24 сентября 2020 г.
Марко Белло | Reuters
Должностные лица общественного здравоохранения и производители лекарств должны предупредить людей о том, что прививки от коронавируса могут иметь некоторые серьезные побочные эффекты, чтобы они знали, чего ожидать, и не боялись получить вторую дозу, призвали врачи во время встречи в понедельник с консультантами CDC.
Рекомендации приходят по мере того, как штаты готовятся к распространению потенциально жизненно важных прививок уже в следующем месяце.
Доктор Сандра Фрихофер из Американской медицинской ассоциации заявила, что вакцины Covid-19 Pfizer и Moderna требуют двух доз с разными интервалами. Как практикующий врач, она сказала, что беспокоится, вернутся ли ее пациенты за второй дозой из-за потенциально неприятных побочных эффектов, которые они могут испытать после первой инъекции.
«Нам действительно нужно сообщить пациентам, что это не будет прогулка по парку», — сказал Фрихофер во время виртуальной встречи с Консультативным комитетом по практике иммунизации, или ACIP, внешней группой медицинских экспертов, которые консультируют CDC.Она также является связным звеном в комитете. «Они узнают, что у них была вакцина. Они, вероятно, не будут чувствовать себя прекрасно. Но им придется вернуться за второй дозой».
Участники испытаний вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer сообщили CNBC в сентябре, что после прививки у них наблюдались высокая температура, боли в теле, сильные головные боли, продолжительное истощение и другие симптомы. Хотя симптомы были неприятными и временами сильными, участники сказали, что они часто уходили через день, а иногда и раньше, и что это лучше, чем заражение Covid-19.
Обе компании признали, что их вакцины могут вызывать побочные эффекты, похожие на симптомы, связанные с умеренным Covid-19, такие как мышечная боль, озноб и головная боль.
Одна женщина из Северной Каролины, участвовавшая в исследовании Moderna, которой за 50, сказала, что у нее не было лихорадки, но у нее была сильная мигрень, из-за которой она была истощена в течение дня и не могла сосредоточиться. Она сказала, что проснулась на следующий день, чувствуя себя лучше после приема Excedrin, но добавила, что Moderna, возможно, потребуется сказать людям, чтобы они сделали выходной после второй дозы.
«Если это сработает, людям придется стать более жесткими», — сказала она. «Первая доза не имеет большого значения. И тогда вторая доза определенно подавит вас на весь день … Вам нужно будет сделать выходной после второй дозы».
Во время встречи в понедельник доктор Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, заявила, что агентство будет работать над разработкой рекомендаций, если медицинский работник получит вакцину, а на следующий день почувствует себя плохо.
«Как это влияет на планирование на уровне больницы с точки зрения того, какой персонал в какой день будет вакцинирован?» она сказала.
Пэтси Стинчфилд, практикующая медсестра из Детского Миннесоты, сказала, что официальные лица и производители лекарств могут попытаться рассказать о побочных эффектах в более позитивной форме. Она сказала, что они могут использовать такие выражения, как «ответ» вместо «отрицательная реакция».
«Это иммунные реакции», — сказал Стинчфилд, бывший член комитета с правом голоса. «И поэтому, если вы чувствуете что-то после вакцинации, вы должны ожидать этого.Когда вы это сделаете, это нормально, если вы почувствуете некоторую болезненность или усталость в руках, некоторые боли в теле и, возможно, даже жар. Похоже, что в некоторых из этих испытаний, возможно, даже придется оставаться дома и не работать ».
Доктор Грейс Ли, профессор педиатрии Медицинской школы Стэнфордского университета, согласилась, заявив, что коронавирусная инфекция может нанести вред всему семья
«Если им придется пропустить 14 дней работы, это будет огромная сумма, которую нужно упустить», — сказал Ли, член ACIP, CDC.«Я думаю, что нам нужно подумать об этой вакцине. Хотя могут быть некоторые краткосрочные проблемы с потерей работы, я действительно думаю, что это должно быть сбалансировано с риском заражения».
Стинчфилд сказал, что некоторые люди в испытаниях действительно были разочарованы, когда они не страдали побочными эффектами, о которых сообщали другие, думая, что они, должно быть, получили плацебо.
Заседание комитета состоится через три дня после того, как Pfizer и ее партнер BioNTech подали в Управление по контролю за продуктами и лекарствами разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса.
Ожидается, что процесс FDA займет несколько недель, а на начало декабря запланировано заседание консультативного комитета для обзора вакцины. Некоторые американцы могут получить первую дозу вакцины примерно через месяц.
Ожидается, что ACIP созовет экстренное совещание для вынесения конкретных рекомендаций по распространению после того, как FDA разрешит вакцину.
Федеральные агентства уже рассылают персоналу планы вакцинации. Пять агентств начали говорить сотрудникам, что они могут получить вакцину Covid-19 от Pfizer или Moderna всего за восемь недель, сообщил CNBC в пятницу человек, не понаслышке знающий об этих планах.
Джо Байден Висконсин Стенограмма ратуши CNN 16 февраля
Андерсон Купер: (00:02)
Добро пожаловать. Мы живем в Театре Пабст в Милуоки, штат Висконсин. Это президентская ратуша CNN, первая с президентом Джо Байденом. Я Андерсон Купер. Президенту Байдену осталось всего четыре недели, и он столкнулся с множеством кризисов. Около 500 тысяч наших сограждан, американцев, умерли от COVID-19. Миллионы остались без работы, и нация опасно разделена. Сегодня вечером мы собираемся ответить на вопросы американского народа.Президент будет отвечать на вопросы американского народа во время своей первой официальной поездки с момента вступления в должность. Некоторые из собравшихся здесь голосовали за него, некоторые — нет. Мы с президентом на этой сцене не будем в масках. Конечно, он был вакцинирован. За последние несколько недель я неоднократно давал отрицательные результаты на коронавирус, как вчера, так и сегодня утром. Однако мы будем держаться на расстоянии друг от друга, а публика очень ограничена, социально дистанцирована и все в масках, когда сидят.На этом я хочу поприветствовать 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
Джо Байден: (00:57)
Привет, Андерсон.
Андерсон Купер: (00:57)
Как поживаете, сэр?
Джо Байден: (00:59)
Рад тебя видеть. Привет, ребята, как дела? Хорошо вернуться, чувак.
Андерсон Купер: (01:10)
Рад вас видеть, сэр.
Джо Байден: (01:13)
Вы знаете, что вам больше нравится быть дома с ребенком. [неразборчиво, 00:01:16]
Андерсон Купер: (01:16)
Верно, да.Ему девять с половиной месяцев, так что я очень счастлив.
Джо Байден: (01:20)
Понятно. Нет нет. Все знают, что я люблю детей больше, чем людей.
Андерсон Купер: (01:22)
Я недавно видел вашу фотографию с внуком.
Джо Байден: (01:24)
Верно.
Андерсон Купер: (01:24)
Ага. Так что у нас появилось много вопросов в аудитории. У нас здесь около 50 человек. Все они социально дистанцированы. У нас есть люди, которые голосовали за вас, а некоторые нет, и мы собираемся ответить на как можно больше вопросов.
Андерсон Купер: (01:36)
Прежде чем мы перейдем к этому, я просто хочу начать с пары общих вопросов о пандемии и о том, где мы сейчас находимся.
Джо Байден: (01:41)
Конечно.
Андерсон Купер: (01:43)
Новые случаи COVID-19, количество госпитализаций за последний месяц сократилось вдвое, как и новые случаи. Это хорошие новости. Есть эта потенциальная угроза, потенциальный всплеск от возможных вариантов, которые потенциально могут появиться. Когда каждый желающий американец сможет получить вакцину?
Джо Байден: (02:01)
К концу июля этого года.У нас есть… Мы пришли в офис, было всего 50 миллионов доз. Сейчас у нас есть … К концу июля у нас будет более 600 миллионов доз, которых хватит, чтобы вакцинировать каждого американца.
Андерсон Купер: (02:23)
Когда вы говорите, что к концу июля, вы имеете в виду, что они будут доступны или что люди действительно смогут их получить? Потому что доктор Фаучи —
Джо Байден: (02:34)
Они будут доступны.
Андерсон Купер: (02:34)
Они будут доступны.
Джо Байден: (02:35)
Они будут доступны.
Андерсон Купер: (02:35)
Хорошо.
Джо Байден: (02:35)
Вот смотрите. Что мы и сделали, мы вошли в офис и выяснили запасы, отставания не было. Образно и буквально говоря, в холодильнике ничего не было, а в день было доступно 10 миллионов доз. В первые недели пребывания у власти мы повысили это значение до гораздо большего. Мы переехали, пошли в Pfizer и Moderna и сказали: «Можете ли вы производить больше вакцины и быстрее?» Они не только согласились перейти с 200 до 400, но и согласились перейти на 600 миллионов доз.Мы заставили их ускориться, потому что мы использовали Закон о национальной обороне, чтобы помочь производителю получить больше оборудования и так далее.
Андерсон Купер: (03:22)
Итак, если конец апреля… Извините, конец июля, они готовы передать их в руки людям, которые хотят их. Что потребуется? Еще пара месяцев?
Джо Байден: (03:31)
Ну нет, тем временем многие будут вакцинированы.
Андерсон Купер: (03:35)
Хорошо.
Джо Байден: (03:35)
Другими словами, 600 миллионов доз появятся не внезапно, и что произойдет, так это то, что они будут продолжать расти по мере нашего продвижения, и мы достигнем 400 миллионов к концу мая и 600 миллионов к концу июля, и самое главное, как вы помните, когда мы с вами … Я не должен так говорить, как вы помните, но когда мы с вами разговаривали в последний раз, мы говорили о … Одно дело иметь вакцину, которой у нас не было, когда мы пришли в офис, но вакцинатор … Как получить вакцину в чью-то руку? Итак, вам нужны принадлежности, вам нужна игла, вам нужны механизмы, чтобы их можно было ввести, вам нужны люди, которые могут вводить это людям в руки.
Андерсон Купер: (04:14)
Одна из проблем — собрать достаточно людей.
Джо Байден: (04:16)
Да. Сейчас мы добились значительных успехов в увеличении количества вакцинаторов. Я издал распоряжение, позволяющее бывшим врачам на пенсии и медсестрам делать это. У нас более 1000 военнослужащих. CDC … я имею ввиду, извините меня, … Мы привлекли Национальную гвардию. Итак, у нас есть значительное количество вакцинаторов, людей, которые действительно были бы там, плюс мы открыли значительное количество мест, где вы можете пройти вакцинацию.
Андерсон Купер: (04:50)
Я хочу познакомить вас с Кевином Мишелем. Он независимый от Вауватосы. Он инженер-механик автомобильной компании. Кевин, добро пожаловать. Каков твой вопрос?
Джо Байден: (04:57)
Привет. Добро пожаловать в Милуоки.
Кевин Мишель: (04:59)
Хорошо. Мои вопросы касаются образования.
Джо Байден: (05:02)
Да.
Кевин Мишель: (05:03)
Учитывая, что обучение в гибридных и виртуальных школах существует уже почти год, каков план и рекомендация по возвращению учеников в кирпичные и минометные здания? Как родитель четверых детей я считаю крайне важным, чтобы они возвращались в школу как можно безопаснее.
Джо Байден: (05:17)
Моя мать говорила: «Да благословит тебя Бог, сын. Для тебя нет чистилища ». Четверо детей дома, я серьезно. Кстати, потеря возможности учиться в школе оказывает значительное влияние и на детей, и на родителей. Мы выяснили, что есть определенные вещи, которые делают рациональным и легким возвращение к строительству из кирпича и раствора. Во-первых, убедиться, что все носят защитное снаряжение. Он доступен как студентам, так и учителям, дворникам, людям, работающим в кафетерии, водителям автобусов.Во-вторых, организация в группах меньшего размера, а это значит, что нам нужно больше учителей. Вместо класса из 30 человек в нем есть три класса, по 10 человек в каждом. Я придумываю число, меньше … Оно не обязательно должно быть буквально 10.
Джо Байден: (06:08)
В дополнение к этому, мы также указали, что это намного лучше, гораздо проще отправить детей K-8 обратно, потому что они с меньшей вероятностью передадут болезнь кому-то другому, а потому что дети из … второкурсников, старшеклассников и старшеклассников, они гораздо больше общаются, и они старше, и они передают больше, чем маленькие дети, труднее открыть эти школы, не имея всего: от систем вентиляции и …
Джо Байден: (06:42)
Например, водители школьного автобуса.Мы должны убедиться, что у вас не будет 60 детей или сколько угодно, это будет зависеть от размера школьного автобуса, сидящего по двое в ряд на каждое место, и поэтому есть много вещей, которые мы можем сделать, кроме … думаю, что мы должны вакцинировать учителей. Мы также должны поднять их по иерархии.
Андерсон Купер: (07:05)
Позвольте мне спросить вас, ваша администрация поставила цель открыть большинство школ в ваши первые 100 дней. Вы сейчас говорите, что это означает, что эти школы могут быть открыты не менее одного дня в неделю.
Джо Байден: (07:17)
Нет, это неправда. Об этом сообщалось, но это неправда. Это была ошибка в общении, но я говорю об открытии большинства школ с K по восьмой класс, потому что их легче всего открыть, и их нужно открыть с точки зрения воздействия на детей. и семьям, вынужденным оставаться дома.
Андерсон Купер: (07:39)
Как вы думаете, когда это будет K-8, по крайней мере, пять дней в неделю, если возможно?
Джо Байден: (07:42)
Я думаю, что мы будем близки к этому в конце первых 100 дней.Значительный процент из них удалось открыть. Я предполагаю, что они, вероятно, будут настаивать на том, чтобы открыть все для … Все лето, чтобы продолжать, как будто это другой семестр —
Андерсон Купер: (07:59)
Как вы думаете, это будет пять дней в неделю или всего пара?
Джо Байден: (08:01)
Я думаю, многие из них пять дней в неделю. Цель будет пять дней в неделю. Теперь будет труднее открывать средние школы по причинам, о которых я сказал. Также как, если вы заметили, фактор заражения в колледжах намного выше, чем в средних или начальных школах.
Андерсон Купер: (08:19)
Я хочу, чтобы вы познакомились … Это Джастин Белот, учитель средней школы из Милуоки, демократ. Джастин, спасибо, что были с нами. Каков твой вопрос?
Джо Байден: (08:28)
Чему вы учите?
Джастин Белот: (08:29)
Я преподаю английский язык. Английский язык в средней школе.
Джо Байден: (08:31)
Моя жена преподает. Бог любит тебя.
Джастин Белот: (08:32)
Замечательно. Спасибо господин президент. По тем же принципам, что и школы, это великие дебаты о том, когда переходить к очному обучению.Несмотря на то, что существует множество предупреждений о том, что нельзя находиться в больших группах, устраивать званые обеды или небольшие вечеринки, почему можно ставить учеников и учителей в непосредственной близости друг от друга на целый день, день за днем? Как и когда вы предполагаете, что это произойдет при больших размерах классов и устаревших системах вентиляции? Наконец, считаете ли вы, что весь персонал должен быть вакцинирован перед этим?
Джо Байден: (09:00)
Номер один, никто не говорит, включая CDC в этом недавнем отчете, что у вас большие классы, перегруженные классы.Это меньшие классы, больше вентиляции, обеспечение того, чтобы у всех были маски, и чтобы они были изолированы от общества, а это означает, что у вас … Меньше учеников в одной комнате. Убедившись, что все, начиная с санитарных рабочих, которые работают в туалете, в ванных комнатах и производят все техническое обслуживание, действительно могут быть защищены. Убедитесь, что вы находитесь в ситуации, когда у вас не много людей, и, как я уже сказал, включая школьный автобус, в том числе садиться в школьный автобус.Итак, речь идет о необходимости социальной дистанции, меньших классов, большей защиты, и я думаю, что учителя и люди, которые работают в школе, работники кафетерия и другие, должны быть в списке предпочтительных для вакцинации.
Андерсон Купер: (10:00)
Я хочу познакомить вас с Керри Энгебрехт, независимой компанией Oak Creek. Керри, добро пожаловать. Вперед, продолжать.
Керри Энгебрехт: (10:06)
Спасибо.
Джо Байден: (10:06)
Керри, как ты?
Керри Энгебрехт: (10:07)
Очень хорошо, спасибо.Нашему 19-летнему сыну поставили диагноз ХОБЛ у детей в 14 лет. Нам сказали, что у него легкие 60-летнего возраста. Он делает все возможное, чтобы защитить себя. В прошлом месяце он даже удалился из кампуса UW-Madison, поскольку считает, что это безопаснее и меньше подвержено влиянию здесь, дома. Мы сделали все возможное, чтобы сделать ему вакцину. Я слышал о других, менее уязвимых, которые основаны на гораздо меньшем. Есть ли у вас план по скорейшей вакцинации наиболее уязвимых групп, чтобы отдать им приоритет?
Джо Байден: (10:41)
Да, они есть, но вот как это работает.Государства принимают решения о том, кто… В каком порядке. Я могу давать рекомендации, а в отношении федеральных программ я могу делать это как президент Соединенных Штатов, но я не могу сказать штату, что вы должны переместить такую-то группу людей наверх, но вот что я хотел бы сделать . Если хочешь, я останусь здесь, когда все закончится, и, может быть, мы поговорим несколько минут и посмотрим, смогу ли я тебе помочь.
Андерсон Купер: (11:16)
Позвольте мне просто спросить вас, Johnson & Johnson может быть авторизована, новая вакцина от них может быть авторизована через пару недель.Это было бы большим делом.
Джо Байден: (11:25)
Да, было бы.
Андерсон Купер: (11:25)
Привлечение гораздо большего количества вакцин, увеличение поставок на миллионы доз. Как только это произойдет, учитывая актуальность этих вариантов и потенциальную угрозу от них, должны ли государства перестать отдавать приоритет определенным группам и просто открыть доступ к вакцинам для всех?
Джо Байден: (11:39)
Ну, это зависит от того, сколько у них есть в наличии. Я считаю, что должны быть приоритетные группы на случай, если их не хватит для всех, и будут доступны всем.Послушайте, мы не знаем наверняка. Позвольте мне рассказать вам, что сказала моя национальная команда по COVID, что варианты … Под вариантами вы подразумеваете бразильский штамм, южноафриканский штамм —
Андерсон Купер: (12:01)
Лондон. Да.
Джо Байден: (12:01)
Британский штамм, Лондон и так далее. Пока что нет никаких доказательств того, что существующие вакцины, доступные от Moderna и Pfizer, также не обеспечивают их применимость … Они также работают против штамма в Соединенных Штатах, и нет никаких доказательств того, что они не полезно.Поэтому, если вам удастся пройти вакцинацию, делайте ее при любой возможности, независимо от других имеющихся штаммов. Продолжаются исследования, чтобы определить, что это не только более заразно, но и существуют ли вакцины… Разве вакцины не обеспечивают полезную защиту от вакцинации? Есть некоторые предположения, что здесь нужно быть очень осторожным, потому что это смотрят миллионы людей. Может случиться так, что определенная вакцинация от определенного штамма может снизиться с 95% до более низкого процента уверенности, что она помешает вам получить —
Андерсон Купер: (13:08)
Это может быть не так эффективно, как —
Джо Байден: (13:10)
Это может быть не так эффективно.
Андерсон Купер: (13:11)
Против варианта, но он все равно будет эффективен.
Джо Байден: (13:13)
По-прежнему эффективен. Таким образом, очевидно, что если вы имеете право, если она доступна, сделайте вакцину. Сделайте вакцину.
Андерсон Купер: (13:24)
Я хочу, чтобы вы познакомились, это Десси Леви, демократ из Милуоки. Она дипломированная медсестра, бывший академический декан. В настоящее время она также является директором религиозной некоммерческой организации. Десси, добро пожаловать.
Джо Байден: (13:34)
Кстати, вы слышали, как я говорил это раньше Бекки.Если и есть ангелы на небесах, то все они медсестры, мужчины и женщины. Врачи позволяют жить, медсестры заставляют жить. Могу сказать вам как потребитель медицинских услуг и моя семья. Ты замечательный. Спасибо за то, что вы делаете.
Десси Леви: (13:49)
Да благословит вас Бог. Господин Президент, привет. Меня зовут доктор Десси Леви, и мой вопрос к вам касается COVID-19 и его значительного воздействия на чернокожих американцев, особенно здесь, в Милуоки, и, таким образом, обострение наших расовых различий в сфере здравоохранения, мы видели менее трех процентов чернокожих. и менее пяти процентов латиноамериканцев, учитывая общее количество вакцин, которые были введены к этому моменту.Является ли это приоритетом для администрации Байдена и как будут устранены различия, причем как на местном, так и на национальном уровне?
Джо Байден: (14:32)
Ну, во-первых, это приоритет, номер один. Во-вторых, есть две причины, почему так оно и есть. Во-первых, есть некоторая история использования черных в качестве подопытных кроликов в других экспериментах, доктор, мне не нужно рассказывать вам, доктор, за последние 50-75-100 лет в Америке, поэтому есть опасения по поводу получения вакцины, доступна ли она. или нет, но по большей части это доступ, физический доступ.Вот почему на прошлой неделе я открылся … Я встретился с Черным Кокусом в Конгрессе Соединенных Штатов и согласился, что я буду … Все общественные медицинские центры, которые сейчас заботятся о самых тяжелых из самых тяжелых районов с точки зрения болезней, они собираются получать миллион доз в неделю и как мы будем двигаться дальше, потому что они по соседству. Во-вторых, мы открылись, и я проверяю, есть ли дозы вакцины для более чем 6700 аптек, потому что почти все живут не всегда в пешей доступности, а в пределах досягаемости возможности пойти в аптеку, как когда вы сделали прививку от гриппа.Это тоже сейчас открывается.
Джо Байден: (15:51)
В-третьих, я также предоставляю мобильные фургоны, мобильные устройства для проезда в районы, до которых трудно добраться, потому что люди находятся в … Скажем, Walgreens, факт в том, что если вам 70 лет, у вас нет автомобиля и вы живете в суровом районе, что означает высокую концентрацию COVID, вы вряд ли сможете пройти пять миль до иди и сделай вакцину.Еще мы обнаружили, и мне очень жаль, что я продолжаю, но это действительно важно для меня. Другая часть — многие люди не знают, как зарегистрироваться. Не все в сообществе, в латиноамериканском и афроамериканском сообществах, особенно в сельских районах, которые являются удаленными и / или центральными районами города, знают, как использовать … Знайте, как выйти в Интернет, чтобы определить, как встать в очередь из-за этого COVID вакцинация в Walgreens или в конкретном магазине. Так что мы также … Я обязался потратить миллиард долларов на государственное образование, чтобы помочь людям понять, как они могут туда попасть.Вот почему мы также пытаемся создать центры массовой вакцинации, такие как места на стадионах и тому подобное.
Андерсон Купер: (17:15)
Вы обеспокоены развертыванием этого онлайн-сервиса? Потому что это сбивало с толку многих, не только —
Джо Байден: (17:23)
Конечно.
Андерсон Купер: (17:24)
Пожилые люди, это молодые люди, которые просто пытаются найти место, где можно сделать прививку.
Джо Байден: (17:28)
Да, и у меня есть, потому что посмотрите, что мы унаследовали.Мы унаследовали здесь обстоятельство, когда… А теперь о первом… Мы многое сделали за первые две недели, обстоятельства, при которых номер один, вакцинирующих было не так много. Вы не знали, куда пойти, чтобы сделать вам вакцину, потому что некому было поставить ее вам в руку, номер один. Во-вторых, было очень мало федеральных указаний о том, что искать и как узнать, куда на самом деле можно пойти. Вы можете выходить в Интернет, и теперь в каждом штате есть —
Джо Байден: (18:03)
… И выходите в интернет, и в каждом штате теперь есть немного другой механизм, с помощью которого они говорят, кто квалифицирован, где вы можете получить вакцины и так далее.Так что все дело в попытках более детально рационализировать, чтобы обычные люди, такие как я, могли понять, я имею в виду искренне. Я имею в виду, что мои внуки могут использовать это в Интернете, чтобы я выглядел так, будто я живу в седьмом веке. Но если не считать всех шуток, это процесс, и он потребует времени. Подумайте о том, чего мы не делали, и мы с вами говорили об этом во время кампании, мы не делали с того момента, как она поразила Соединенные Штаты. Ты собираешься сделать кому-то укол, и твоя рука уйдет, к Пасхе все выйдете из строя.Мы потратили столько времени, столько времени.
Андерсон Купер: (18:55)
Еще один вопрос о вакцинах. Это Джессика Салас, она независимый от Милуоки, графический дизайнер. Джессика, добро пожаловать.
Джессика Салас: (19:02)
Спасибо. Поскольку мы говорили о коронавирусе, это очень реально и очень страшно, и особенно страшно для детей, которые могут понять, а могут и не понять. Мои дети, Лейла, которой здесь восемь лет, и мой сын Матео, семь лет дома, часто спрашивают, заразятся ли они COVID, и если они это сделают, умрут ли они? Они наблюдают за тем, как другие получают вакцину, и хотели бы знать, когда дети смогут получить вакцину?
Джо Байден: (19:26)
Ну, во-первых, дорогой, как тебя звали?
Лейла: (19:28)
Лейла.
Джо Байден: (19:29)
Лейла, красивое имя. Во-первых, дети нечасто заболевают COVID, такое бывает необычно. Пока что доказано, что дети — не те люди, которые чаще всего заболевают COVID, номер один. Во-вторых, мы еще даже не проводили тесты на детях, чтобы выяснить, подействуют ли определенные вакцины или нет, и что необходимо. Итак, вы — самая безопасная группа людей в мире, номер один.
Джо Байден: (20:01)
Во-вторых, вы вряд ли сможете столкнуться с чем-то и передать это маме или папе, и вряд ли мама и папа смогут передать это вам.Итак, я бы не стал беспокоиться о ребенке, обещаю вам, но я знаю, что это беспокоит. Ты в первом классе? Второй класс?
Лейла: (20:23)
Секунда.
Джо Байден: (20:23)
О, вы стареете. Второй класс. Хорошо, ты учился в школе, дорогая?
Лейла: (20:31)
№
Джо Байден: (20:31)
№
Джессика Салас: (20:31)
№
Джо Байден: (20:31)
Видите, это тоже страшно. Ты не ходишь в школу, ты не видишься со своими друзьями, и так что много детей и, я имею в виду, и больших людей тоже, пожилых людей, вся их жизнь как бы изменилась, как когда раньше был.Раньше это было: выходить на улицу и играть с друзьями, садиться в школьный автобус и ходить в школу, и все было нормально, а теперь, когда все меняется, люди действительно волнуются и пугаются. Но не бойся, дорогая, не бойся, с тобой все будет хорошо, и мы сделаем так, чтобы с мамой тоже все было хорошо.
Андерсон Купер: (21:12)
Позвольте мне спросить вас только для людей, которые наблюдают за происходящим, есть много людей, которые напуганы, есть много людей —
Джо Байден: (21:16)
Конечно.
Андерсон Купер: (21:16)
… Кому больно. Как вы думаете, когда эта пандемия … я имею в виду, когда это будет сделано? Когда мы вернемся к нормальной жизни?
Джо Байден: (21:26)
Ну, все эксперты, весь комитет, который я создал вместе с ведущими исследователями мира и США, входят в этот мой комитет, возглавляются доктором Фаучи и другими. . Они говорят мне: «Будьте осторожны, не предсказывайте то, что произойдет, если вы не знаете наверняка, потому что тогда вы будете привлечены к ответственности.» Я понимаю. Но позвольте мне сказать вам, что я думаю, основываясь на всем, что я узнал, и все, что я изучил, и все, что я думаю, что я знаю, высока вероятность того, что вакцины, которые доступны сегодня, и новая вакцина Johnson & Джонсон, с Божьей помощью, окажется полезным, что с этими прививками способность продолжать распространять болезнь значительно уменьшится из-за того, что они называют коллективным иммунитетом. А теперь они говорят, что где-то около 70% людей должны составлять, некоторые говорили, что 50, понимаете.Но значительное число должно быть в положении, когда они были вакцинированы и / или прошли через нее и —
Андерсон Купер: (22:44)
Есть антитела.
Джо Байден: (22:45)
И есть антитела, и есть антитела. И поэтому, если это сработает таким образом, как сказала бы моя мать с милостью Бога и доброй волей соседей, то к следующему Рождеству, я думаю, мы будем в совсем других обстоятельствах, если Бог даст, чем мы сегодня. Я думаю, что через год, когда здесь будет 22 ниже нуля, нет, через год я думаю, что будет значительно меньше людей, которые должны быть социально дистанцированными, должны носить маски, — сказали они, — но мы не знаем .Так что я не хочу здесь ничего слишком обещать.
Джо Байден: (23:25)
Я говорил вам, когда я бежал и когда меня избрали, я всегда буду с вами на одном уровне. Я использую пример Франклина Рузвельта: я буду стрелять и давать вам прямо из плеча, прямо из плеча, что я знаю и что я не знаю. Мы не знаем наверняка, но очень маловероятно, что к началу традиционного учебного года следующего года в сентябре мы не будем значительно лучше, чем сегодня. Но это имеет значение, имеет значение, продолжаете ли вы носить эту маску, важно, продолжаете ли вы социально дистанцироваться, важно, моете ли вы руки горячей водой, эти вещи имеют значение, они имеют значение и могут спасти множество жизней, пока мы Подходим к этому моменту, мы подходим к коллективному иммунитету.
Андерсон Купер: (24:14)
Вы сделали принятие законопроекта о помощи от COVID в центре внимания ваших первых 100 дней. Правые говорят, что предложение слишком велико, некоторые левые говорят, что оно недостаточно велико. Вы намерены принять законопроект на 1,9 триллиона долларов или окончательная цифра все еще остается предметом переговоров?
Джо Байден: (24:34)
Я готов передать пас. Послушайте, некоторые из вас, вероятно, там экономисты, профессора колледжей или учителя в школе. Это первый раз в моей карьере, и, как вы понимаете, мне больше 30.Впервые в моей карьере среди левых, правых и центристских экономистов, включая МВФ и в Европе, есть консенсус в отношении того, что подавляющее большинство единодушно в том, чтобы вырасти экономику через год, два, три и четыре года , мы не можем тратить слишком много. Пришло время, которое мы должны потратить, сейчас время делать большие успехи.
Джо Байден: (25:17)
Как вы помните, я провел последний эксперимент со стимулом, который у нас был, и он был 800, нет, я не это имел в виду, но это было 800 миллиардов долларов.Мы думали, что нам нужно больше, и мы думаем, что это так. В конечном итоге это сработало, но замедлило процесс примерно на… И это зависело от того, с кем вы разговариваете, от шести месяцев до полутора лет. Мы можем вернуться, мы можем вернуться с ревом. По оценкам большинства экономистов, включая фирмы с Уолл-стрит, а также аналитические центры, политические аналитические центры слева направо и в центре, считается, что если мы примем только этот закон, то в этом году будет создано семь миллионов рабочих мест, в этом — семь миллионов.
Джо Байден: (26:11)
Итак, то, о чем мы не говорили, я не собираюсь продолжать, потому что я хочу услышать ваш вопрос, прошу прощения, мы не говорили о … Я помню вас и Я разговаривал во время кампании, и бывший парень сказал, что, ну, мы просто можем открыть кое-что, и это все, что нам нужно сделать.И мы сказали: «Нет, вам нужно разобраться с болезнью, прежде чем заниматься экономикой». Что ж, дело в том, что теперь нужно заниматься экономикой, а что это такое? Посмотрите на всех людей, у вас более 10 миллионов безработных. Нам нужно страхование по безработице, мы должны убедиться, что у вас есть 40% детей в Америке … Я говорю о нехватке продуктов питания, 60%.
Джо Байден: (26:57)
Вы когда-нибудь думали, что увидите день в Милуоки? За последние шесть месяцев вы бы увидели людей, выстраивающихся в очереди в своих автомобилях на час, насколько вы могли видеть, чтобы добраться мешок с едой? Я имею в виду, ради бога, это Соединенные Штаты Америки.Мы не можем с этим справиться? Мы обещали посмотреть на всех людей, которые были на грани того, чтобы их вышвырнули из квартир, потому что они не могут позволить себе арендную плату. Что произойдет, когда это произойдет? Все. Посмотрите на всех мам и пап, домовладельцев, у которых большие проблемы, если мы пока не субсидируем это.
Джо Байден: (27:31)
Посмотрите на всех людей, которые находятся на грани исчезновения, и сколько людей пропустили свои последние два платежа по ипотеке и могут быть лишены права выкупа.И именно поэтому я предпринял меры, чтобы сказать, что они не могут быть лишены права выкупа тем временем, потому что посмотрите, как это повлияет на экономику. Вы думаете, что сейчас плохо, позвольте всему этому случиться. Посмотрите на всех людей, которые потеряли свою страховку, сколько … Я не прошу поднимать руки, сколько из вас работали в корпорациях или компаниях, которые предоставляли услуги здравоохранения? Здравоохранение COBRA? Угадайте что? Компания рушится и знаете что? Вы теряете свою медицинскую страховку. Что ж, мы должны убедиться, что вы можете за это заплатить, чтобы люди продолжали двигаться.Так что я думаю, что больше, и подавляющее большинство серьезных людей говорят, что больше лучше, а не тратить меньше.
Андерсон Купер: (28:19)
Это Рэнди Ланге, независимый эксперт, который поддерживал Дональда Трампа в 2020 году. Рэнди является совладельцем деревообрабатывающей компании здесь, в Милуоки. Рэнди, добро пожаловать.
Рэнди Ланге: (28:29)
Вы предлагаете минимальную заработную плату в размере 15 долларов. Учитывая более низкую стоимость жизни, особенно на Среднем Западе, многие владельцы бизнеса обеспокоены тем, что это вынудит их выйти из бизнеса, вынуждая их сокращать или сокращать льготы.Как вы можете внушить малому бизнесу уверенность в том, что это поможет росту бизнеса Среднего Запада?
Джо Байден: (28:47)
Ну, во-первых, в этом отношении Юг не сильно отличается от Среднего Запада. Но вот в чем дело: если вы оглянетесь на последние 40 лет, когда увеличилась минимальная заработная плата, конечный результат чистой занятости не изменился. Подавляющее большинство экономистов, и есть исследования, которые показывают, что повышение минимальной заработной платы до 15 долларов в час может повлиять на ряд предприятий, но будет de minimis и так далее.
Джо Байден: (29:15)
Вот в чем дело, речь идет о постепенном продвижении по цене 7,25 доллара в час. Никто не должен работать 40 часов в неделю и жить в бедности, никто не должен работать 40 часов и жить в бедности. Но для владельцев малого бизнеса совершенно законно беспокоиться о том, как это изменится. Например, если бы мы постепенно увеличивали его, когда мы проиндексировали его на 7-20, если бы мы сохраняли его индексированным на 20 с учетом инфляции, люди прямо сейчас зарабатывали бы 20 долларов в час, это было бы так.
Андерсон Купер: (29:50)
Бюджетное управление Конгресса утверждает, что минимальная заработная плата в размере 15 долларов вытащит 900 000 человек из бедности, но также поможет 1,4 миллиона человек, их работа — это правильно?
Джо Байден: (30:00)
Да, но есть также, если вы прочтете все это про Пиноккио и все остальное, есть также такие же исследования, в которых говорится, что это не будет иметь такого эффекта, особенно если вы делаете это в с точки зрения того, как постепенно вы это делаете. Допустим, вы сказали, что собираетесь повысить минимальную заработную плату с 7 долларов.25 в час с настоящего момента до 2025 года до двух 12 долларов в час, до 13 долларов в час. Вы удваиваете чью-то зарплату, и влияние на бизнес будет абсолютным уменьшением и / или ростом ВВП, и он будет расти и приведет к экономическому росту.
Джо Байден: (30:35)
Но как малому бизнесу несправедливо беспокоиться о том, окажет ли увеличение этого показателя одним махом такой эффект. Я поддерживаю минимальную заработную плату в размере 15 долларов, я думаю, что столько же, если не больше доказательств того, что она будет способствовать росту экономики, а в долгосрочной и средней перспективе принесет пользу как малому, так и крупному бизнесу, и это не будет иметь такого замедляющего эффекта , но это спорный вопрос.
Андерсон Купер: (31:02)
Я хочу, чтобы вы познакомились с еще одним владельцем малого бизнеса. Это Тим Эйхингер, демократ из Милуоки, совладелец Black Husky Brewing. Тим, добро пожаловать.
Тим Эйхингер: (31:11)
Спасибо. Мы с партнером владеем небольшой пивоварней в районе Ривер-Уэст в Милуоки, и у нас есть девять замечательных сотрудников. Мы в первую очередь полагаемся на продажу пива из разливного цеха, и с пандемией наш бизнес упал примерно на 50%. Теперь, чтобы выжить, мы полагались в первую очередь на ссуды, гранты, а также на собственные резервы.Однако новая помощь действует слишком медленно, и в последнее время она стала более строгой в отношении того, как мы можем ее применить. Что вы сделаете, чтобы небольшой семейный и поп-бизнес, вроде нашего, выжил по сравнению с крупными корпорациями?
Джо Байден: (31:48)
Измените его кардинально, прежде всего, убедившись, что у нас есть генеральные инспекторы. Возможно, вы помните, когда был принят первый счет, вы могли вспомнить, как бежал парень и говорил: «Что произойдет, если банки не будут одалживать вам деньги.Они собираются задать вам вопрос: «У вас есть кредит на нас? Сколько у вас кредитов? Какие кредитные карты у вас есть у нас? »Потому что, несмотря на то, что они были подписаны, а мы в прошлый раз построили их заднюю часть, было слишком сложно давать вам взаймы.
Джо Байден: (32:17)
Что сделал президент? И я не хочу придираться к моде, я устал говорить о Дональде Трампе, я не хочу больше о нем говорить. Но последняя администрация потратила много времени на разговоры о том, что генеральные инспекторы не нужны.Мы выяснили, что 40% денег, ссуд ГЧП, предназначенных для малых предприятий, пошло корпорациям, которые были многомиллионными корпорациями. Вы увидите расследование, показывающее, что многое из этого было мошенничеством.
Джо Байден: (32:52)
Итак, что я делаю, я предоставляю вам 60 миллиардов долларов, чтобы вы могли сделать капитальные вложения, чтобы иметь возможность безопасно открывать свои двери и быть уверенными в том, что вы можете делайте то, что рекомендуется. Вы заметили, что для всех вас было очень мало федеральных указаний о том, как безопасно открывать свой бизнес.Тем не менее, вы знаете, можете ли вы проверить своих сотрудников, если вы можете оказаться в ситуации, если вы обслуживаете людей, у вас есть перегородки из оргстекла, весь диапазон. Если у вас есть возможность иметь всех в маске и тому подобном, вы можете сделать так много для спасения, но вы не поймете этого направления.
Джо Байден: (33:33)
Итак, деньги, которые я вам гарантирую, пойдут в малый бизнес с людьми, а я стреляю, и, кстати, первоначальное определение малого бизнеса — это 500 или меньше сотрудников. Ну, я не это имею в виду под малым бизнесом.Под малым бизнесом мы подразумевали семейный и поп-бизнес — это целые сообщества вместе и объединяющие людей, особенно в районах, где, если у вас нет салона красоты, парикмахерской, строительного магазина, продуктового магазина и т. так далее, центр сообщества начинает распадаться. Что мне нравится делать, так это то, что если вы готовы дать мне адрес, изложить его вам точно, не тратя больше времени, у меня будут проблемы, я должен говорить только две минуты в ответ, это дайте вам знать, как эти 60 миллиардов долларов в рамках пакета восстановления пойдут малым предприятиям.
Андерсон Купер: (34:27)
Хорошо. Мы собираемся сделать небольшой перерыв. Когда мы вернемся, у нас будут еще вопросы к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Мы сейчас вернемся. И добро пожаловать обратно. Мы живем на мероприятии CNN Town Hall в театре Pabst в Милуоки, штат Висконсин, с президентом Джо Байденом. Мы вернулись, большое спасибо за то, что были здесь. Прежде чем мы вернемся к аудитории, я хотел задать вопрос о том, чему мы только что стали свидетелями. Перед тем, как Сенат проголосовал за оправдание бывшего президента по делу об импичменте, вы сказали, что очень хотели увидеть, встанут ли сенаторы-республиканцы, но сделали это только семь.Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала остальных трусами. Вы с ней согласны?
Джо Байден: (35:03)
Я не собираюсь называть имена. Послушайте, вот уже четыре года в новостях говорят только о Трампе. В следующие четыре года я хочу убедиться, что все новости принадлежат американцам, я уже устал от выбора. Пора.
Андерсон Купер: (35:25)
Лидер сенаторского меньшинства Митч МакКоннелл сказал, что бывший президент «по-прежнему несет ответственность за все, что он делал, пока находился у власти.«Если бы ваше министерство юстиции захотело провести расследование в отношении него, вы бы позволили им продолжить?
Джо Байден: (35:36)
Я ясно дал понять, что одним из самых серьезных повреждений, нанесенных последней администрацией, была политизация Министерства юстиции. И если вы, юристы, знаете, являетесь ли вы демократом, республиканцем, консерватором или либералом, это было более политизировано, чем любое министерство юстиции в американской истории. Я взял на себя обязательство, я никогда не скажу своему Министерству юстиции, и это не моя…
Джо Байден: (36:03)
… Всегда говорите моему отделу юстиции, и это не мое, это народное управление юстиции, кого они должны и не должны преследовать.Их прокуратура оставит на усмотрение министерства юстиции. Не я.
Андерсон Купер: (36:15)
Я хочу, чтобы вы познакомились с Джоэлем Берковицем из Shorewood. Он демократ, профессор иностранных языков и литературы Университета Висконсин-Милуоки. Джоэл, спасибо, что был здесь.
Джоэл Берковиц: (36:23)
Спасибо, Андерсон. Добрый вечер, господин Президент.
Джо Байден: (36:25)
Я неплохо разбираюсь в литературе, но после пяти лет изучения французского я все еще не могу сказать ни слова, поэтому прошу прощения.
Джоэл Берковиц: (36:29)
Я научу вас как-нибудь идиш, как это?
Джо Байден: (36:31)
Эй, кстати, я немного понимаю идиш.
Джоэл Берковиц: (36:35)
Я уверен, что да.
Андерсон Купер: (36:36)
Было бы шонда, если бы он этого не сделал, но.
Джоэл Берковиц: (36:39)
Если серьезно, господин президент, я, как и миллионы моих сограждан, был потрясен атакой на Капитолий 6 января и на нашу демократию в более широком смысле, совершенную вашим предшественником и его последователями. .Хотя я ценю усилия, прилагаемые для привлечения их к ответственности, меня беспокоят постоянные угрозы нашей стране со стороны американцев, которые поддерживают превосходство белых, и связанных с ним заговоров. Что ваша администрация может сделать для решения этой сложной и широкомасштабной проблемы?
Джо Байден: (37:06)
Это сложно, масштабно и реально. Я начал заниматься политикой из-за гражданских прав и противостояния белой расе, клукс-клану, а самые опасные люди в Америке продолжают существовать.Это величайшая угроза террору в Америке, внутренний террор. И поэтому я бы позаботился о том, чтобы мое министерство юстиции и отдел гражданских прав уделяли большое внимание именно этим людям. И я бы позаботился о том, чтобы мы действительно сосредоточились на том, как бороться с ростом превосходства белых.
Джо Байден: (37:43)
И вы видите, что происходит в исследованиях, которые начинают проводиться, возможно, в вашем университете, о влиянии бывших военных, бывших полицейских на рост превосходства белых в некоторых странах. этих групп.Вы, возможно, помните, в одном из моих дебатов с бывшим президентом я просил его осудить «Гордых парней». Он бы этого не сделал. Он сказал: «Подожди, будь готов». Или как бы там ни было. Это отрава для нашего существования. Так было всегда. Как сказал Линкольн: «Мы должны обратиться к нашим лучшим ангелам». И эти парни не сумасшедшие, а женщины на самом деле сумасшедшие. Они опасные люди.
Андерсон Купер: (38:26)
Я хочу, чтобы вы познакомились с Джеймсом Льюисом, независимым представителем из Милуоки. Он адвокат по трудовым спорам.Джеймс, добро пожаловать.
Джо Байден: (38:30)
Джеймс, если я скажу что-нибудь, что вам не нравится, дайте мне знать сразу, ладно?
Джеймс Льюис: (38:33)
Хорошо. Все в порядке.
Джо Байден: (38:34)
Ты большой, как гора.
Джеймс Льюис: (38:35)
Добрый вечер, президент Байден. Я был государственным защитником в округе Кеноша, когда полиция застрелила Джейкоба Блейка. Я был свидетелем сожжения и разрушения города, в котором работал. А недавно окружной прокурор Майкл Грейвли отказался привлекать к ответственности виновных в этом полицейских.Итак, мой вопрос к вам: что ваша администрация сделает, чтобы исправить эти ошибки, свидетелями которых мы стали, не только в Кеноши, но и по всей стране? И что мы будем делать, чтобы преодолеть разрыв между общинами и их полицией?
Джо Байден: (39:08)
Три вещи. Во-первых, я тоже был народным защитником. И я думаю, что пора, чтобы государственным защитникам платили не меньше, чем прокурорам. Мой сын, кстати, был отличным прокурором. Он был Генеральным прокурором штата Делавэр, а до этого был федеральным прокурором.И поэтому я не осуждаю всех прокуроров, но я говорю, что важно, чтобы у вас была адекватная защита и вы могли привлечь людей, которые, по сути, могут жить, будучи таким государственным защитником. Номер один.
Джо Байден: (39:43)
Во-вторых, мы очень сильно настаиваем, и я думаю, что мы добьемся этого, — это законодательство, касающееся того, что является надлежащим поведением полиции, и изучение поведения полиции, и принятие рекомендаций. которые соответствуют законодательству, которое было введено в действие в результате того, что весь мир увидел, как одного человека столкнули с бордюром и убили через восемь минут 46 секунд.Итак, есть множество вещей, относящихся ко всему, от запретов на удаление информации и целого ряда вещей, которые вы знаете. Есть законодательство, которое вводится отдельно. Надеюсь, это пройдет.
Джо Байден: (40:27)
Но, в-третьих, я думаю, что мы должны иметь дело с системным расизмом, который существует во всем обществе. И одна из вещей, которые я собираюсь порекомендовать там, — это то, что мы рассмотрим целый комплекс вещей, которые влияют на то, по-разному ли относятся к цветным в первую очередь.И это касается всего, начиная с усмотрения прокуратуры. Вы знаете, как общественный защитник, и я имею в виду, что происходит… Слишком много времени уйдет на все объяснение, но позвольте мне попытаться сделать это быстро.
Джо Байден: (40:59)
Что происходит сейчас, если вы действительно собираетесь… арестовать кого-то, потому что он… и вы хотите предъявить ему обвинение. Вы можете обвинить их в грабеже или вооруженном ограблении. Если вы обвиняете их в вооруженном ограблении, у вас будет гораздо больше времени, чем если бы вы не предъявили обвинение в грабеже.Но если вы хотите удостовериться, что кто-то, мало разбирающийся в своем представительстве, может… вы совершите неправомерное поведение со стороны прокуратуры, предложив ему судиться по существу… Это не то же самое. Кража со взломом, за которую они получают два года и условно Так что вам даже не дадут суд. Вы просите, потому что у вас нет [неразборчиво 00:41:42] представителя. Вы чувствуете, что все снова у вас, и у вас проблемы.
Джо Байден: (41:47)
Когда я вынес приговор, который должен был сдержать, удостоверился, что у нас было одинаковое время для одного и того же преступления.Как председатель Судебного комитета, я просмотрел все 10 федеральных округов, и нам потребовалось шесть месяцев, чтобы выяснить, черный ли вы, и что вас впервые обвинили в краже со взломом, и, может быть, вы совершил это, и вы были белыми, и вы совершили точно такое же преступление во всех 10 округах Соединенных Штатов Америки, человек … и не называйте меня точными цифрами, но проценты верны. Если ты впервые белый парень, тебе будет два года. Если ты черный, ты получишь семь лет.
Джо Байден: (42:27)
Итак, чтобы убедиться, что вы не можете отправить людей в тюрьму за то же преступление, я придумал эту комиссию по вынесению приговора, в которой говорилось, что каждый, кто совершает преступление, должен получать между вместо нуля до 20 лет вы резко сокращаете количество лет, на которые вы можете попасть в тюрьму, но говорите, что должны, если вы, это одно правонарушение впервые, вы должны быть приговорены к сроку от полутора лет и три года. Хорошо?
Джо Байден: (42:55)
Но происходит то, что прокуроры используют это как механизм для отправки людей в тюрьму, и это создает впечатление, будто они имеют дело с обязательным приговором, для чего оно вообще не предназначалось.Он создан для того, чтобы с людьми обращались справедливо. Мне очень жаль, что я продолжаю. Есть о чем поговорить, но —
Андерсон Купер: (43:13)
У нас есть связанный с этим вопрос. Это Дэнни Эванс, пастор из Джейнсвилля, который работает надзирателем Программы отклонения прав в отношении несовершеннолетних в округе Рок. Он независимый агент, голосовал за Дональда Трампа в 2020 году. Он также является членом целевой группы штата по борьбе с расовым неравенством из 32 человек, созданной после убийства Джейкоба Блейка прошлым летом.Дэнни, добро пожаловать.
Дэнни Эванс: (43:32)
Добрый день, господин Президент. Возврат средств в полицию обсуждается как вариант реформирования полиции. Однако есть сообщества, в которых люди живут в страхе не перед полицией, а в страхе перед бандитскими бандами, которые совершают преступления в этих районах. Как мы можем быть уверены в том, что мы не переусердствуем с полицейскими, чтобы они не могли выполнять свою работу по защите законопослушных граждан, которые живут в этих районах с высоким уровнем преступности, и при этом обучать сотрудников полиции с состраданием?
Джо Байден: (44:04)
Под номером один, не пополнять деньги полиции.Мы должны вкладывать больше денег в работу полиции, чтобы у нас была законная общественная полиция, и мы оказались в ситуации, когда мы изменили законодательство. Никто не должен попадать в тюрьму за преступление, связанное с наркотиками. Никто не должен попадать в тюрьму за употребление наркотиков. Им следует пройти курс реабилитации от наркозависимости. Реабилитация от наркозависимости, номер один. Мы должны быть в положении, когда мы изменим систему вынесения приговоров на ту, которая связана с понятием… думаю, они говорят вам, что… связано с тем, чтобы убедиться, что то, что вы делаете, — это ваша концентрация на обеспечении реабилитации.Идея о том, что у нас нет людей в тюремных системах, которые учатся тратить деньги, учатся быть механиком, учатся быть поварами, учатся иметь профессию, когда вы выйдете из тюрьмы. Мысль о том, что мы лишаем кого-то, кто отсидел свое время, в доступе к грантам Пелла, доступу к жилью, доступу к… Прямо сейчас, как вы хорошо знаете, в большинстве мест, где вы выходите из тюрьмы, вы получаете 25 долларов и билет на автобус. Вы попадаете под мост именно туда, где были раньше.
Джо Байден: (45:18)
И дело в том, что во многих сообществах меньшинств озабоченность заключается в том, что «черное на черном», испаноязычное на испаноязычное, не только… но вот в чем дело.Должно быть намного серьезнее… Как бы это сказать? Гораздо более серьезное определение того, каково происхождение и отношение новобранца, каковы его взгляды. Должно быть гораздо больше психологического тестирования, как если бы вы попали в разведывательное сообщество. Что это такое? Что заставляет вас реагировать так, как вы делаете? Потому что в систему заложены врожденные предрассудки.
Джо Байден: (45:57)
И нам также нужно обеспечить, и это происходит, больше афроамериканцев и больше латиноамериканцев.Теперь, кстати, у них тоже далеко не все получается. Но каждый полицейский, когда он встает утром и надевает этот щит, имеет право рассчитывать, что в ту ночь он сможет вернуться домой к своей семье. И наоборот, каждый ребенок, идущий через улицу в толстовке с капюшоном, не является членом банды и собирается кого-нибудь сбить с ног. Итак, об образовании. Я хотел бы поговорить с вами об этом подробнее, потому что, на мой взгляд, это ответ и образование. Собственно доступ к образованию.
Джо Байден: (46:36)
И одна из вещей, о которых я много говорю, и мне жаль, что я продолжаю об этом, но это важно, я не думаю, что мы можем рассматривать нашу возможность, и давайте на минуту остановимся на афроамериканском сообществе.Что касается системы уголовного правосудия, это лишь малая часть того, почему люди такие, какие они есть. Вы понимаете, я не знаю, в каком доме вы живете, но если вы пойдете дальше и захотите получить страховку, и окажетесь в черном районе, вы заплатите больше за ту же страховку, что и я. платить за точно такой же дом. Твоя машина, ты никогда не попадал в аварию. Вы живете в черном районе, вы собираетесь платить более высокую премию за машину.
Джо Байден: (47:12)
Вы собираетесь… так что существует так много вещей, которые институционально встроены в этих обездоленных афроамериканцев и латиноамериканцев, что, на самом деле, я думаю, и одно из больших преимуществ… Я » Мне жаль, что продолжаю, но одно из величайших преимуществ, как бы плохо ни было, я продолжаю читать от президентских историков, как я унаследовал худшую ситуацию со времен Линкольна, хуже, чем Рузвельт, из-за экономического кризиса, политического кризиса, расового кризиса и т. так далее.Но дело в том, что теперь все получили возможность взглянуть крупным планом и увидеть, что произошло. Этот ребенок, тот ребенок, который держал камеру восемь минут и 46 секунд, разбудил весь мир. Когда я встретился с его маленькой дочерью после его смерти, она сказала: «Мой папа изменил мир». Угадай, что? Не только здесь, в Соединенных Штатах, во всем мире люди говорили: «Ого, я не знал, что это произошло».
Джо Байден: (48:06)
Доктор Кинг, когда мое поколение, когда я участвовал в движении за гражданские права в старшей школе в начале шестидесятых, а у вас был Бык Коннор и его собаки в конце пятидесятых, пение о тех дамах, которые ходят в своих черных платьях, ходят в церковь, и о маленьких детях, и срывают с них пожарные шланги.Он сказал: «То, что там произошло, было второй эмансипацией». Потому что люди в местах, где не было черных общин, говорили: «Это действительно происходит? Я не поверил. Они видели, как это произошло. Так появился Закон об избирательных правах. Он породил Закон о гражданских правах, который он назвал Второй эмансипацией.
Джо Байден: (48:46)
Сейчас у нас есть шанс, сейчас шанс существенно изменить расовое неравенство. И я собираюсь сказать, что что-то доставит мне неприятности, которые не могли бы пройти через все шоу без этого.Вот и все, подумайте об этом. Если вы хотите знать, где находится американская публика, посмотрите, какие деньги тратятся на рекламу. Вы когда-нибудь, пять лет назад, думали, что каждая вторая или третья реклама из пяти или шести, которые вы включаете, будет двухрасовой парой? Нет-нет, я не шучу. Причина, по которой я так надеюсь, — это новое поколение. Они не такие, как мы. Они думают иначе. Они более открытые. И мы должны этим воспользоваться.
Андерсон Купер: (49:28)
Я хочу, чтобы вы —
Джо Байден: (49:28)
Мне очень жаль.
Андерсон Купер: (49:32)
Я хочу, чтобы вы познакомились с Лу Вердой Мартин, демократом из Меквона.
Лу Верда Мартин: (49:36)
Меквон.
Андерсон Купер: (49:36)
Меквон, извините. Лу Верда — сертифицированная медсестра-акушерка, но добро пожаловать.
ЛуВерда Мартин: (49:43)
Добрый вечер, господин президент.
Джо Байден: (49:44)
Добрый вечер.
ЛуВерда Мартин: (49:45)
Опыт нашей страны с COVID-19 и другими недавними трагедиями и через них укрепил основу разделения среди американцев.Каковы ваши ближайшие и реальные планы по решению вопроса о том, насколько глубоко мы разделены как нация?
Джо Байден: (50:00)
Я не согласен с тем, что все говорят о подразделении. Например, мой план по COVID. 69% американцев поддерживают это. 69. В таком состоянии недавний опрос 60%. 60%. 45% избирателей Трампа и 55% избирателей-республиканцев. Нация не разделена. Вы выходите и смотрите и разговариваете с людьми. У вас есть полосы на обоих концах, но они далеко не так разделены, как мы представляем.И мы должны объединить это. Возможно, вы помните, в какую проблему я попал. Я сказал, что бегу по трем причинам. Один для восстановления души страны, порядочности, чести, целостности. Говорите о том, что важно для людей, относитесь к людям достойно. Во-вторых, я сказал восстановить хребет страны, средний класс, и на этот раз привести всех и получить шанс. И третья причина — объединить страну.
Джо Байден: (50:58)
На своих первичных выборах я спросил: «Объединить страну? О чем ты говоришь?» Вы не можете работать в нашей системе без консенсуса, кроме злоупотребления властью на исполнительном уровне.Так что я действительно думаю, что есть так много вещей, на которых мы согласны, но не уделяем должного внимания. И это в значительной степени, я думаю, потому, что мы не просто осуждаем вещи, которые настолько явно неправильны, явно неправильны, с которыми все согласны. Как они были воспитаны. То, как мы выросли. Как сказала бы моя мама, если бы половина вещей, которые произошли в прошлой кампании, вылетела из моего рта, то в детстве она сказала бы, что мы промоем мне рот с мылом. Я имею в виду, что мы должны быть более порядочными и относиться к людям с уважением.И просто порядочность.
Андерсон Купер: (51:53)
Позвольте мне задать вопрос, который часто разделяет многих людей в этой стране, — иммиграция.
Джо Байден: (51:59)
Да.
Андерсон Купер: (51:59)
Ваша администрация вместе с демократами в Конгрессе ожидает обнародования законопроекта об иммиграционной реформе только на этой неделе. Вы хотите получить гражданство примерно для 11 миллионов иммигрантов без документов. Вы бы подписали какой-либо законопроект об иммиграции, если бы он не включал это, путь для примерно 11 миллионов человек, не имеющих документов?
Джо Байден: (52:16)
Да, есть целый ряд вещей, связанных с иммиграцией, включая всю идею, как вы справляетесь … что смущает людей, так это то, что вы говорите о беженцах.Вы говорите о недокументированном. Вы говорите о людях, ищущих убежища, и о людях, которые пришли из лагерей или содержатся под стражей по всему миру. И есть четыре разных критерия для приезда в Соединенные Штаты. Подавляющее большинство людей, 11 миллионов людей без документов, не выходцы из Латинской Америки. Есть люди, которые приехали по визе, которые смогли купить билет, чтобы сесть в самолет, и не пошли домой. Рио-Гранде в плавании не попадались. Извините меня. Извини.
Джо Байден: (53:10)
Извините.Во мне есть ирландский. Но все шутки в сторону. Итак, есть много вещей, которые связаны, но я думаю, что мы не сможем долго … послушайте, вы слышали, даже если вы совсем не участвуете в политике, вы, вероятно, слышали, как я говорил это тысячу раз и Фактически, каждый имеет право на приличное и достойное обращение. Каждый имеет на это право. И мы не делаем этого впервые в американской истории. Если вы просите убежища, то есть вас преследуют, вы ищете убежища, вы не можете сделать это из Соединенных Штатов.Раньше вы приходили, просили офицера по убежищу определять, соответствуете ли вы критериям, и отправлять вас обратно, если вы действительно, но вы даже не можете этого сделать. Вам нужно искать убежище из-за границы.
Андерсон Купер: (54:01)
Но для ясности, и я знаю, что вы собираетесь —
Джо Байден: (54:03)
… из-за границы.
Андерсон Купер: (54:03)
Но, чтобы внести ясность, я знаю, что вы собираетесь анонсировать материал позже на этой неделе, или это то, что я слышал.Вы действительно хотите получить гражданство —
Джо Байден: (54:09)
Да.
Андерсон Купер: (54:10)
… примерно для 11 миллионов иммигрантов без документов, и это будет важно в любом счете для вас.
Джо Байден: (54:15)
Ну да. Но, кстати, если бы вы пришли и сказали мне тем временем: «Мы можем разработать систему, с помощью которой мы собираемся… Например, мы позволяли беженцам, 125 000 беженцев, въехать в Соединенные Штаты в один ежегодно. Было 250 000 человек.Трамп сократил их до 5000. Пойдем со мной в Сьерра-Леоне, пойдем со мной в районы Ливана, пойдем со мной по всему миру и увидим, как люди скапливаются в лагерях, умирают дети, нет выхода, беженцы, спасающиеся от преследований. Мы, Соединенные Штаты, вносили свой вклад. Мы были частью этого. То есть, пришлите мне свои сбившиеся массы. Ну давай же.
Джо Байден: (55:05)
И поэтому я бы, если бы у вас был счет о беженцах сам по себе, я не предлагаю этого, но есть вещи, с которыми я бы справился сам, но не за счет того, что сказал бы: « Я никогда не буду делать другого.Есть разумный путь к гражданству, и он проявляется … Одна из причин, по которой мы смогли так хорошо конкурировать с остальным миром, — это ксенофобия большинства наших основных конкурентов. Помню, вы спросили меня, когда я вернулся из Китая, и я сказал: «Я предсказываю, что менее чем через год они собираются положить конец своей политике единого Китая». И я был поражен, сказав… Потому что они сказали: «Байден не говорил о том, насколько это аморально». И это было тогда, когда мы боролись против республиканской партии, возглавляемой Миттом Ромни, прекрасным парнем.
Андерсон Купер: (55:49)
Вы только что разговаривали с президентом Китая —
Джо Байден: (55:51)
Да, на два часа.
Андерсон Купер: (55:52)
А как насчет уйгуров? А как насчет [перекрестных помех 00:55:55]
Джо Байден: (55:55)
Мы должны выступать за права человека. Вот кто мы. Мой комментарий к нему был, и я его хорошо знаю, и он хорошо меня знает. Мы двое наш разговор.
Андерсон Купер: (56:07)
Вы говорили с ним об этом?
Джо Байден: (56:08)
Я тоже об этом говорил, и это не столько беженец, но я говорил об этом.Я сказал: «Послушайте… китайские лидеры, если вы что-нибудь знаете о китайской истории, это всегда было время, когда Китай подвергался преследованиям со стороны внешнего мира, когда они не были объединены дома. Итак, центральная… Сильно завышена. Центральный принцип Си Цзиньпина заключается в том, что должен быть единый и жестко контролируемый Китай. И он использует свое обоснование для того, что делает, основываясь на этом. Я указал ему, что ни один американский президент не может оставаться президентом, если он не отражает ценности Соединенных Штатов.Итак, идея: я не собираюсь выступать против того, что он делает в Гонконге, что он делает с уйгурами в западных горах Китая и Тайваня, политики одного Китая, делая ее насильственной.
Джо Байден: (57:04)
Я сказал, и … Он сказал … Он понял. В культурном отношении в каждой стране действуют разные нормы, и ожидается, что их лидеры будут им следовать. Но моя точка зрения заключалась в том, что когда я вернулся после встречи с ним и проехал с ним 17000 миль, когда я был вице-президентом, а он был вице-президентом, и именно поэтому я так хорошо его узнал по просьбе президента. Ху.Не шутка, не шутка. Его предшественник, президент Ху и президент Обама, хотели, чтобы мы узнали друг друга, потому что он собирался стать президентом. И я вернулся и сказал: «Они собираются положить конец своей политике одного ребенка, потому что они настолько ксенофобны, что никого не пускают, и на пенсии больше людей, чем работает. Как они могут поддерживать экономический рост, когда все больше людей выходит на пенсию?
Андерсон Купер: (57:52)
Когда вы говорили с ним о нарушениях прав человека, касается ли это США, или есть какие-то реальные последствия для Китая?
Джо Байден: (58:00)
Что ж, для Китая будут последствия, и он это знает.Я хочу дать понять, что мы, по сути, продолжим подтверждать свою роль представителей прав человека в ООН и других агентствах, которые влияют на их отношение. Китай очень старается стать мировым лидером и получить это прозвище, и для этого им необходимо завоевать доверие других стран. И пока они занимаются деятельностью, противоречащей основным правам человека, им будет сложно это делать. Но все намного сложнее.Я не должен пытаться рассказать о политике Китая в течение 10 минут по телевидению.
Андерсон Купер: (58:41)
Что ж, позвольте мне вернуть его в Соединенные Штаты. Я хочу, чтобы вы познакомились с Джоселин Фиш, демократом из Расина. Джоселин — директор по маркетингу общественного театра. Джоселин, добро пожаловать. Ваш вопрос.
Джоселин Фиш: (58:50)
Привет. Добрый вечер, господин Президент.
Джо Байден: (58:51)
Добрый вечер.
Джоселин Фиш: (58:52)
Студенческие ссуды сокрушают мою семью, друзей и других американцев.
Джо Байден: (58:58)
Я тоже.
Джоселин Фиш: (58:58)
Американская мечта — добиться успеха —
Джо Байден: (59:00)
Думаете, я шучу.
Джоселин Фиш: (59:00)
Но как мы можем осуществить эту мечту, если долг для многих является единственным вариантом получения степени? Нам нужно прощение студенческой ссуды сверх потенциальных 10 000 долларов, предложенных вашей администрацией. Нам нужен минимум 50 000 долларов. Что вы сделаете, чтобы это произошло?
Джо Байден: (59:15)
Я не допущу этого.Это зависит от того, учитесь вы в частном университете или государственном университете. Это зависит от идеи, которую я говорю сообществу, я собираюсь простить долг, миллиарды долларов долга людям, которые учились в Гарварде, Йельском университете и Пенсильвании, и учат своих детей. Я ходил в отличную школу. Я ходил в государственную школу. Но будет ли это прощено вместо того, чтобы использовать эти деньги для обеспечения дошкольного образования маленьких детей, которые происходят из неблагополучных условий?
Джо Байден: (59:49)
Но вот что я думаю.Я думаю, что все, и я предлагаю это в течение четырех лет, каждый должен иметь возможность бесплатно, бесплатно поступать в общественный колледж. Это стоит 9 миллиардов долларов, и мы должны за это заплатить. Instagram — налоговая политика, которая у нас есть сейчас, мы должны иметь возможность платить за нее. Почти эти деньги вы тратите на перерыв для людей, владеющих скаковыми лошадьми.
Джо Байден: (01:00:14)
И я думаю, что любая семья, зарабатывающая менее 125 000 долларов, чьи дети ходят в государственный университет, в который они поступают, тоже должна быть бесплатной. И то, что я делаю в отношении накопленного студенческого долга, — это внесение изменений в существующую систему сейчас, для прощения долга, если вы занимаетесь волонтерской деятельностью.Например, если вы преподаете в школе, через пять лет вам будет списано 50 000 долларов из вашего долга. Если вы работали в приюте для пострадавшей женщины, если вы работали в приюте, значит, вы сможете простить долги.
Джо Байден: (01:00:53)
В-третьих, я собираюсь изменить нынешнюю позицию, чтобы разрешить прощение долга, потому что это так сложно подсчитать, а теперь вы можете это сделать, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете и что программы, которую вы искали, вы можете отработать этот долг за счет своей деятельности, и с вас не может взиматься более X процентов вашей заработной платы, чтобы это не повлияло на вашу способность покупать машину, владеть домом и так далее.
Джо Байден: (01:01:25)
Каждый из моих детей окончил школу. Я заложил дом. Я был назван самым бедным человеком в Конгрессе, не шутка, более 30 лет. Но я купил дом, над которым работал много времени, и смог продать его с некоторой прибылью. Но мой старший сын закончил бакалавриат и аспирантуру с долгом в 136 000 долларов, проработав 30 часов в неделю в школе. Другой мой сын учился в юридической школе Джорджтауна и Йельского университета, получил долг на 142 000 долларов.И он работал на парковку в Вашингтоне. Моя дочь училась в Тулейнском университете, а затем получила степень магистра в Пенсильвании. Она получила долг в размере 103 000 долларов. Так что я не думаю, что кто-то должен за это платить, но я действительно думаю, что вы должны суметь отработать это.
Джо Байден: (01:02:24)
Моя дочь — социальный работник. Другой мой сын руководил Всемирной продовольственной программой США и так далее. Они не прошли квалификацию. Но я хочу сказать, что я понимаю влияние долга, и это может быть изнурительным. И я думаю, что возникает целый вопрос о том, чем занимаются университеты.Им не нужно больше скайбоксов. Им нужно больше денег, вложенных в создание … Вот почему я предоставляю, например, 70 миллиардов долларов в течение 10 лет для HBCU и других университетов, обслуживающих меньшинства, потому что у них нет лабораторий, чтобы иметь возможность привлекать эти государственные контракты , который может обучить людей кибербезопасности или другим хорошо оплачиваемым начинаниям в будущем.
Джо Байден: (01:03:11)
Но я действительно думаю, что в этот момент экономической боли и напряжения мы должны исключить проценты по накопленным долгам, номер один.И во-вторых, я готов списать долг в размере 10 000 долларов, но не 50.
Андерсон Купер: (01:03:32)
Господин Президент, позвольте мне спросить вас-
Джо Байден: (01:03:34)
Потому что я не думаю, что у меня есть на это право [неразборчиво 01:03:37].
Андерсон Купер: (01:03:37)
За годы своей карьеры вы уже много времени проводили на Пенсильвания-авеню, 1600, за исключением того, что сейчас вы там живете и являетесь президентом. Прошло четыре недели. На что это похоже? А что по-другому?
Джо Байден: (01:03:51)
Я встаю утром, смотрю на Джилл и говорю: «Где мы, черт возьми?» Нет.Послушайте, я был президентом всего четыре недели, а иногда потому, что дела идут так быстро, а не из-за бремени, кажется, четыре года. Это не из-за бремени. Это происходит потому, что происходит так много всего, что вы постоянно сосредотачиваетесь на одной проблеме или возможности ad seriatim. Но происходит то, что это … Чего я не осознавал, я был в овальном кабинете 100 раз в качестве вице-президента или более того, каждое утро на первых встречах, но я никогда не был в резиденции.
Джо Байден: (01:04:43)
Одна из вещей, о которых я не знаю обо всех вас, но меня воспитали так, что вы не искали, чтобы кто-нибудь вас обслужил.И именно здесь я чувствую себя крайне застенчивым. Они замечательные люди, которые работают в Белом доме, но кто-то стоит там и следит за тем, чтобы передать мне мой пиджак, или-
Андерсон Купер: (01:05:05)
Вы никогда не были в резиденции Белого дома.
Джо Байден: (01:05:07)
Я был только наверху, в желтой комнате, Овал наверху.
Андерсон Купер: (01:05:13)
Не знаю. Я тоже там никогда не был.
Джо Байден: (01:05:16)
Но послушайте, люди там замечательные, и я считаю, что, как и мой отец, вы слышали, как я это говорил раньше.Мой отец говорил: «Каждый, каждый имеет право на уважительное отношение». Интересно, какие порядочные и невероятные эти люди.
Андерсон Купер: (01:05:40)
Это чем-то отличается от того, что вы ожидали?
Джо Байден: (01:05:44)
Я не знаю, чего я ожидал. Другое дело … Попадание в беду. Когда я баллотировался, я сказал, что хочу, чтобы он был президентом, а не жил в Белом доме, но чтобы иметь возможность принимать решения о будущем страны.И поэтому, живя в Белом доме, как вы слышали, другим президентам, которым было очень лестно жить там, это немного похоже на позолоченную клетку с точки зрения возможности выходить на улицу и делать что-то. Резиденция вице-президента была совсем другой. Вы находитесь на 80 акрах, с видом на остальную часть города, и вы можете выйти на улицу, там есть бассейн. Летом вы идете с крыльца, прыгаете в бассейн и идете работать. Вы можете кататься на велосипеде и никогда не покидать территорию, а также заниматься спортом.Но Белый дом совсем другой. И я чувствую, должен сказать вам, чувство истории об этом.
Джо Байден: (01:06:57)
Джон Мичем, которого вы знаете, и несколько других президентских историков помогли мне с моей… Я попросил своего брата, который хорошо в этом разбирается, открыть для меня Овальный кабинет. Потому что все это происходит буквально за два часа. Они выдвигают все и что-то вставляют. Было интересно услышать, как эти историки рассказывают о том, через что прошли другие президенты, и какие моменты, и кто были людьми, которые подошли к балу, а кто — нет.Вы понимаете, что для меня важнее всего то, что, хотя я это знал, наблюдая за семью президентами, которых я достаточно хорошо знал, я всегда в прошлом, смотрел на президентство с точки зрения Авраама Линкольна и Франклина. Рузвельт и Джордж Вашингтон. Они сверхчеловеческие. Но мне пришлось напомнить себе, что они действительно прекрасные люди, которых я хорошо знал, последние семь президентов. И, по крайней мере, это люди, которых я знал достаточно хорошо, чтобы знать, что я могу играть в одной команде. Так что это лишило меня смысла: «Боже мой, я не Авраам Линкольн, я не Франклин Рузвельт.Как мне справиться с этими проблемами? »
Андерсон Купер: (01:08:26)
Вы уже брали трубку и звонили кому-нибудь из бывших президентов?
Джо Байден: (01:08:29)
Да,
Андерсон Купер: (01:08:30)
У меня есть. Вы хотите сказать, кто?
Джо Байден: (01:08:32)
Нет, не знаю. Это частные разговоры. Но, кстати, все они, за одним исключением, подняли трубку и тоже звонили мне.
Андерсон Купер: (01:08:46)
Я знаю, что вы не хотите о нем говорить.
Джо Байден: (01:08:52)
Нет, но послушайте, я думаю, с моей точки зрения, это величайшая честь для американца. И я буквально молюсь, чтобы у меня была возможность сделать для страны то, что вы все заслуживаете. Но одна вещь, которую я понял после восьми лет работы с Бараком, — независимо от того, насколько важное решение было принято, я должен быть последним человеком в комнате с ним буквально, при каждом решении. Я могу порекомендовать, но я вышел из комнаты, и это был он, чувак.Никто другой, деньги на этом заканчиваются. И это когда вы молитесь о том, чтобы убедиться, что вы смотрите на влияние на страну, и немного удачи в вынесенном вами суждении.
Андерсон Купер: (01:09:55)
Господин Президент, большое спасибо за то, что присоединились к нам в этой ратуше.
Джо Байден: (01:09:59)
Спасибо.
Андерсон Купер: (01:09:59)
Мы хотим поблагодарить нашу аудиторию за то, что они здесь, за их вопросы. Мы также хотим поблагодарить…
Аманда Сейфрид рассказывает о своем новом фильме «Человек» и о фермерской жизни Видео
Сейчас играет: Даниэль Калуя о своей захватывающей роли в «Иуде и черном Мессии»
Играет сейчас: обладатель Оскара Джаред Лето о роли в новом триллере «Маленькие вещи»
Сейчас играет: 10 лучших фильмов 2020 года
Сейчас играет: Джейми Фокс рассказывает о своем новом фильме Pixar «Душа»
Сейчас играет: Джордж Клуни о своем новом фильме «Полночное небо» и жизнь в карантине
Сейчас играет: Риз Ахмед о своем новом фильме «Звук металла» и изучает ASL
Сейчас играет: Джон Дэвид Вашингтон о своей главной роли в новом фильме Кристофера Нолана «Тенет»
Сейчас играет: превью фильма осенью 2020 года: взгляд в будущее на новые фильмы, которые будут выпущены в этом сезоне
Сейчас играет: Мэттью Рис о роли Перри Мейсона: «Меня это напугало, но я сказал, что должен сыграть это»
Сейчас играет: почему Энди Сэмберг не хочет, чтобы вы много знали о его новом фильме «Палм-Спрингс»
Сейчас играет: 10 лучших фильмов 2020 года (пока)
Сейчас играет: Скотт Иствуд о создании «Заставы»
Сейчас играет: кинокритик и телекритик Rolling Stone Питер Трэверс реагирует на смерть комедийного персонажа Карла Ре
Сейчас играет: превью фильма лето 2020
Сейчас играет: Аня Тейлор-Джой в главной роли в классической сказке Джейн Остин «Эмма»
Сейчас играет: Сэм Хьюэн рассказывает о новом сезоне «Чужестранки», Катрина Балф
Сейчас играет: Питер Трэверс предсказывает, кто победит на церемонии вручения премии Оскар в 2020 году
Сейчас играет: Омари Хардвик о последнем сезоне сериала
Совет для студентов, чтобы они не звучали глупо в электронных письмах (эссе)
Уважаемый студент колледжа,
Если ваш профессор прислал вам ссылку на эту страницу, вероятно, верны две вещи.Во-первых, вы, вероятно, отправили электронное письмо, которое не представляет вас в том виде, в котором вы хотели бы быть представленным. Во-вторых, в то время как другие могли ругать вас, насмехаться над вами или отчаяться по поводу будущего планеты из-за вашего электронного письма, вы отправили его кому-то, кто хочет помочь вам лучше представить себя.
Отчасти из-за того, что всего лишь щелчок или смахивание или два отдельных сообщения электронной почты из Facebook, Twitter, Instagram и текстовых сообщений, границы между профессиональной электронной почтой и более неформальными способами написания стали размытыми, и многие студенты считают, что условности профессиональных электронных писем неясны.Мы думаем, что можем помочь во всем разобраться.
В эпоху социальных сетей многие студенты относятся к электронной почте так же, как к текстовым сообщениям и другим формам цифрового общения, где важнейшими условностями являются краткость и неформальность. Но большинство преподавателей колледжей считают электронную почту ближе к письму, чем к текстовым сообщениям. Этот стиль письма требует большей формальности, большей тщательности и более точного соблюдения (иногда граничащего с религиозной приверженностью) условностей отредактированного стандартного письменного английского языка, то есть орфографии, пунктуации, использования заглавных букв и синтаксиса.
Эти разные способы письма — это просто разные способы письма. Письменный подход к электронной почте не всегда лучше (или хуже), чем текстовый подход. Знание, как и когда использовать тот или иной — в зависимости от того, почему вы пишете и кому вы пишете, — имеет решающее значение. Итак, если вы используете смайлики, аббревиатуры, аббревиатуры и т. Д., Когда пишете своим друзьям, вы фактически демонстрируете законные и полезные навыки письма. Но вы не , если вы делаете то же самое, когда пишете профессорам, которые рассматривают электронные письма как письма.
Эффективное письмо требует формирования слов в соответствии с вашей аудиторией, целью и жанром (или типом письма, например, академическая электронная почта). Вместе это иногда называют риторическими ситуациями. Вот некоторые из ключевых условностей риторической ситуации, когда пишут профессору электронное письмо:
1. Используйте четкую строку темы. Тема «Риторическое аналитическое эссе» подойдет немного лучше, чем «хиииилп!» (и намного лучше, чем непростительная пустая строка темы).
2. Используйте приветствие и подпись. Вместо того, чтобы сразу переходить к сообщению или говорить «привет», начните с приветствия, например «Привет» или «Добрый день», а затем обратитесь к профессору, указав соответствующее название и фамилию, например «Проф. Ксавье »или« Доктор. Октавий. (Хотя это может быть непросто, в зависимости от пола, ранга и уровня образования вашего учителя, слово «профессор» обычно является безопасным выбором для обращения к преподавателю колледжа.) Точно так же вместо завершения «Отправлено с моего iPhone» или вообще ничего поставьте подпись, например «С уважением» или «С уважением», после которой укажите свое имя.
3. Используйте стандартные знаки препинания, заглавные буквы, орфографию и грамматику. Вместо того, чтобы писать: «Понимаю, о каком обряде 2 в моей статье вы можете помочь ??» попробуйте что-нибудь вроде: «Я пишу, чтобы спросить о темах, которые вы предложили вчера в классе».
4. Примите участие в решении того, что вам нужно решить. Если вы отправите электронное письмо, чтобы спросить о чем-то, что вы могли бы найти самостоятельно, вы рискуете представить себя менее изобретательным, чем следовало бы. Но если вы упомянули, что уже проверили программу, спросили одноклассников и просмотрели старые электронные письма от профессора, то вы представляете себя ответственным и инициативным.Поэтому вместо того, чтобы спрашивать: «Какая у нас домашняя работа на сегодня?» вы можете написать: «Я просмотрел учебную программу и веб-сайт курса с домашним заданием, назначенным на эти выходные, но, к сожалению, не могу его найти».
5. Помните о проблемах, связанных с правами. Справедливо или ошибочно, но многие профессора считают, что студенты «в наши дни» слишком сильно ощущают свои права. Если вам кажется, что вы требуете помощи, игнорируете пропуски занятий или предполагаете, что поздняя работа будет принята без штрафа, потому что у вас есть веская причина, ваши профессора могут посчитать вас безответственным или самонадеянным.Даже если верно, что «принтер не печатал» и вам «действительно нужна пятерка в этом классе», ваше электронное письмо будет более эффективным, если вы возьмете на себя ответственность: «Я недостаточно хорошо планировал наперед, и я согласитесь с любой политикой в отношении поздней работы ».
6. Добавьте немного человечности. Некоторые из самых эффективных электронных писем не являются строго деловыми — не только о программе, оценке, отсутствии или задании. Избегая очевидной лести, вы можете прокомментировать сказанное в классе, поделиться информацией о событии, о котором профессор может захотеть узнать, или передать статью из вашей ленты новостей, имеющую отношение к курсу.Эти виды расцветок, изящно вплетенные в них, придают электронной почте реляционный характер, признавая, что профессора — это не просто наблюдатели, но и люди.
Мы надеемся, что эти правила (или эти и эти) помогут вам понять, чего большинство профессоров хотят или ожидают от академических электронных писем. Это возвращает нас к более важному вопросу: эффективное письмо — это не просто следование всем правилам. Эффективное письмо означает письмо как акт человеческого общения — формирование слов в свете того, кому вы пишете и почему.
Конечно, на самом деле вы не обезопасите будущее планеты, написав электронные письма с темой и некоторыми знаками препинания. Но вы поможете своим профессорам немного меньше беспокоиться об этом.
С пожеланиями всего наилучшего в будущем,
PTC и CHM
Тот дискомфорт, который вы испытываете, — это горе
Во время глобальной пандемии возникло ощутимое чувство коллективного горя. Эксперт по горе Дэвид Кесслер говорит, что горе — это на самом деле множество чувств, с которыми мы должны справиться.В интервью HBR он объясняет, как сегодня применяются классические пять стадий горя (отрицание, гнев, торг, грусть, принятие), а также практические шаги, которые мы можем предпринять, чтобы справиться с тревогой. К ним относятся уравновешивание плохих мыслей с хорошими; сосредоточение на настоящем; отпустить вещи, которые вы не можете контролировать; и запасаясь состраданием. Кесслер также говорит о шестой стадии горя: о смысле. Он говорит, что после принятия мы найдем смысл в трудных для понимания событиях и будем сильнее для этого.
В эти трудные времена мы сделали ряд наших статей о коронавирусе бесплатными для всех читателей. Чтобы получать весь контент HBR по электронной почте, подпишитесь на рассылку Daily Alert.
Некоторые из редакторов HBR встретились буквально на днях — экран, полный лиц в сцене, становится все более распространенным явлением. Мы говорили о контенте, который мы заказываем в это мучительное время пандемии, и о том, как мы можем помочь людям. Но мы также говорили о своих чувствах.Одна из коллег упомянула, что она чувствовала горе. Головы закивали во всех стеклах.
Если мы сможем назвать это, возможно, мы сможем справиться с этим. Мы обратились к Дэвиду Кесслеру за идеями, как это сделать. Кесслер — ведущий мировой эксперт по вопросам горя. Он написал в соавторстве с Элизабет Кюблер-Росс «О горе и скорби: поиск смысла горя через пять стадий утраты» . Его новая книга добавляет к этому процессу еще один этап — В поисках смысла: шестой этап горя . Кесслер также десять лет проработал в системе из трех больниц в Лос-Анджелесе.Он служил в их команде по биологической опасности. Его волонтерская работа включает в себя то, что он был резервным специалистом Лос-Анджелеса по травматическим событиям, а также служил в группе спасательных служб Красного Креста. Он является основателем сайта www.grief.com, который ежегодно посещают более 5 миллионов человек из 167 стран.
Кесслер поделился своими мыслями о том, почему так важно осознавать горе, которое вы, возможно, испытываете, как справиться с ним и как, по его мнению, мы найдем в нем смысл. Беседа слегка отредактирована для ясности.
HBR: Люди прямо сейчас чувствуют разные вещи. Правильно ли называть то, что они чувствуют, горем?
Кесслер: Да, и мы чувствуем много разных горя. Мы чувствуем, что мир изменился, и он изменился. Мы знаем, что это временно, но мы так не думаем и понимаем, что все будет по-другому. Так же, как поездка в аэропорт навсегда отличается от того, как это было до 11 сентября, все изменится, и это момент, когда они изменились.Утрата нормальности; боязнь экономических потерь; потеря связи. Это бьет по нам, и мы скорбим. Коллективно. Мы не привыкли к такому коллективному огорчению в воздухе.
Вы сказали, что мы чувствуем не одно горе?
Да, мы тоже испытываем предвкушение горя. Предвкушение горя — это чувство, которое мы испытываем по поводу того, что нас ждет в будущем, когда мы не уверены. Обычно это сосредотачивается на смерти. Мы чувствуем это, когда кому-то ставят страшный диагноз или когда у нас есть нормальная мысль, что когда-нибудь мы потеряем родителя.Предвосхищающее горе — это также более широко представляемое будущее. Надвигается буря. Там что-то плохое. С вирусом такое горе сбивает людей с толку. Наш примитивный разум знает, что происходит что-то плохое, но вы этого не видите. Это нарушает наше чувство безопасности. Мы чувствуем потерю безопасности. Я не думаю, что мы все вместе утратили чувство общей безопасности вот так. Люди почувствовали это индивидуально или в составе небольших групп. Но все вместе это ново. Мы скорбим на микро- и макроуровне.
Что могут сделать люди, чтобы справиться со всем этим горем?
Понимание стадий горя — это начало. Но всякий раз, когда я говорю о стадиях горя, я должен напоминать людям, что стадии не являются линейными и могут происходить не в таком порядке. Это не карта, но она служит опорой для этого неизведанного мира. Есть отрицание, о котором мы часто говорим с самого начала: Этот вирус не повлияет на нас . Есть гнев: Ты заставляешь меня оставаться дома и забираешь мою деятельность. Есть торг: Ладно, если я буду дистанцироваться две недели, все будет лучше, верно? Печаль: Не знаю, когда это закончится. И, наконец, принятие. Это происходит; Я должен выяснить, как действовать дальше.
Принятие, как вы можете себе представить, — вот в чем сила. Мы находим контроль в принятии. Я могу мыть руки. Я могу держаться на безопасном расстоянии. Я могу научиться работать виртуально.
Когда мы чувствуем горе, возникает физическая боль.И бешеный ум. Есть ли способы справиться с этим, чтобы сделать его менее интенсивным?
Вернемся к предвкушению горя. Нездоровое предвкушение горя на самом деле — это тревога, и вы говорите об этом чувстве. Наш разум начинает показывать нам образы. Мои родители заболели. Мы видим худшие сценарии. Это наша защита. Наша цель — не игнорировать эти образы или пытаться заставить их уйти — ваш разум не позволит вам сделать это, и пытаться заставить это быть болезненно.Цель — найти баланс в том, о чем вы думаете . Если вы чувствуете, что худший образ обретает форму, заставьте себя думать о лучшем. Мы все немного заболели, и мир продолжается. Не все, кого я люблю, умирают. Может, никто этого не сделает, потому что мы все делаем правильные шаги. Ни один из сценариев нельзя игнорировать, но ни один из них не должен доминировать.
Ожидание горя — это ум, идущий в будущее и воображающий худшее. Чтобы успокоить себя, вы хотите, чтобы превратились в настоящее .Этот совет будет знаком всем, кто медитировал или практиковал осознанность, но люди всегда удивляются тому, насколько это может быть прозаично. Вы можете назвать пять вещей в комнате. Есть компьютер, стул, изображение собаки, старый коврик и кофейная кружка. Это так просто. Дышать. Осознайте, что в настоящий момент ничего, чего вы ожидали, не произошло. В этот момент с тобой все в порядке. У тебя есть еда. Вы не больны. Используйте свои чувства и подумайте о том, что они чувствуют. Стол тяжелый. Одеяло мягкое.Я чувствую, как дыхание переходит в нос. Это действительно поможет немного ослабить эту боль.
Вы также можете подумать о том, как отпустить то, что вы не можете контролировать. То, что делает ваш сосед, находится вне вашего контроля. Все что в ваших силах, так это держаться от них на расстоянии шести футов и мыть руки. Сосредоточьтесь на этом.
Наконец, самое время запастись состраданием . У всех будет разный уровень страха и горя, и он проявляется по-разному.Сотрудник на днях стал очень язвительным со мной, и я подумал: Это не похоже на этого человека; вот как они с этим справляются. Я вижу их страх и беспокойство. Так что наберитесь терпения. Подумайте о том, кем обычно являются люди, а не о том, кем они кажутся в данный момент.
Один особенно тревожный аспект этой пандемии — ее бесконечность.
Это временное состояние. Это помогает сказать это. Я проработал 10 лет в больничной системе.Меня готовили к подобным ситуациям. Я также изучал пандемию гриппа 1918 года. Мы принимаем правильные меры предосторожности. История говорит нам об этом. Это выжить. Мы выживем. Это время для чрезмерной защиты, но не слишком острой реакции.
И, я думаю, мы найдем в этом смысл. Для меня большая честь, что семья Элизабет Кюблер-Росс разрешила мне добавить к горю шестую стадию: смысл. Я довольно много говорил с Элизабет о том, что произошло после принятия. Я не хотел останавливаться на принятии, когда испытал какое-то личное горе.Я хотел смысла в самые темные часы. И я действительно верю, что в те времена мы находим свет. Даже сейчас люди понимают, что могут подключаться с помощью технологий. Они не такие далекие, как думали. Они понимают, что могут использовать свои телефоны для долгих разговоров. Им нравятся прогулки. Я верю, что мы продолжим искать смысл сейчас и когда это закончится.
Что вы скажете тому, кто прочитал все это и все еще чувствует себя подавленным горем?
Продолжайте попытки.В том, чтобы назвать это горем, есть что-то мощное. Это помогает нам почувствовать, что внутри нас. На прошлой неделе многие говорили мне: «Я говорю своим коллегам, что у меня тяжелые времена» или «Я плакал прошлой ночью». Когда вы называете это, вы чувствуете это, и он проходит через вас. Эмоции нуждаются в движении. Важно осознавать то, через что мы проходим. Одним из прискорбных побочных продуктов движения самопомощи является то, что мы первое поколение, которое испытывает чувства к своим чувствам. Мы говорим себе такие вещи, как: Мне грустно, но я не должен этого чувствовать; другим людям хуже. Мы можем — мы должны — остановиться при первом ощущении. Мне грустно. Отпусти меня на пять минут, чтобы мне стало грустно. Ваша работа — чувствовать свою печаль, страх и гнев, независимо от того, чувствует ли что-то кто-то другой. Борьба с этим не помогает, потому что ваше тело производит это чувство. Если мы позволим чувствам произойти, они будут происходить упорядоченно, и это придаст нам силы. Тогда мы не жертвы.
По порядку?
Да. Иногда мы стараемся не чувствовать то, что чувствуем, потому что у нас есть образ «банды чувств».«Если мне станет грустно и я впущу это в себя, это никогда не пройдет. Банда плохих чувств захватит меня. Истина — это чувство, которое проходит через нас. Мы чувствуем это, и оно уходит, а затем мы переходим к следующему чувству. Нет никакой банды, которая нас поймает. Абсурдно думать, что мы не должны сейчас испытывать горе. Позвольте себе почувствовать горе и продолжайте идти.
Если наш контент помогает вам бороться с коронавирусом и другими проблемами, рассмотрите возможность подписки на HBR. Покупка подписки — лучший способ поддержать создание этих ресурсов.
Скандинавы практически идеальны во всех отношениях
Стороннему наблюдателю Скандинавия может показаться группой небольших, трудно различимых северных стран. Скандинавские страны, которые часто высмеиваются правыми политиками как пример того, что все не так с большим правительством, являются одними из самых богатых и успешных обществ на Земле с исключительно высоким уровнем образования, здравоохранения и безопасности.
Говоря из своего дома в Копенгагене, Дания, британский журналист Майкл Бут, автор книги «Почти идеальные люди: за мифом о скандинавской утопии», объясняет, как «ген воина» может сделать финнов восприимчивыми к алкоголю, почему Грета Гарбо так знаменита Линия о желании побыть в одиночестве верна для большинства шведов, чему Соединенные Штаты могут научиться у северных стран и почему он любит флёдеболлер.
В конце фильма «Девушка, которая пнула шершень», есть кадр ночного Стокгольма. Помимо Стига Ларссона, у нас было множество других успешных на международном уровне экспортных товаров «нордического нуара». В чем дело?
Думаю, причина того, что люди в Британии и Америке полюбили нордический нуар, заключается в том, что они выглядят иначе. У них была мгновенная визуальная привлекательность, и они показывали людям часть мира — и это то, что я пытаюсь сделать в книге, — о которой большинство людей мало что знает, к которой немногие из нас ходят.Мы не говорим на языках; мы, может быть, время от времени покупаем некоторые из их продуктов и слушаем их музыку, но не многое другое.
В таких шоу, как «Форбридельсен» («Убийство») или «Борген», показан разный образ жизни, разные гендерные роли, разные способы ведения политики. Кроме того, есть привлекательность темного и ужасного в странах, которые считаются утопическими.
Когда вы сказали своим друзьям в Скандинавии, что пишете о них книгу, они сказали: «Зачем писать о нас? Мы скучные.«Что заставляло вас проявлять настойчивость?
Да, у них довольно заниженная самооценка, особенно в Швеции. Я получил это много. Я также получил это сначала от моего британского издателя, который сказал:« Кому действительно интересна Скандинавия? » Как и все, я имел тенденцию объединять скандинав в эту однородную группу бородатых, переработанных, прогрессивных, либеральных хиппи. Я не имел реального представления о четких различиях внутри племени. Итак, суть книги заключалась в том, чтобы помочь людям отделите их друг от друга и узнайте, чему мы можем научиться у них, потому что эти общества очень успешны.
Если вы думаете о них как о семье, норвежцы традиционно считались деревенскими кузенами, а шведы — старшим братом — старостой. Затем у вас есть датчане, которых считают паршивой овцой в семье: младший брат, который любит выпить или поиграть в косяк. Еще есть финны, которые вроде как сумасшедшая тетушка на чердаке.
Согласно многочисленным опросам, проведенным за последнее десятилетие, Дания признана «самой счастливой» страной в мире.(США — 17-е место). Страна также занимает второе место по потреблению антидепрессантов. Связаны ли эти две статистики?
У них также один из самых высоких уровней потребления алкоголя, они едят больше всего конфет в мире и имеют одно из самых высоких показателей потребления продуктов из свинины. Это действительно мощный коктейль, не правда ли? На самом деле антидепрессанты — отвлекающий маневр. Вы можете возразить, что у них слишком много абонементов или они лучше осведомлены о проблемах психического здоровья.
Но это не только последние десять лет. Датчане десятилетиями возглавляют эти опросы о качестве жизни. К сожалению, с 2008 года их уровень счастья резко упал. Последний опрос, проведенный в декабре 2014 года, показал, что доля датчан, заявивших о своем благополучии, снизилась с 83 процентов в 2006 году до 67 процентов в 2014 году. Так что, к сожалению, можно сказать, что деньги приносят вам прибыль. счастливый. [Смеется]
Датчане на протяжении десятилетий занимают лидирующие позиции в рейтингах качества жизни.Эта группа наслаждается расслабленным днем у причалов Копенгагена.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
The New York Times назвала Данию лучшим местом для увольнения. Почему кто-то работает?
Многие люди этого не делают, и это одна из самых больших проблем, с которыми сейчас сталкивается Дания. У них есть это фантастическое государство всеобщего благосостояния, которое традиционно поддерживает людей от колыбели до могилы. Если вы заболеете, потеряете работу или просто останетесь на обочине, она вас подберет.В результате у людей отсутствует стимул браться за черную низкооплачиваемую работу.
В зависимости от того, чьей статистике вы верите, на самом деле может быть лучше платить за то, чтобы не работать, даже в Швеции. Они пытаются изменить систему. В Дании примерно треть рабочей силы работает в государственном секторе, а другая треть тем или иным образом получает пособия. Так что для них голосование за сокращение — это все равно что индейки голосуют на Рождество.
Датчане также работают меньше часов, чем кто-либо другой в ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития].Поэтому, когда меня спрашивают, почему датчане такие счастливые, я отвечаю: они сексуальны, великолепны и красивы, и они не работают. [Смеется]
Правые политики США любят приводить Скандинавию в качестве примера всего плохого в государстве всеобщего благосостояния с высокими налогами. Но Скандинавия доказывает, что правительство может работать, не так ли?
Меня часто спрашивают, можно ли взять этот шаблон из Скандинавии и применить его в Америке. Но это было бы смешно. Это система для конкретного сайта.Большое правительство, высокие налоги, крупномасштабное перераспределение богатства здесь фантастически хорошо сработали. В Дании это называют «экономикой шмелей». Теоретически он не должен оставаться в воздухе. Но это так.
Грета Гарбо, культовая шведская актриса, сказала: «Я хочу побыть одна». По вашему мнению, это национальная характеристика. Объяснять.
Мне всегда казалось, что это просто шутка кинозвезды. Но это так по-шведски: хочется побыть одному, а также по-фински и по-норвежски.Датчане очень разные. Но в этих людях есть какая-то изоляционистская тенденция. Когда они гуляют, им не нравится смотреть в глаза, они не хотят болтать. На это нет времени, потому что чертовски холодно! [Смеется]
Посторонним они могут показаться очень грубыми, замкнутыми, почти аутичными. Для англичан с нашим барочным кодексом манер приезд в Скандинавию может быть очень болезненным. [Смеется]
Норвежцы чувствуют глубокую связь с ландшафтом и используют любую возможность, чтобы испытать его, как эта пара на беговых лыжах.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
У каждой нации есть сосед, который ей не нравится. Поляки не любят немцев; Французский анекдот про бельгийцев. Но никто не любит шведов. Почему?
Имеет исторические корни. Есть ощущение, что они отвернулись от всех во время Второй мировой войны. Они никогда не подвергались вторжению. Они якобы были нейтральными, и все же они очень хорошо экономили на продаже нацистам железной руды и другого сырья.Поговаривают даже, что немецким поездам разрешили пересекать территорию Швеции. Нацисты, конечно, вторглись в Данию и оккупировали Норвегию. Они воевали с финнами и против финнов.
Но на протяжении всей этой суматохи шведам удавалось держаться в стороне и пользоваться ситуацией. Когда война закончилась, пока мы все зализывали раны, шведы получили потрясающую фору. В пятидесятые и шестидесятые годы они были одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Это открыло путь к великому социал-демократическому эксперименту.
На вопрос, какая самая богатая страна на Земле, большинство людей ответят, что Швейцария или одно из нефтяных шейхов, например Кувейт. Но ведь не так ли?
В Норвегии сейчас не только на душу населения, но и в абсолютном выражении самый большой горшок с золотом в мире. Его называют суверенным фондом благосостояния, но его называют нефтяным фондом, и он составляет от 600 до 700 миллиардов долларов. Конечно, за последние шесть месяцев мы стали свидетелями резкого падения цен на нефть, что заставило Норвегию задуматься о том, чтобы класть все яйца в одну корзину.
Нефть также оказала большое влияние на норвежский характер. Если вы посмотрите, сколько больничных дней они берут, сколько отпусков, сколько они работают, сколько инноваций и новых отраслей создается в Норвегии, цифры действительно плохие. Теперь у них очень большие ожидания, но они не особенно хотят за это ухаживать, особенно в низкооплачиваемых отраслях, в которых они раньше были очень сильны.
Вы не найдете ни одного норвежца, работающего в рыбоперерабатывающей отрасли. , например.Это иммигранты с Филиппин или из Швеции. Если вы пойдете в ресторан в Осло, вас будут ждать шведы. Все молодые норвежцы хотят работать в СМИ.
Вы говорите, что норвежцы «привязаны к природе, а не к культуре». Как это проявляется?
Одна из главных черт, которая отличает норвежцев от остальной части региона, — это глубокая пупочная связь с их ландшафтом. Каждые выходные, когда вы возвращаетесь в офис, это повод для гордости, чтобы сказать, что вы были в сельской местности, лазили по горам, походы или катались на беговых лыжах.При любой возможности они хотят быть наедине с собой. Это понятно. Норвегия — одна из самых красивых и впечатляющих стран на Земле.
Алкоголь — проблема Скандинавии повсюду. Финны придают выпивке совершенно новый смысл, не так ли?
Как англичанин, я вряд ли могу указать пальцем на то, что выпил слишком много. Но у финнов такая репутация. Если вы посмотрите на цифры, они на самом деле выпивают меньше, чем в среднем по Европе чистого алкоголя на душу населения.Но проблема в том, что все это делают в пятницу или субботу вечером. Они эпические пьяницы, и это создает им всевозможные проблемы.
В настоящее время алкоголь — основная причина смерти мужчин-финнов. Они также становятся немного «дерзкими», когда напиваются. Некоторые люди считают, что у них есть особый ген, который плохо реагирует на алкоголь, называемый геном воина. У них один из самых высоких показателей убийств в Западной Европе. Так что это определенно проблема.
14 февраля террорист убил двух человек в Копенгагене, одного возле синагоги, — шок для страны, гордящейся своими показателями безопасности и открытости.Два дня спустя десятки тысяч датчан собрались, чтобы почтить память жертв обстрела.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Десять дней назад тысячи датчан прошли маршем в Копенгагене в знак протеста против расстрела со смертельным исходом на мероприятии в поддержку свободы слова и в еврейской синагоге. Это восходит к публикации в 2006 году в Дании карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда. Столкнется ли Скандинавия с теми же проблемами с исламским терроризмом, что и Франция или Великобритания?
Это происходит, и это ужасно.Только что было объявлено, что оружие, использованное убийцей, было украдено у датских военных и что в Дании пропало около 70 единиц такого оружия. В то же время другие люди арабского происхождения в районе Копенгагена, откуда прибыл преступник, открыто заявляли, что он герой: «Мы поддерживаем его». «Я понимаю, почему он это сделал». В Дании и Швеции, вероятно, есть сотни радикально настроенных мусульман, которые очень злы и мотивированы. Так что я думаю, что, к сожалению, их будет больше.Это очень тревожно.
Что вы любите и ненавидите в Скандинавии?
Мне нравится то, что они называют «высотой глаз», когда можно смотреть каждому в глаза, это чувство равенства. Я люблю это и ненавижу. Если вы пойдете в ресторан, обслуживание будет ужасным, потому что подростки, которые работают там, чтобы профинансировать свое обучение в университете, считают себя равными вам, поэтому служить кому-то ниже их. Но вы должны восхищаться равенством, которого они здесь достигли.
Еще мне нравится эта шоколадная штука, которую продают в Дании, под названием флёдеболлер. Это как зефир в шоколаде на песочной основе. Это один из величайших подарков, которые датчане подарили миру: флёдеболлер.
Саймон Уорролл курирует Книжный разговор. Следуйте за ним в Twitter или на simonworrallauthor.com.
Учителя специального образования борются с рисками очных занятий: «Невозможный выбор»
Кристофер Футчер / iStockМногие районы уже несколько месяцев проводят специальные уроки очного обучения.
Christopher Futcher / iStockМногие округа уже несколько месяцев предлагают специальные уроки обучения лично.
По мере того, как школы Калифорнии начинают снова открываться для очного обучения, учителя специального образования, которые уже встречались с учениками лично, описывают этот опыт как смесь страха, беспокойства и случайной радости, при этом условия меняются в любой момент.
Штат не отслеживает, сколько округов открыто для очного специального обучения, но некоторые начали предлагать очные оценки и обучение весной 2020 года, а осенью открылось больше.
Для таких учителей, как Сьюзан Черами-Макнесби, специалист по ресурсам из Ланкастера на севере округа Лос-Анджелес, личные встречи со студентами не стали легче, чем раньше.
Два дня в неделю она надевает маску, перчатки и пластиковый щит конической формы и сидит за барьером из плексигласа, оценивая, насколько хорошо дети могут писать, говорить или считать для помещения в классы специального образования. Класс оборудован очистителями воздуха и дезинфицирующим средством для рук, и каждому измеряют температуру хотя бы один раз.
Тем не менее, она нервничает. Несколько коллег заразились Covid-19, один чуть не умер. Черами-Макнесби за 60, у нее ослабленная иммунная система.
«Я люблю свою работу, правда, но это действительно нервно», — сказал Черами-Макнесби, который 23 года проработал специалистом по ресурсам, обучая студентов с особыми потребностями и помогая разрабатывать планы обучения. «Я очень осторожен. Я делаю все возможное, чтобы оставаться здоровым, ради моих внуков. Но это страшно ».
Специальное образование стало проблемой для многих округов во время пандемии, потому что учащиеся, получающие специальное образование, часто получают услуги, которые практически невозможно предоставить виртуально, такие как физиотерапия или трудотерапия.Оценки, необходимые для учащихся, поступающих в специальное образование, а также для уже зачисленных, также практически невозможно провести онлайн.
Когда в марте кампусы впервые закрылись, школьные округа попросили министра образования США Бетси ДеВос отказаться от некоторых требований к специальному образованию, опасаясь, что округа не смогут обеспечить их виртуально, а округа будут уязвимы для судебных исков со стороны родителей. ДеВос отказался, в результате чего многие округа начали оказывать услуги специального образования лично.
Округ Марин одним из первых в Калифорнии начал предлагать индивидуальные курсы специального образования с мая. План обеспечения безопасности округа из 30 пунктов, разработанный Департаментом общественного здравоохранения округа Марин и Управлением образования округа, оказался настолько успешным, что сейчас 86% школ округа, включая чартерные и частные школы, открыты для личного посещения. классы для почти всех студентов, сказала суперинтендант графства Мэри Джейн Берк.
Вот некоторые ресурсы, которые помогут семьям и учителям ориентироваться в специальном образовании во время пандемии:
«Обучение всех учащихся» предлагает ресурсы и советы для учителей и родителей учащихся с особыми потребностями.
Центр онлайн-обучения и студентов с ограниченными возможностями предоставляет рекомендации о том, как родители и учителя могут максимально использовать онлайн-учебную программу, предназначенную для учащихся с ограниченными возможностями.
Руководство по специальному образованию для Covid-19 от Министерства образования Калифорнии.
Справочник ресурсов«Виртуальное образование и учащиеся с ограниченными возможностями», опубликованный RespectAbility, организацией по защите прав лиц с ограниченными возможностями, охватывает широкий спектр тем, включая социально-эмоциональное обучение, юридические права, домашнее обучение и психическое здоровье.
Поддержка со стороны профсоюзов учителей, квалифицированного персонала и родителей была ключом к успеху плана, сказал Берк.
«Они внесли нам свой вклад на каждом этапе пути», — сказала она. «В целом, все идет хорошо, но с самого начала было очень важно поддерживать тесный контакт со всеми заинтересованными сторонами».
По данным Департамента общественного здравоохранения округа Марин, с августа, когда открылось большинство школ, уровень передачи коронавируса был очень низким. В округе зарегистрировано только семь случаев Covid, которые, по мнению властей, можно проследить до школ, и никаких госпитализаций.Фактически, общий показатель Covid в округе снизился с момента открытия школ.
Условия в других частях штата были не такими гладкими. В округе Керн, например, уроки специального образования несколько раз чередовались между очным и виртуальным обучением из-за местных всплесков заболеваемости Covid.
Марен и Трейси Келли, супружеская пара, живущая в Техачапи, к юго-востоку от Бейкерсфилда, оба учителя специального образования, которые говорят, что было замечательно снова увидеть своих учеников, но этот опыт оставил их в противоречии и беспокойстве.
«Мне было тяжело двигаться вперед и назад, моим ученикам было тяжело», — сказала Марен Келли. «Все колебания были пагубными. Слишком много хаоса ».
И как бы она ни любила своих учеников, видеть их лично — со всеми вытекающими из этого протоколами безопасности — нервировало. Студенты часто снимали маски или забывали правила социальной дистанции. Некоторые из учениц Трейси Келли имеют более тяжелые формы инвалидности и нуждаются в помощи по уходу за собой, которую невозможно сделать с расстояния 1,8 метра.
Иногда ученики приходили в школу с насморком или другими незначительными симптомами простуды, что побуждало к подрывному протоколу карантина до тех пор, пока ученик не дал отрицательный результат на Covid.
Марен Келли сказала, что она чувствовала себя так, как будто она провела половину своего дня, напоминая студентам, что нужно носить маски, мыть руки и держаться на расстоянии 6 футов друг от друга.
«Если бы у меня был выбор, я бы не вернулась», — сказала она. «Не потому, что я не хочу видеть своих учеников. Я люблю свою работу, но беспокоился о собственном здоровье ».
Ее муж, который входит в школьный совет Объединенной школы Техачапи и преподает в Антилоповой долине на востоке округа Лос-Анджелес, сказал, что он не так беспокоился, когда преподавал лично, и как член совета поддержал бы открытие школ, пока учителя адекватная защита.
«К этому нужно было немного привыкнуть, но через три дня я почувствовал, что у нас все закончилось. Это казалось нормальным », — сказал он. «Если у учителей достаточно протоколов безопасности, риск стоит того».
В Twin Rivers Unified, к северо-востоку от Сакраменто, специалист по ресурсам Джессика Хильдербранд проводит оценку учеников начальной школы два дня в неделю. Из 27 студентов, с которыми она регулярно работает, четверо недавно столкнулись с Covid.
Однажды она осматривала воспитанника детского сада, который не надевал маску и постоянно засовывал руки в рот, залезая под барьер из оргстекла и бегая по комнате.Она была так расстроена, что в тот же день прошла тест на Ковид.
«Я не могла на него злиться — ему 5 лет», — сказала она. «Он был симпатичен, насколько это возможно, но все было не на крючке. … Я ценю все меры безопасности, принятые в округе, но это сумасшедшие условия труда ».
Тем не менее, она беспокоится о своих учениках, которые не успевают с дистанционным обучением или вообще пропали из школы. Она беспокоится об их психическом здоровье и о том, насколько далеко они отстают в учебе.
«Потеря обучения реальна, особенно для студентов, обучающихся в специальных учебных заведениях», — сказала она. «Но какой компромисс? Я не знаю. Это тяжело.»
Томас Грин, старший преподаватель Института лидерства высшей школы образования Калифорнийского университета в Беркли, сказал, что учителя специального образования, с которыми он работал, сообщают о высоком уровне беспокойства во время пандемии.
Они сталкиваются с теми же проблемами, которые существовали до закрытия кампуса, включая хроническую нехватку персонала и нехватку ресурсов, но теперь их просят рисковать своим здоровьем.
