Стихи про любовь иосиф бродский: Стихи о любви Иосифа Бродского
Иосиф Бродский — Я вас любил: читать стих, текст стихотворения полностью
Шестой из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» Иосифа Бродского — вызывающая перелицовка пушкинского «оригинала»:
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее: виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! Все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!
1974
Сравнительный анализ стихотворения «Я вас любил» Бродского и Пушкина
Относительно творчества Бродского имеются два противоположных мнения. Согласно первому поэт является несомненным светилом русской поэзии, «вторым Пушкиным», который продолжил лучшие традиции великого предшественника и внес значительный вклад в национальную культуру.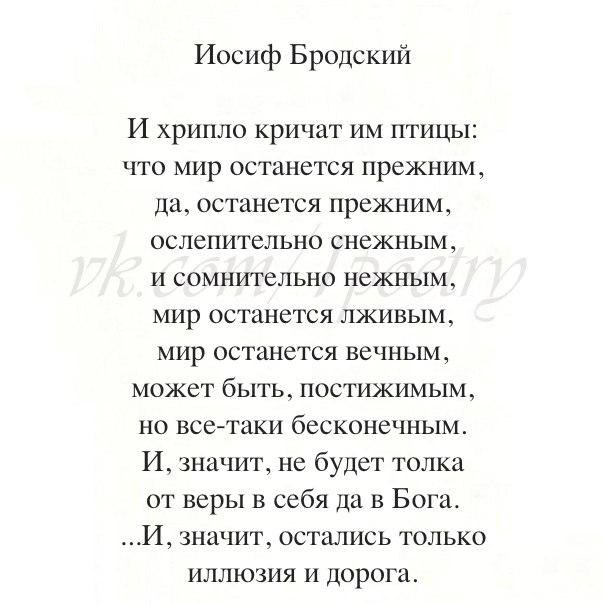
В этом смысле очень интересен анализ произведения Бродского «20 сонетов к Марии Стюарт», особенно шестой сонет, который прямо перекликается со стихотворением Пушкина «Я вас любил». Лирический герой Бродского обращает внимание на каменную статую Марии Стюарт. Шестой сонет представляет собой признание в любви исторической личности, в котором проглядывает личная любовная история поэта.
Бродский использует знаменитое стихотворение Пушкина, но значительно искажает его смысл и общее настроение. Сразу же бросается в глаза намеренное «приземление» языка. Поэт использует грубые, близкие к нецензурным, выражения: «разлетелось к черту», «вдарить», «пломбы в пасти». Рядом с ними находятся и торжественные «высокие» фразы: «дай Вам бог», «жар в груди».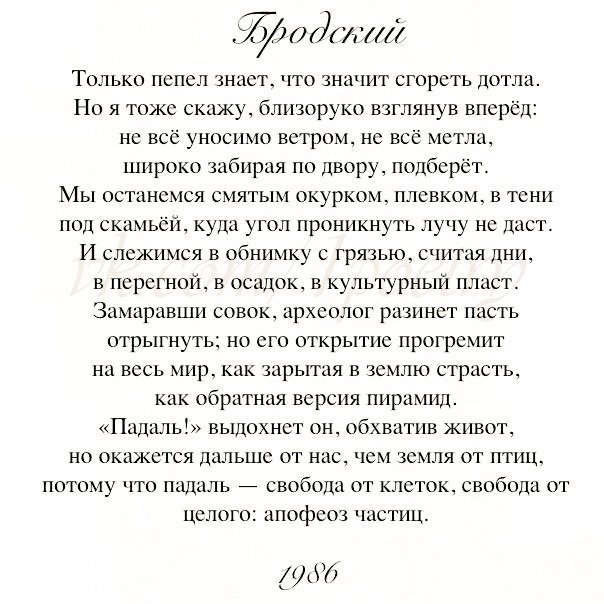 Возникшая «мешанина» слов производит огромное эмоциональное впечатление.
Возникшая «мешанина» слов производит огромное эмоциональное впечатление.
Создается чувство, что Бродский просто пародирует и издевается над пушкинскими строками. Но это не совсем так. «Я вас любил…» — знаменитое, ставшее классическим, признание в любви к женщине. Бродский использует его в качестве образца. Но, принадлежа к совершенно другой эпохе, поэт понимает, что такое признание выглядит неуместным. Поэтому он пропускает его через себя и изменяет в соответствии с требованиями времени.
Бродский иронизирует над самим собой и над своей бездушной эпохой. У Пушкина любовь трогательна и возвышенна. Влюбленный покорно принимает утрату, он стремится избавить любимую от беспокойства и желает ей найти свое настоящее счастье. Любовь у Бродского становится физическим плотским чувством. На смену покорности приходят мысли о самоубийстве, но и они заканчиваются насмешкой автора. Героя останавливают размышления над выбором виска для рокового выстрела. Его любовь эгоистична. Он считает, что Бог не способен создать такое же чувство в другом мужчине.
Бродский, безусловно, не может равняться с Пушкиным. Он сам это прекрасно понимает. Используя бессмертные строки, он показывает, насколько изменился мир. Подражать Пушкину просто бесполезно, так как культурный уровень человечества значительно понизился.
Иосиф Бродский — Дебют: читать стих, текст стихотворения полностью
1
Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга,
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.
А воскресенье началось с дождя,
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
с неплотно в стену вбитого гвоздя.
Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая,
квартира в этот час уже спала.
Она лежала в ванне, ощущая
Всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.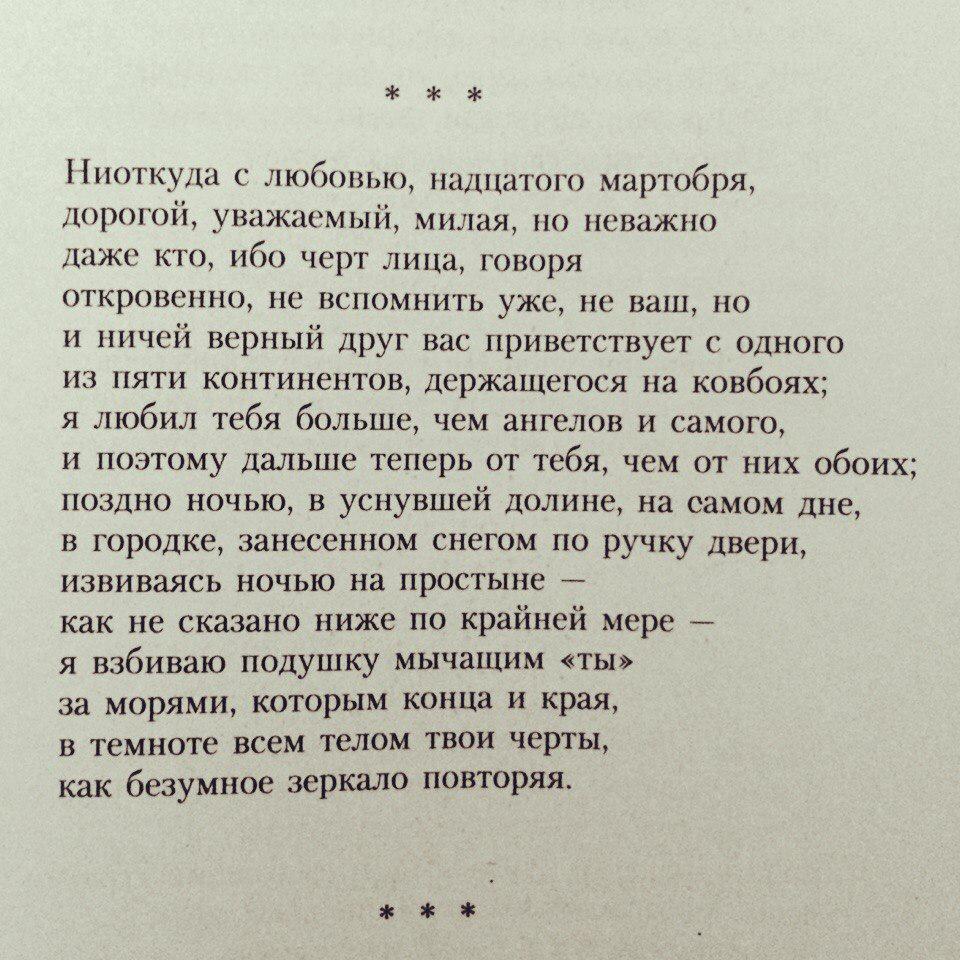
2
Дверь тихо притворившая рука
была – он вздрогнул – выпачкана, пряча
ее в карман, он услыхал, как сдача
Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки
он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ
сорвалось слово (Боже упаси
от всякого его запечатленья),
и если б тут не подошло такси,
остолбенел бы он от изумленья.
Он раздевался в комнате своей,
не глядя на пропахивающий потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом.
Анализ стихотворения «Дебют» Бродского
Иосиф Александрович Бродский — явление на поэтическом небосклоне как русской, так и американской культуры. Его характерный стиль лучше всего прослеживается в неоднозначном стихотворении 1970 года «Дебют».
Произведение создано в 1970 году, его автору 30 лет, он прошел арест и ссылку, принудительное обследование в психиатрической больнице, до эмиграции ему осталось 2 года.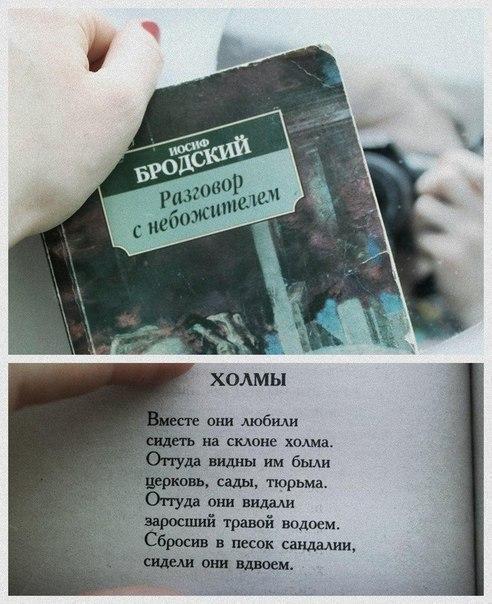 Он много писал и считался одним из самых даровитых молодых поэтов того времени. По жанру — любовная лирика, по размеру — ямб с охватной рифмой, 8 строф. Рифмы открытые и закрытые, мужские чередуются с женскими. Лирических героев два — она и он. Композиция сюжетная, симметричная.
Он много писал и считался одним из самых даровитых молодых поэтов того времени. По жанру — любовная лирика, по размеру — ямб с охватной рифмой, 8 строф. Рифмы открытые и закрытые, мужские чередуются с женскими. Лирических героев два — она и он. Композиция сюжетная, симметричная.
В стихотворении описаны студенческие реалии тех лет. После сдачи экзаменов, как награду себе, как веху на пути — студентка в субботу вечером приглашает к себе друга. Квартира явно съемная. Любопытство юности, грубая деловитость чувствуется во всех их действиях. Каждый из них думает, что он — хозяин ситуации. Она, пожалуй, циничнее его: властная инициатива исходит от нее, она же выставляет наутро студента за дверь. Он же просто воспользовался «удачей». Человек для них — лишь средство. Задача И. Бродского — не описание первого любовного опыта, а анализ психологического состояния героев после него. Оба ошеломлены, осмыслить собираются позже. Максимализм, желание самоутвердиться, бравирование отношением к любви как к просто физиологии руководят героями.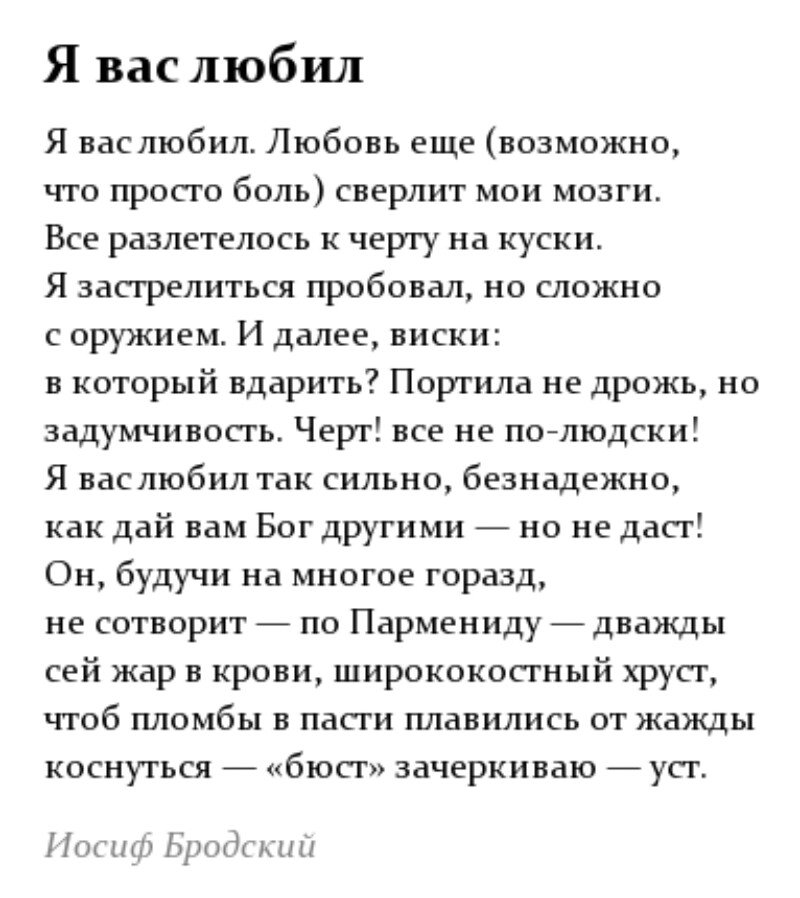
Стихотворение построено не на противопоставлении, а симметрии происходящего, поэт препарирует обоих героев. Лексика просторечная, даже казенная. Невинность девушки сравнивается с «туго закупоренной бутылкой». Героиня «выплеснула в рот остатки чая», герой присвистнул и грязно выругался. Так завершается «Дебют».
У поэта И. Бродского уникальная судьба: в защиту его таланта выступили Д. Шостакович, А. Твардовский, К. Паустовский. Успел он и сблизиться с давно ушедшим Серебряным веком — через общение с А. Ахматовой. Его стихи стали частью мирового литературного наследия.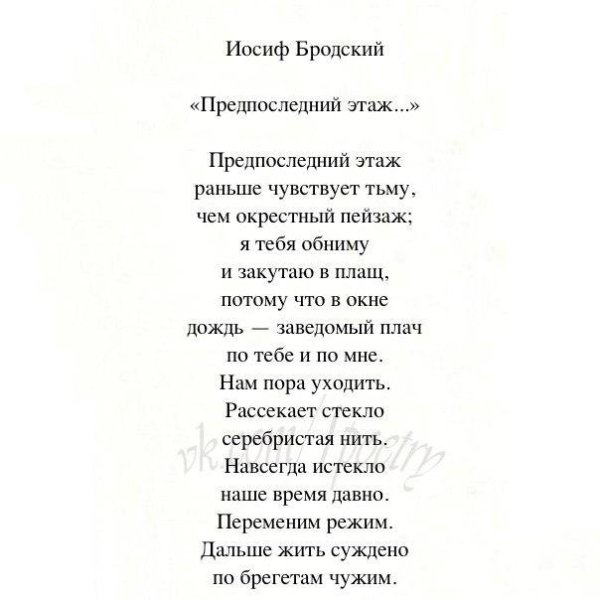
Бродский. Стихи. Любовь | Театральный центр «На Страстном»
12+
Фонд создания музея Иосифа Бродского (Санкт-Петербург)
Поэтический перформанс
Куратор Павел Михайлов
Фонд создания музея Иосифа Бродского (СПб) совместно с актерами московских театров «Практика», Центра им. Вc. Мейерхольда и театра «Мастерская Петра Фоменко» представляют созвездие стихотворений Иосифа Бродского — нобелевского лауреата, последнего классика ХХ века.
«Бродский. Стихи» — это непрерывная, пульсирующая читка под электронное музыкальное сопровождение, уже известная и с успехом проходившая на площадках интеллектуальных клубов и городских фестивалях Москвы — таких, как «Пикник Афиши», «Городской сюжет», арт-кафе «Море внутри», Alexey Kozlov Club.
С начала 2016 года проект стал постоянным резидентом Театрального Центра СТД РФ «На Страстном». Благодаря уникальной подборке стихотворений, каждый спектакль становится эксклюзивным событием, раскрывающим все новые и новые темы в неиссякаемом творчестве Иосифа Бродского.
55 лет назад, 2 января 1962 года, ленинградский приятель Иосифа Бродского Борис Тищенко (тогда еще студент консерватории, а впоследствии знаменитый композитор) знакомит его с Мариной Басмановой. Этой встрече суждено будет сыграть огромную роль. Около сотни стихотворений с посвящением М.Б. составили одну из самых пронзительных и восхитительных страниц любовной лирики в русской поэзии. Более 30 лет Иосиф Бродский посвящал ей свои стихи. Большая часть из них позднее вошла в сборнике «Новые стансы к Августе».
В день всех влюбленных мы отмечаем 55-летие этой важнейшей встречи поэтическим перформансом «Бродский. Стихи. Любовь».
Пусть ваши чувства будут такими же вечными.
- Продолжительность
- 1 час 20 минут без антракта
- Глеб Глонти, Михаил Мясоедов
- Художник:
- Дмитрий Горбас
- Куратор проекта:
- Павел Михайлов
Действующие лица и исполнители
- Читают:
- Ксения Орлова
- Наташа Горбас
- Елена Махова
- Валерий Караваев
- Артем Цуканов
- Павел Михайлов
Как писать под Бродского • Arzamas
Инструкция для начинающих стихотворцев
Составил Лев Оборин
Иосиф Бродский.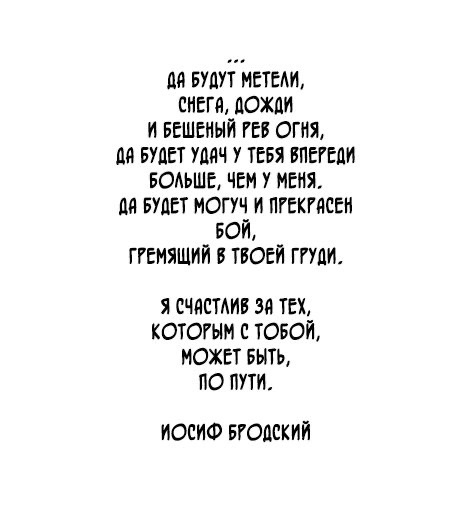 1972 год
© Bridgeman Images
1972 год
© Bridgeman Images
1. Прочитайте много Бродского. Желательно самых известных текстов, составивших ему славу. Обязательны «Большая элегия Джону Донну», «Холмы», «Осенний крик ястреба», «Ниоткуда с любовью…», «Представление», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Остановка в пустыне», «Горение», «Письма римскому другу». Игнорируйте тексты, которые не похожи на уже сложившийся у вас в голове образ Бродского. Гоните прочь «Пролитую слезу…». Никаких ранних «Пилигримов».
2. Прочитайте много не только Бродского. Вы — поэт ума, в вашей голове и ваших стихах сочетаются вещи из самых разных областей знания, языков, стилистических регистров, но сочетаются совершенно естественно, как в увлекательной лекции. Поэт есть орудие языка, язык состоит из слов, а слова можно почерпнуть в книгах.
3. Вас интересуют время и пространство. Время в первую очередь. Если пишете про любовь, старайтесь, чтобы внешне это выглядело как стихотворение о времени и немного о пространстве.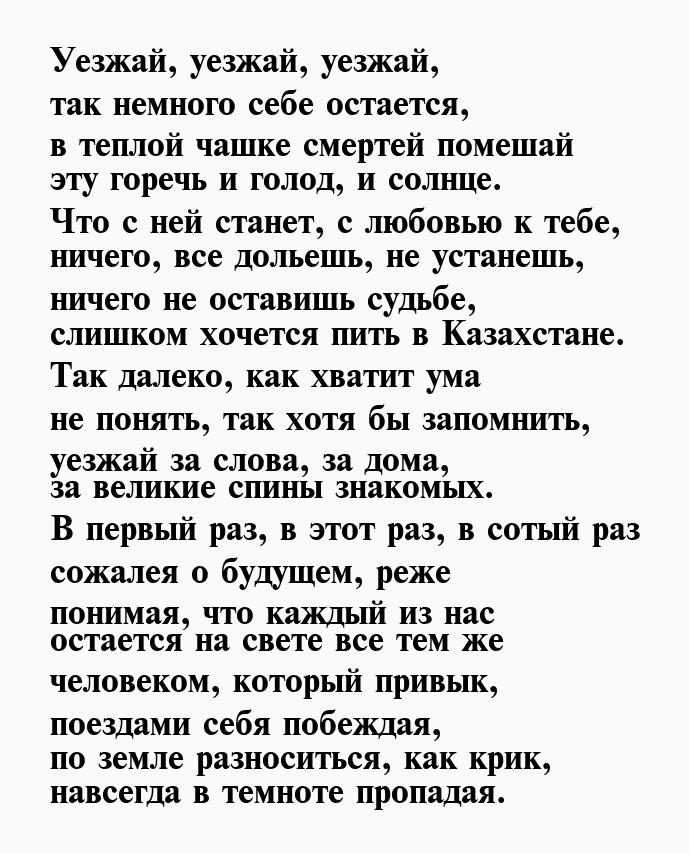
4. Античность — неисчерпаемый источник тем, образов, сравнений. Знайте, кто такие Мнемозина, Прозерпина и Дидона, что написал Овидий, а что Проперций, чем славны Цезарь и Тит Ливий, чем эрос отличается от хроноса (из поэзии Бродского вполне можно вывести, что ничем).
5. Не менее богатый источник — наука: например, математика. В конце концов, ею можно выразить все. Женские чресла привлекательны потому, что у них очень интересная геометрия: повод поразмышлять об углах и перспективе (а разлука, которая вполне может последовать за таким сравнением, есть проведение прямой). Попробуйте поэтически проделать такой фокус с любым предметом из тех, что вас окружают: для этого можно даже не выходить из комнаты.
6. Сочетайте в себе свободолюбие поэта с восхищением мощью империи. Но не конкретной империи, а абстрактной. Можно Древнего Рима (см. пункт 4).
7. Описывайте малое так, чтобы оно становилось большим.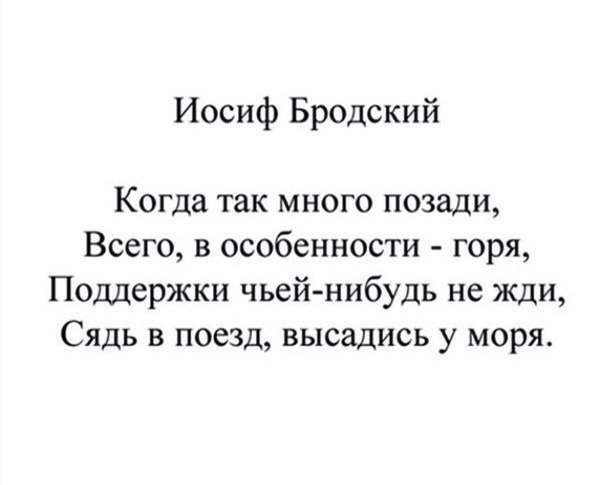 Куст, растущий возле вашего дома, можно уподобить взрыву, рекам на географической карте, руке, сотне рук, церковному подсвечнику, народу. Из прогулки по своему району можно сделать двадцать строф.
Куст, растущий возле вашего дома, можно уподобить взрыву, рекам на географической карте, руке, сотне рук, церковному подсвечнику, народу. Из прогулки по своему району можно сделать двадцать строф.
8. Перечисляйте. Большое делится на малое, малое — на еще более малое, называние этого дает поэтический каталог. Обозначайте все, мимо чего проходит ваш герой. Все, что находится в помещении, где он спит.
9. Выучите значение слова «просодия» и пользуйтесь этой самой просодией. Стихотворение должно звучать. Строки делайте подлиннее, чтобы звучание раскрывалось. Стихотворение должно выдерживать проверку «бродским» чтением вслух: протяжно, в нос и с понижением тона на последней строке.
10. Не забывайте про анжамбеманы. То есть переносы фразы из одной строки в другую, желательно в самых неподходящих синтаксически местах. Например,
разбивайте строки после предлога или
союза, который особенно полюбили.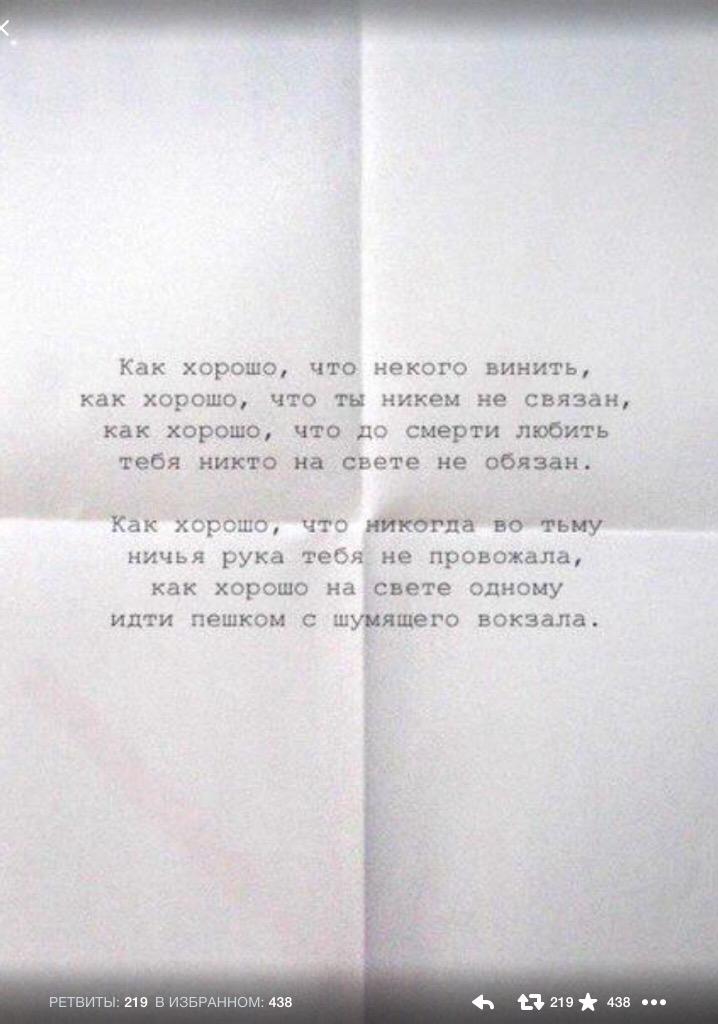
11. Употребляйте слово «ибо». Без него ничего не получится. Прокачав скилл «ибо», переходите к «зане». Посмотрите в словаре, что значат эти слова (Бродский знал).
12. Вместе с высоким стилем употребляйте и низкий. Полублатное «прохоря» вполне уместно в эпитафии маршалу. Слово, которое нельзя печатать в СМИ по современным российским законам, годится для изысканного цикла сонетов. В следующей строке после выражения «серпом по яйцам» может стоять «Аристотель». В вашей обыденной, непоэтической речи может происходить то же самое: Блок балдел от петербургских закатов, а самый сопливый англоязычный поэт благодаря мужским окончаниям воспринимается русским слухом как голос сдержанности.
Лучшие стихи Иосифа Бродского — Афиша Daily
5 октября в большом зале «Гоголь-центра» актеры московских театров представят большой поэтический концерт «Бродский. Стихи». По просьбе «Афиши Daily» один из участников концерта, актер Павел Артемьев, выбирает пять своих любимых стихотворений Иосифа Бродского.
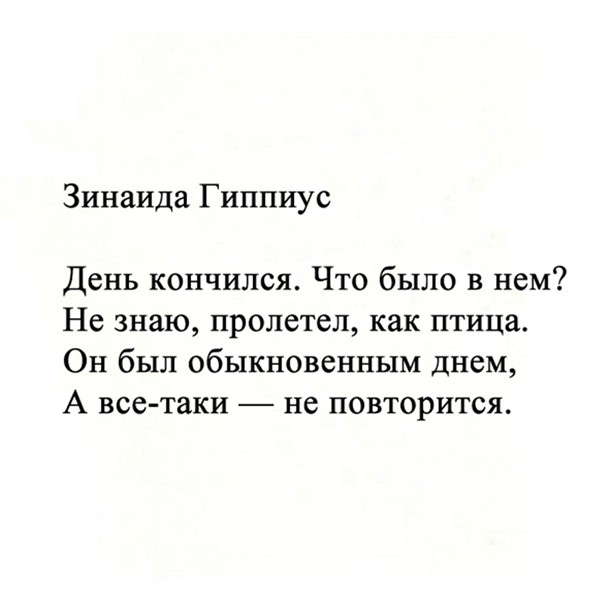
Павел Артемьев
Музыкант, актер
Я с малых лет с ним знаком. Так получилось, что мне мама читала много Бродского — ну и не только Бродского. Я думаю, что лет с 10 уже я слышал очень много стихотворений. Не читал еще сам, но это уже было так или иначе заложено мне в голову. Как только я стал читать его стихи уже сам, всерьез, оказалось, что я с ним давным-давно знаком. Конечно, в 10 лет не то чтобы дико интересно даже Пушкина читать, не то что Бродского. Но когда ты уже начинаешь это делать осознанно, просыпается большая благодарность к маме — в том числе за то, что она это все закладывала мне в голову. Поэтому так получилось, что я с ним был знаком уже заранее. Друзья по переписке. (Смеется.)
«Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова»
Кажинный раз на этом самом месте
я вспоминаю о своей невесте.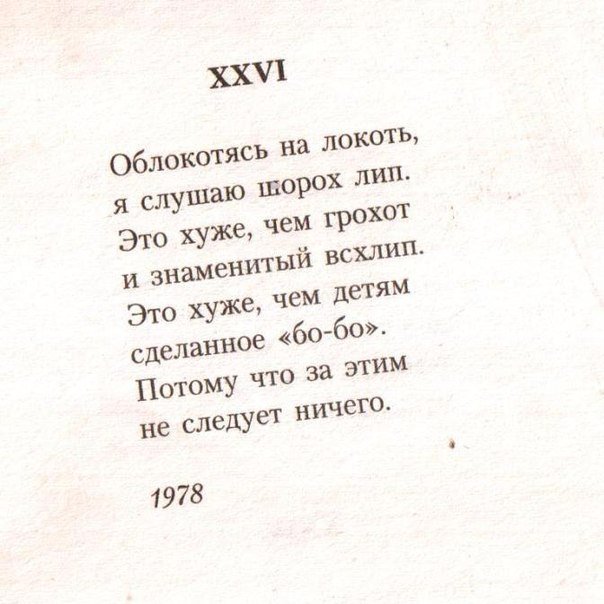
Вхожу в шалман, заказываю двести.
Река бежит у ног моих, зараза.
Я говорю ей мысленно: бежи.
В глазу — слеза. Но вижу краем глаза
Литейный мост и силуэт баржи.
Моя невеста полюбила друга.
Я как узнал, то чуть их не убил.
Но Кодекс строг. И в чем моя заслуга,
что выдержал характер. Правда, пил.
<…>
Я это стихотворение действительно очень люблю. Мне кажется, в нем есть такое смешение жанров, и его безумно увлекательно рассказывать как настоящую живую трепещущую историю, очень близкую каждому. Оно отчасти комедийное… притворяется комедийным, что ли, на мой взгляд, — но на самом деле это довольно страшное, грустное и суровое стихотворение о потерянной мужской любви. Бродский, конечно, очень остроумный поэт, человек с острым умом. Но у него местами довольно-таки жестокий юмор. Это не всегда смешно, что ли, — он высмеивает, но не всегда смешит.
«Рождественская звезда»
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти:
мело, как только в пустыне может зимой мести.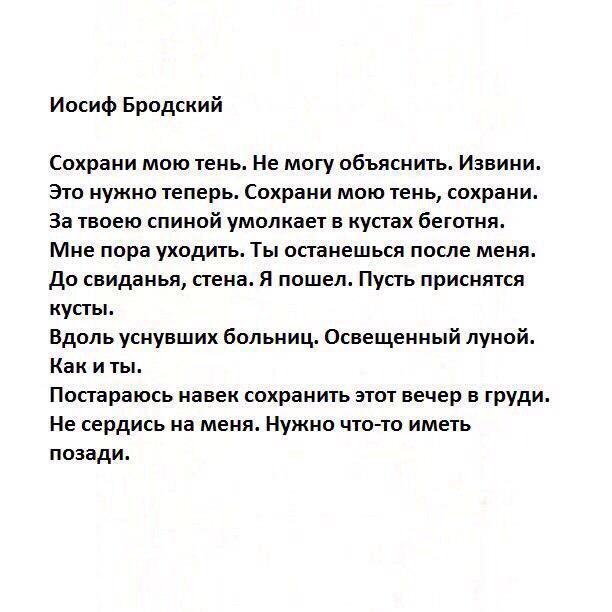
Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях Ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.
Я до конца не понимаю, был он агностиком или убежденным атеистом, но его «Рождественский цикл», мне кажется, может сработать во благо христианской церкви помощнее какого‑нибудь проповедника. Потому что с такой красотой образов и этих слов не каждый священник справится. Но если выбрать одно какое‑то стихотворение — я очень люблю это: «В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре, чем к холоду»… Мне нравится, как он уходит от малого, от бытового во Вселенную в конце — и возвращается, опять же, к ниточке, которая связывает просто отца и сына. «И это был взгляд Отца» — меня это очень трогает.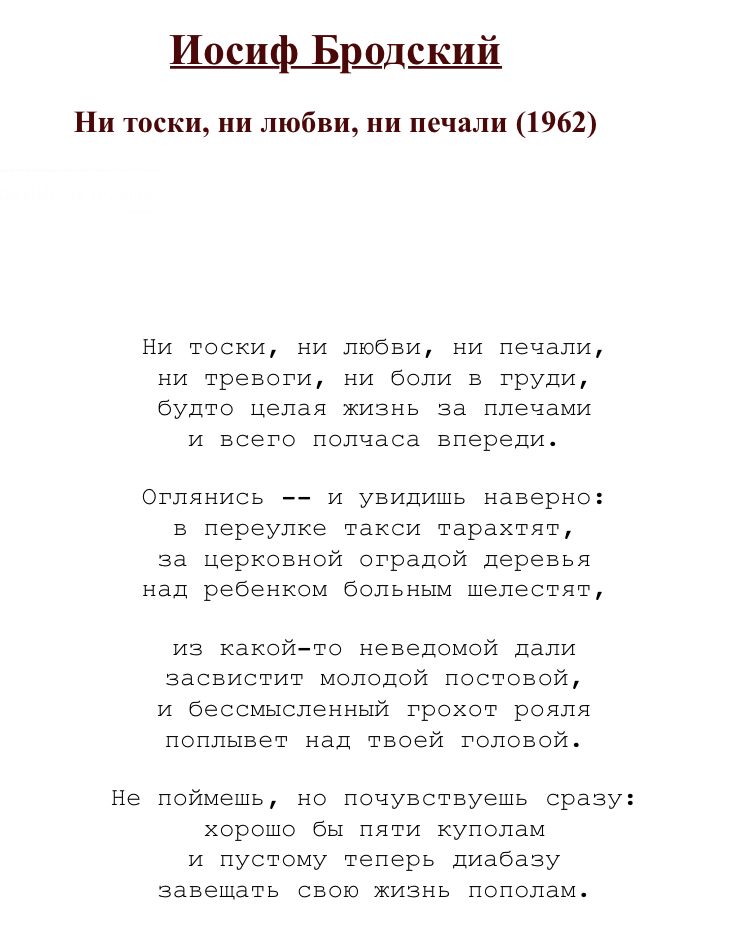
«Представление»
<…>
Входит некто православный, говорит: «Теперь я — главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю.
Хуже порчи и лишая — мыслей западных зараза.
Пой, гармошка, заглушая саксофон — исчадье джаза».
И лобзают образа
с плачем жертвы обреза…
<…>
Просто крутейшее стихотворение. Гению вообще свойственно быть немножко предсказателем, потому что вот даже эта строчка «Входит некто православный, говорит: «Теперь я — главный» — это же абсолютно вот так сейчас и есть. И главное, что этот человек не всегда и православный, но — «Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю». Это же все сейчас и происходит, и это стихотворение абсолютно гениально, на мой взгляд.
«Стихи о зимней кампании 1980 года»
Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени,
от стремленья согреться в мускулатуре
торса, в сложных переплетеньях шеи.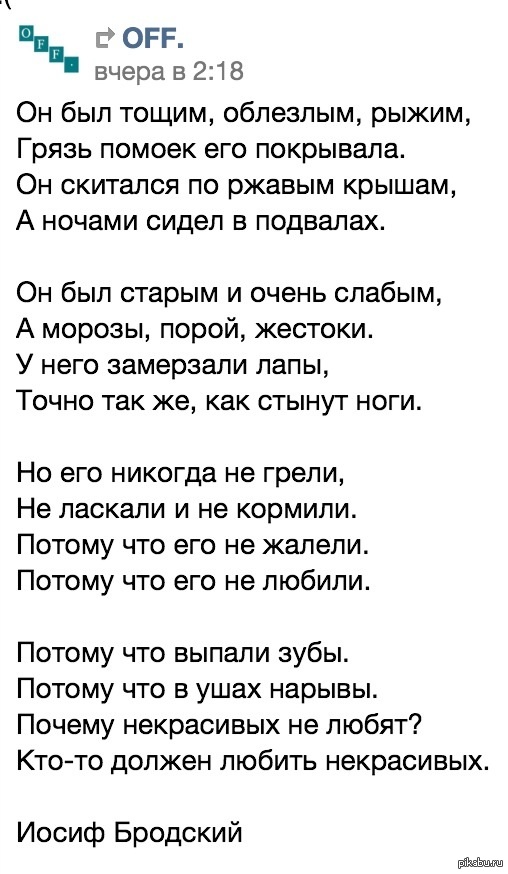
Камни лежат, как второе войско.
Тень вжимается в суглинок поневоле.
Небо — как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса
поднимается взрыв. Брызгающая воронкой,
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.
<…>
Мощнейшее стихотворение про афганскую кампанию — это, конечно, до дрожи тоже. Очень сильное стихотворение, и абсолютно ясная гражданская позиция. Я с детства эти стихотворения знаю, они, я думаю, на меня сильно повлияли.
«Под раскидистым вязом…»
Под раскидистым вязом, шепчущим «че-ше-ще»,
превращая эту кофейню в нигде, в вообще
место — как всякое дерево, будь то вяз
или ольха — ибо зелень переживает вас,
я, иначе — никто, всечеловек, один
из, подсохший мазок в одной из живых картин,
которые пишет время, макая кисть
за неимением, верно, лучшей палитры в жисть,
сижу, шелестя газетой, раздумывая, с какой
натуры все это списано? чей покой,
безымянность, безадресность, форму небытия
мы повторяем в летних сумерках — вяз и я?
Очень крутое стихотворение, где описывается творческий процесс — это вообще редкая штука. Тут описан весь мыслительный процесс поэта, как из ничего рождаются стихи — очень красиво, на мой взгляд.
Тут описан весь мыслительный процесс поэта, как из ничего рождаются стихи — очень красиво, на мой взгляд.
Подробности по теме
Вадик Королев: «Жажда читать должна быть искренней, алчной, страшной»
Вадик Королев: «Жажда читать должна быть искренней, алчной, страшной»Особый статус: Иосиф Бродский и его место в истории ХХ века | Статьи
24 мая 1940 года, 80 лет назад, родился Иосиф Бродский, нобелевский лауреат и крупнейший русский поэт второй половины XX века. Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как быстро Бродский обрел статус живого классика, как складывались его отношения с властью и как аполитичность поэта уживалась со стихами об афганской войне и независимости Украины.
Место в строю
Слово «гениальность» имеет — во всяком случае в русской смысловой традиции — отчетливо иерархическое значение. «Иванов — хороший писатель, Петров — выдающийся, Сидоров — великий.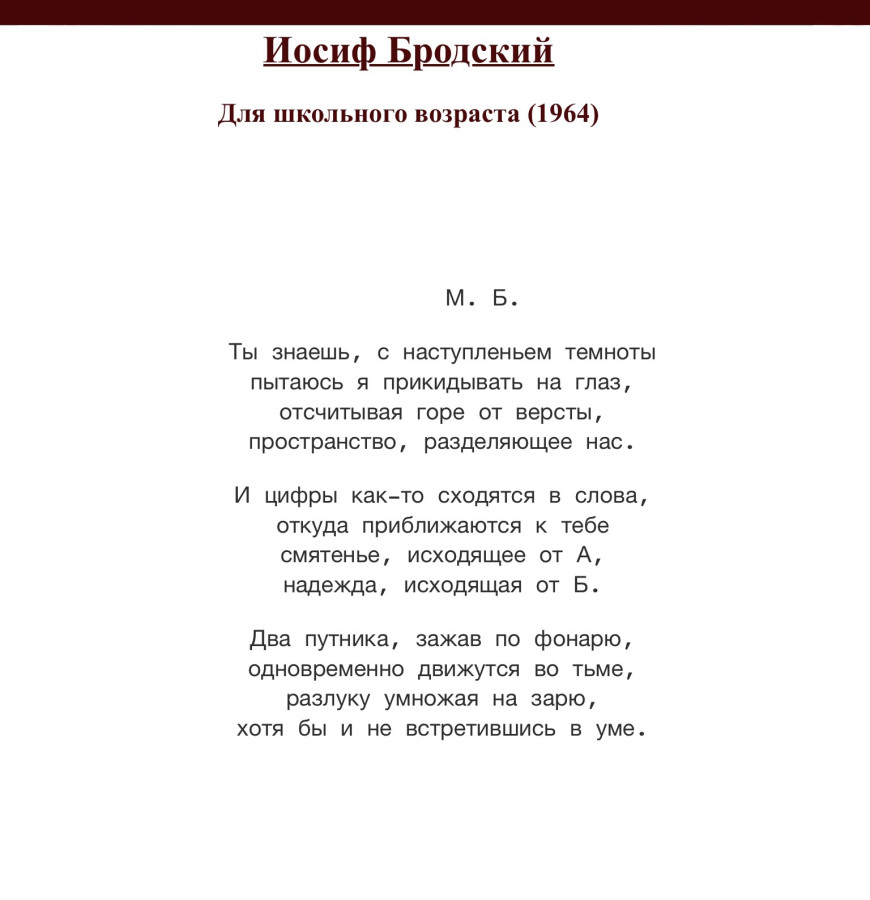 Пушкин — гений». Нечто вроде эполет генералиссимуса. Правда, уже на втором круге размышлений начинаются проблемы. А Лермонтов — он как, гений? Вроде бы да. А Некрасов? А Блок?
Пушкин — гений». Нечто вроде эполет генералиссимуса. Правда, уже на втором круге размышлений начинаются проблемы. А Лермонтов — он как, гений? Вроде бы да. А Некрасов? А Блок?
Гениальность всё же, кажется, про место не на вершине, а чуть в стороне, наособь. Про поразительное несовпадение масштаба дарования и обстоятельств биографии. Про то, когда хочется только спросить «Но, черт побери, как?!» и не задавать больше никаких вопросов.
А еще гения видно сразу, с самой юности, с самых первых шагов в творчестве. Причем видно настолько, что все окружающие — даже если считают гениями самих себя — сразу и безоговорочно признают кого-то даже не первым среди равных, а фигурой из другого измерения.
Иосиф Бродский — поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе
Фото: commons.wikimedia.org/Rob Croes
Иосиф Бродский, последний гений русской литературы, родился в Ленинграде в культурной, но вовсе не богемной семье.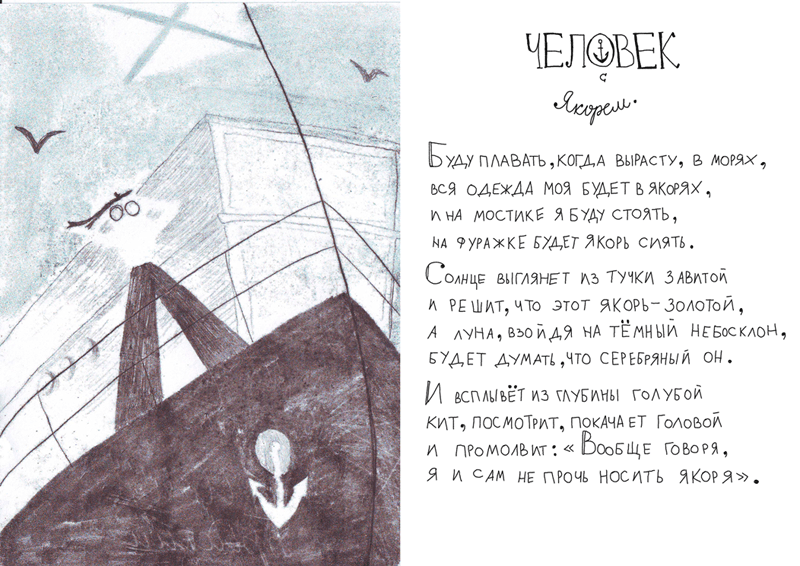 Его отец был фотожурналистом, военным корреспондентом на флоте, мать — бухгалтером. В шестнадцать будущий нобелиат бросил школу и на несколько лет зажил той жизнью, которую вели многие свободолюбивые юноши из интеллигентных семей: работал в геологических экспедициях, в свободное время упорно занимался самообразованием. Начал писать стихи. Какое-то время пытался заниматься в литературной студии, но бессмысленность этого времяпровождения сразу стала очевидной. Бродский появился как законченный и самоценный поэт сразу, с первых же стихотворений.
Его отец был фотожурналистом, военным корреспондентом на флоте, мать — бухгалтером. В шестнадцать будущий нобелиат бросил школу и на несколько лет зажил той жизнью, которую вели многие свободолюбивые юноши из интеллигентных семей: работал в геологических экспедициях, в свободное время упорно занимался самообразованием. Начал писать стихи. Какое-то время пытался заниматься в литературной студии, но бессмысленность этого времяпровождения сразу стала очевидной. Бродский появился как законченный и самоценный поэт сразу, с первых же стихотворений.
Автор цитаты
Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
Для себя пели.
Для себя копили.
Для других умирали.
Но сначала платили налоги, уважали пристава,
и в этом мире, безвыходно материальном, толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.
Эти стихи, которые 19-летний Бродский прочел на «турнире поэтов» в феврале 1960 года принято считать точкой отсчета. Зрелая мощь лирики и абсолютная, нереалистичная даже по тем относительно вегетарианским временам свобода — Бродский с самых первых шагов дал понять, что за поэт появился в русской литературе. И все те, кто его окружал в то время, — шумная толпа молодых ленинградских поэтов, поголовно гениев, разумеется: Найман, Рейн, Уфлянд, Бобышев — поняли и приняли это. Главным поэтом своего поколения Иосиф Бродский стал за один день.
Зрелая мощь лирики и абсолютная, нереалистичная даже по тем относительно вегетарианским временам свобода — Бродский с самых первых шагов дал понять, что за поэт появился в русской литературе. И все те, кто его окружал в то время, — шумная толпа молодых ленинградских поэтов, поголовно гениев, разумеется: Найман, Рейн, Уфлянд, Бобышев — поняли и приняли это. Главным поэтом своего поколения Иосиф Бродский стал за один день.
Противостояние
Взаимоотношения Бродского с советской властью принято рассматривать как образчик иррационального противостояния. С легкой руки Сергея Довлатова родилась легенда об абсолютной отстраненности поэта от внешних реалий. «Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский — жив. И что «Коминтерн» — название музыкального ансамбля».
Вторая часть легенды гласит, что на такое поведение власть обиделась еще сильнее, чем если бы Бродский был диссидентом.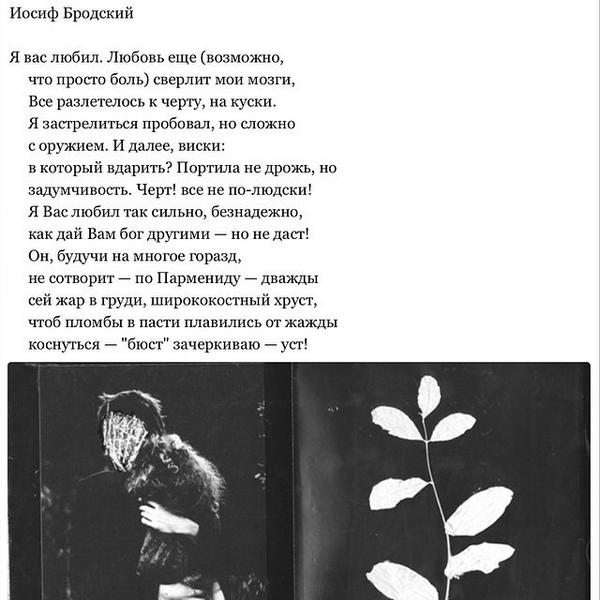 И упекла поэта в ссылку.
И упекла поэта в ссылку.
Фото: commons.wikimedia.org
Иосиф Бродский в ссылке на поселении в Архангельской области, 1965 год
Как и всякой законченно красивой истории, этой не хватает самой малости — достоверности. Бродский с 1960 года был под наблюдением КГБ — не как поэт, разумеется, а как человек, планировавший угнать самолет и бежать из СССР (факт абсолютно подлинный, правда, дальше поездки в Среднюю Азию с целью «присмотреться» дело не зашло). Идиотский судебный процесс 1964 года, сопровождавшийся и тюрьмой и самыми настоящими пытками в психиатрической больнице, был, конечно, образцово-показательной расправой над инакомыслием, причем в его самой невинной форме.
В любом неправом суде (Бродский был официально реабилитирован в 1989 году), нет ничего смешного, но невозможно без слез читать частное определение в адрес защитников поэта, вынесенное судьей: «пытались представить в суде пошлость и безыдейность его стихов как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения». Пожалуй, еще никогда в отечественной истории суд не выносил столь квалифицированного литературоведческого вердикта — правда, не совсем по своей воле.
Пожалуй, еще никогда в отечественной истории суд не выносил столь квалифицированного литературоведческого вердикта — правда, не совсем по своей воле.
Важно понимать, что к этому моменту двадцатитрехлетний Бродский был не просто «талантливым юношей из Ленинграда». Его строчки берет в качестве эпиграфа к своему стихотворению Ахматова, взаимоотношения с которой в значительной степени закончили формирование не только Бродского-поэта, но и Бродского-человека. «Именно ей я обязан лучшими своими человеческими качествами», говорил он впоследствии.
Фото: РИА Новости
Поэт Иосиф Бродский (стоит справа), поэт Евгений Рейн (в центре) на похоронах поэтессы Анны Андреевны Ахматовой
Нельзя забывать, что именно Ахматова, несмотря на отсутствие у нее какого бы то ни было официального статуса, пользовавшаяся колоссальным неформальным влиянием в интеллектуальных кругах, фактически вытащила Бродского из ссылки: по ее просьбе за поэта вступились самые авторитетные для власти деятели культуры, от Шостаковича и Федина до Чуковского и Маршака.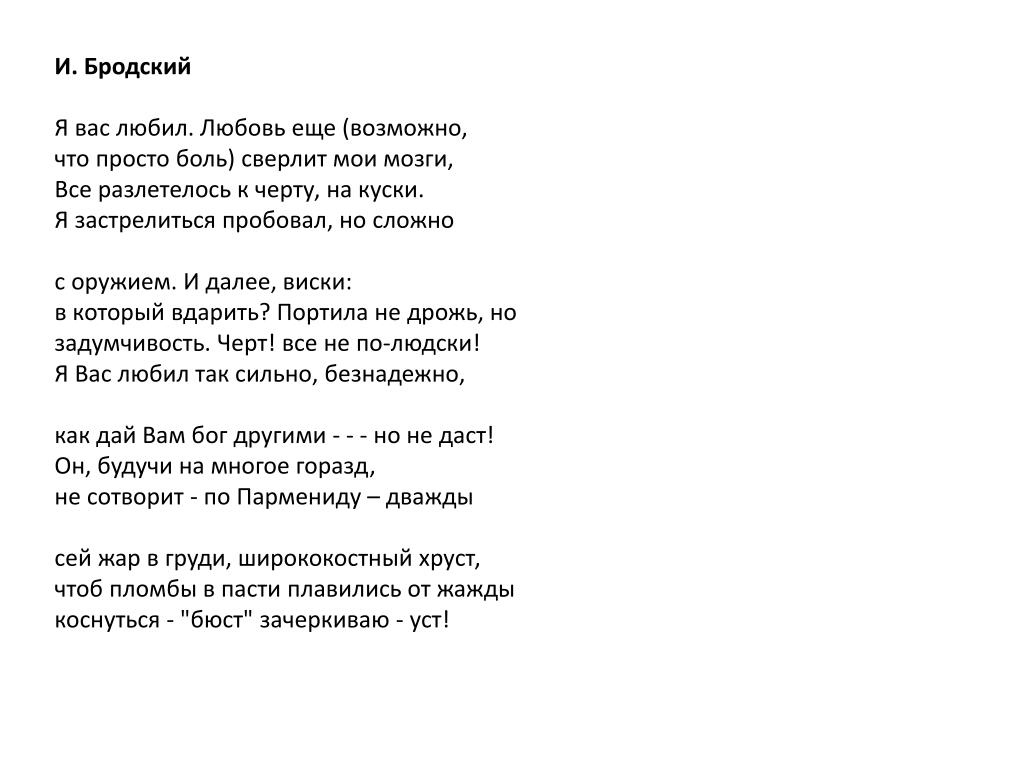
О Бродском-ссыльном узнали и за границей: в его защиту выступил Жан-Поль Сартр. В результате из пяти лет приговора Бродский провел в ссылке полтора, что по единодушному мнению его близких банально спасло ему жизнь: с юности поэт страдал сердечной недостаточностью, а работа в деревне была физически очень тяжелой.
Автор цитаты
А. Буров — тракторист — и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые — шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивною полоской,
и мой сапог касался рычага.
Топорщилось зерно под бороной,
и двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной,
я сеялку собою украшал,
припудренный землицею как Моцарт.
Изгнание
Разумеется, эмиграция была для Бродского естественным выбором — сколь бы противоречивым ни было его публичное отношение к отъезду. Рано и трезво оценивая свой дар, он понимал, что вполне способен стать писателем мирового масштаба — и первым русским в этом качестве со времен едва ли не Чехова.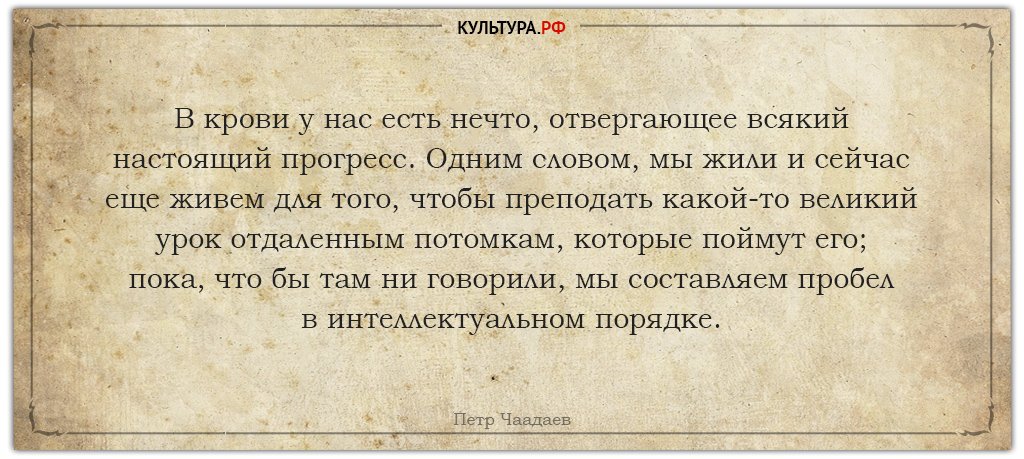
Тем не менее, уезжал он не вполне по своей воле и даже дав согласие на отъезд, долго тянул. По легенде, в чемодане, с которым он сел в самолет до Вены, была пишущая машинка, сборник Джона Донна и две бутылки водки для жившего в Австрии Уильяма Одена, едва ли не самого ценимого Бродским поэта-современника.
Оден принял в судьбе Бродского деятельное участие, как и многие другие западные интеллектуалы первого ряда. Поэт, опубликовавший в СССР менее десятка стихотворений, был для них абсолютной ровней.
Фото: commons.wikimedia.org
Чемодан, с которым 4 июня 1972 года Иосиф Бродский навсегда покинул родину
Жизнь Бродского за границей устроилась с поразительной быстротой и успехом. Принципиально игнорируя попытки встроить его в диссидентский лагерь (и, говоря шире, в третью волну эмиграции вообще), он избрал для себя типовую для западного интеллектуала стезю — университетского профессора, пишущего стихи и прозу. Прозу — точнее, эссеистику — Бродский начал писать по-английски и это двуязычие сохранил до конца жизни.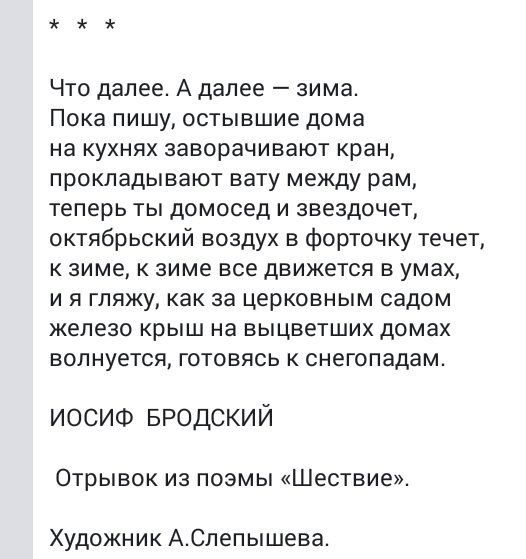 Это принесло ему тот самый статус международной знаменитости, который он хоть и не алкал, но от которого принципиально не отказывался. Слава его — это важно — при этом была чисто писательской, в отличие, скажем, от Александра Солженицына.
Это принесло ему тот самый статус международной знаменитости, который он хоть и не алкал, но от которого принципиально не отказывался. Слава его — это важно — при этом была чисто писательской, в отличие, скажем, от Александра Солженицына.
Не следует, впрочем, думать, что Бродский прочно обустроился в башне из слоновой кости. Он живо откликался — конечно, в основном, как поэт — на самые разные события окружающего мира. Разумеется, первым в голову приходит его панегирик маршалу Жукову, широко известный:
Автор цитаты
Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Всё же, прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.
Менее известны его стихи об афганской войне, которую Бродский осуждал с несвойственной ему обычно резкостью:
Автор цитаты
Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени,
от стремленья согреться в мускулатуре
торса, в сложных переплетеньях шеи.
Камни лежат, как второе войско.
Тень вжимается в суглинок поневоле.
Небо — как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса
поднимается взрыв. Брызгающая воронкой,
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.
Про стихи «На независимость Украины», в которых резкость переходит уже в открытое раздражение, нечего и говорить. При этом нежелание, фигурально выражаясь, «воевать» на чьей-либо стороне Бродский сохранил на всю жизнь и даже нобелевскую лекцию начал с напоминания об этом: «Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание».
Фото: TASS/AP/BORJE THURESSON
Вручение Нобелевской премии по литературе И.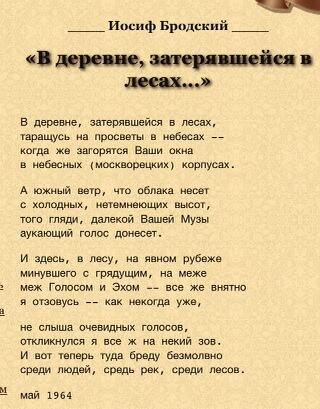 Бродскому, 1987 год
Бродскому, 1987 год
Нельзя не отметить, что из пяти или шести (смотря как считать) нобелевских премий, имеющих отношение к русской словесности, награда Бродского — единственная, не отягощенная привкусом политических решений.
В Россию он так и не собрался — несмотря на настоящую, глубокую любовь к родине, которой он никогда не скрывал, но которой не торговал и не кичился. Во-первых, мешал иррациональный страх перед воспоминаниями молодости (чего Бродский и не скрывал), во-вторых — здоровье.
По свидетельству главного биографа Бродского, Льва Лосева, поэт смолоду и внешне и, главное, внутренне был существенно старше своих паспортных лет; и если рано пришедшая интеллектуальная зрелость была безусловным благом, то физически Бродский никогда не был полностью здоровым человеком. Понимал это и он сам, делая в последние годы многочисленные и подробные распоряжения относительно своего наследия. Так, доступ к основному архиву Бродского (личному, не поэтическому) закрыт аж до 2071 года.
Могила Иосифа Бродского на кладбище Сан-Микеле Венеция
Фото: Getty Images/Mayall/ullstein bild
А вот относительно места погребения никаких указаний поэт не оставил. Несколько безумная идея похоронить Бродского на том самом Васильевском острове, на который он, юношей, собрался «прийти умирать», не нашла поддержки семьи. Венеция, второй после Петербурга, главный город в его жизни, предоставила поэту последнее пристанище на кладбище Сан-Микеле. Правда, не на «русском участке», где хоронят только православных, и тем более не на католической части. Бродского похоронили, как и положено гению, немного наособь — среди протестантов и агностиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смерть у Бродского
Александр Генис: Я уже не раз говорил, что юбилеи любимых авторов история поделила на две части, дни рождения празднуют в метрополии, годовщины смерти отмечает Русская Америка. И это понятно: рождаются писатели гурьбой, в компании единомышленников, а умирают поодиночке, и, увы, часто за границей.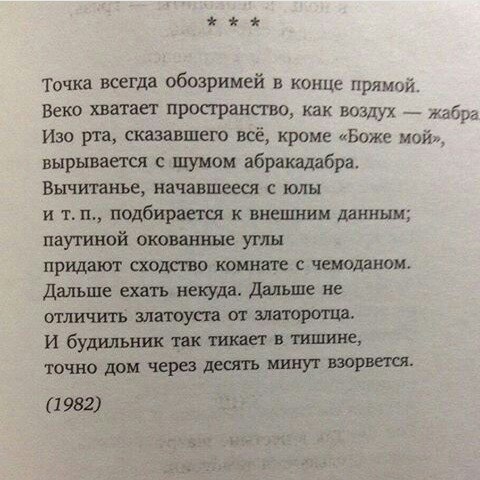 Так произошло с Довлатовым и с его товарищем Бродским, оба автора сугубо питерского происхождения, умерли в Нью-Йорка. О Довлатове мы не так давно говорили в этих передачах.
Так произошло с Довлатовым и с его товарищем Бродским, оба автора сугубо питерского происхождения, умерли в Нью-Йорка. О Довлатове мы не так давно говорили в этих передачах.
Сегодня пришел черед Бродского. Собственно биографический аспект этого сюжета исчерпывает несколько строк из бесценной книги Льва Лосева «Иосиф Бродский».
Он умер в ночь на 28 января 1996 года в Бруклине, в своем кабинете. «На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за «мгновенную справедливость», о такой смерти говорят убедительно: «He died with his boots on» («умер в сапогах»). Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно».
Но если к этому нечего больше добавить, то бесконечна другая тема. Поэтому наша сегодняшняя беседа называется не «Смерть Бродского», а «Смерть у Бродского».
Тот же Лосев писал: «Если для его любимых стоиков философия была упражнением в умирании, то для Бродского таким упражнением была поэзия».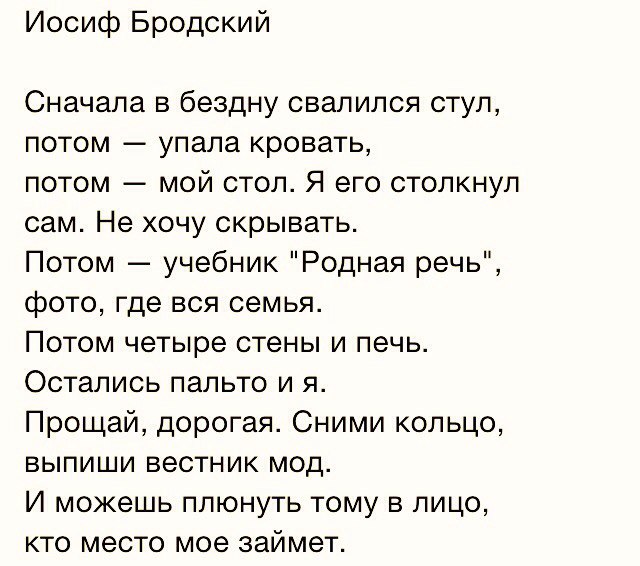
Соломон, вы годами вели беседы с Бродским, которые после его кончины стали знаменитой книжкой. Что и как Бродский говорил о смерти?
Соломон Волков: Саша, спасибо за добрые слова. Эти «Разговоры с Бродским» – единственная книжка, где на обложке стоит моя фамилия, которую я перечитываю регулярно. Мысли Бродского, идеи Бродского, разговор Бродского – во всем этом я нахожу каждый раз что-то новое. Кажется, что вместе с Бродским я старею, мудрею, назовите это как угодно. Он настолько рано стал таким еврейским мудрецом, что я его постепенно пытаюсь догнать.
Но при всем этом хочу сказать, что о смерти я его не спрашивал. Мы в разговорах с Бродским таких приватных острых тем не задевали – в отличие от диалогов с Евгением Александровичем Евтушенко, который очень хотел говорить именно о личном. И наговорил кучу такую, что даже возмутил некоторых зрителей фильма, который я сделал с Анной Нельсон, и читателей книжки, которая впоследствии вышла. Бродский личных тем почти не касался. Но он говорил много об Ахматовой и Цветаевой, которую он, что для меня являлось большим сюрпризом, безоговорочно называл первым, то есть главным поэтом ХХ века – в планетарном масштабе, а не только в русском. То есть он ставил ее выше и Пастернака, и Мандельштама, и даже близкой ему Ахматовой.
Но он говорил много об Ахматовой и Цветаевой, которую он, что для меня являлось большим сюрпризом, безоговорочно называл первым, то есть главным поэтом ХХ века – в планетарном масштабе, а не только в русском. То есть он ставил ее выше и Пастернака, и Мандельштама, и даже близкой ему Ахматовой.
Александр Генис: Когда поэт говорит о других поэтах, то он всегда говорит и о себе. Так Бродской, который был щедр на предисловия к разным поэтам, иногда ему малоизвестным, в этих предисловиях писал то, что хотел сказать о себе. И в этом отношении все, что говорит Бродский, относится напрямую к нему. Цветаева была особым предметом его рассуждений, в том числе и о смерти. Он подробно разобрал стихотворение «Новогоднее», посвященное недавно скончавшемуся Рильке.
В этом эссе находится признание чрезвычайно важное о его представлении о загробной жизни. Там он написал:
«Вообще не слишком правомерная поляризация души и тела, которой особенно принято злоупотреблять, когда человек умирает, выглядит вовсе неубедительно, когда мы имеем дело с поэтом».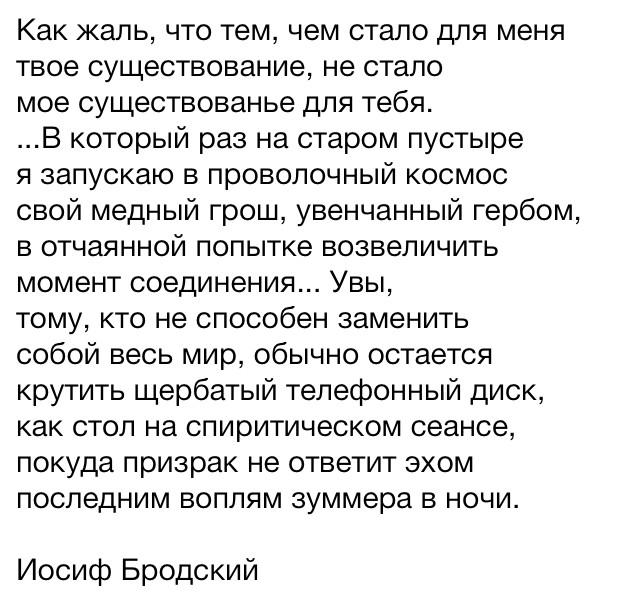
То есть Бродский говорит, что поэт и есть одна душа – пока он жив, а не только после смерти. Что касается загробной жизни, то я никогда Бродскому не решился бы задать такой вопрос, потому что, как вы совершенно правильно сказали, это вопрос безумно интимный. Зато я спрашивал об этом Лосева. Так было всегда: все, что я хотел и стеснялся спросить у Бродского, я спрашивал у Леши Лосева. С ним мы дружили, и его я меньше боялся. Лосев сказал, что Бродский был, как все мы, агностиком. У него были свои представления о метафизических проблемах, о которых он писал всю жизнь, но это не значит, что он представлял себе собственную загробную жизнь. И тут можно в который раз вспомнить гениальный фрагмент из «Записных книжек» Чехова: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец». Вот на этом поле и разворачивалось все творчество Бродского.
Пастернак, Цветаева, РилькеСоломон Волков: Я совершенно с вами согласен.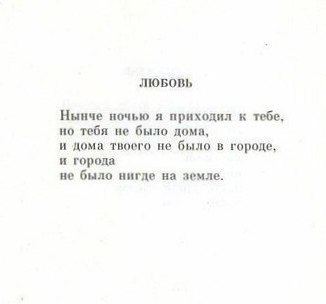 Но. говоря об этом эссе Бродского, нам надо рассказать нашим слушателям о том, что же это такое – отношения между Цветаевой и австрийским немецкоязычным поэтом Райнером Мария Рильке. Эта история уникальная, она по-своему характеризует всех людей, в нее вовлеченных. Не зря она привлекла такое пристальное внимание Бродского. В 1926 году вдруг завязалась беспрецедентная по своей напряженности, искренности, преступающая все границы переписка между поэтами Пастернаком, Цветаевой и Рильке. Получилась трехсторонняя переписка, в ходе которой участники ее поочередно влюблялись друг в друга, ссорились, объяснялись. Читать эту переписку даже как-то неудобно, потому что наблюдаешь за чем-то чрезвычайно сокровенным. Ведущей фигурой в этой переписке была Цветаева. Пастернак объяснялся в любви Цветаевой, Цветаева объяснялась в любви Рильке, Цветаева отбривала, если угодно, любовные признания Пастернака, а Рильке чрезвычайно сдержанно реагировал на любовные признания Цветаевой. Эти письма даже вслух зачитывать неудобно.
Но. говоря об этом эссе Бродского, нам надо рассказать нашим слушателям о том, что же это такое – отношения между Цветаевой и австрийским немецкоязычным поэтом Райнером Мария Рильке. Эта история уникальная, она по-своему характеризует всех людей, в нее вовлеченных. Не зря она привлекла такое пристальное внимание Бродского. В 1926 году вдруг завязалась беспрецедентная по своей напряженности, искренности, преступающая все границы переписка между поэтами Пастернаком, Цветаевой и Рильке. Получилась трехсторонняя переписка, в ходе которой участники ее поочередно влюблялись друг в друга, ссорились, объяснялись. Читать эту переписку даже как-то неудобно, потому что наблюдаешь за чем-то чрезвычайно сокровенным. Ведущей фигурой в этой переписке была Цветаева. Пастернак объяснялся в любви Цветаевой, Цветаева объяснялась в любви Рильке, Цветаева отбривала, если угодно, любовные признания Пастернака, а Рильке чрезвычайно сдержанно реагировал на любовные признания Цветаевой. Эти письма даже вслух зачитывать неудобно.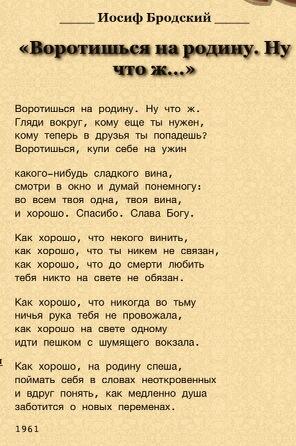
Когда все это завязалось, Рильке был 51, Цветаевой – 34, Пастернаку – 36 лет, в общем это были зрелые люди, но вели они себя как двое мальчишек и одна девчонка. Важно еще то, что Рильке в это время умирал, причем сам не знал от чего, врачи долго не могли поставить диагноз. Он лежал в Швейцарии в санатории, где в итоге он умер от лейкемии, то есть белокровия. Смерть Рильке посреди откровеннейших любовных к нему признаний Цветаевой потрясла Цветаеву. Об этом стихотворение «Новогоднее», Рильке умер как раз накануне перехода от 1926 к 1927 году. 7 февраля 1927 года Цветаева закончила это длинное стихотворение, почти поэму, там 190 с чем-то строчек. Оно обращено к покойнику, к мертвому Рильке, с которым она разговаривает. В свою очередь, как я понимаю, эти стихи потрясли, другого слова я не подберу, Бродского, который написал о нем огромное эссе, появившееся сначала в качестве предисловия к первому тому собрания сочинений Цветаевой, вышедшему в Нью-Йорке, а потом уже перепечатанное в России.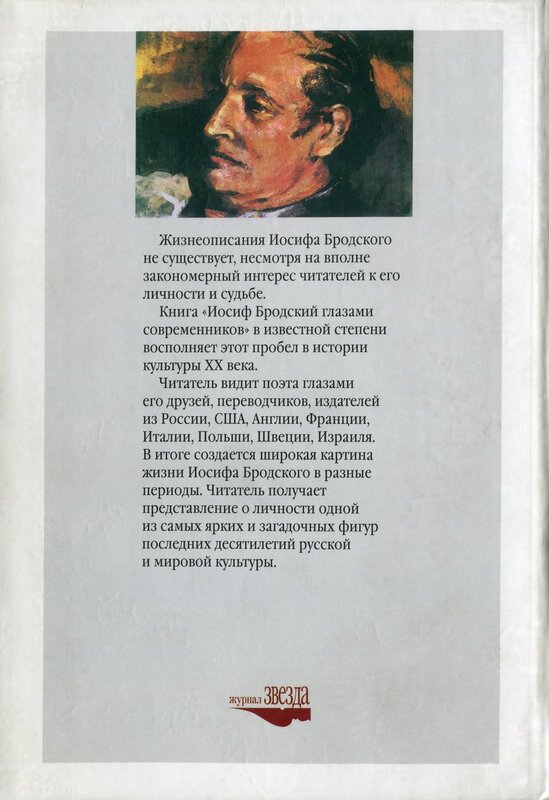
Вот такова краткая история этого обмена мнениями. Все это отразилось и в разговорах со мной о том, как нужно и можно переживать смерть, что особенно было важно для Бродского, смерть поэта. Потому что поэт для Бродского – это фигура гораздо более важная, чем священник. И исповедуясь перед поэтом, уже даже и мертвым, как это делала Цветаева, это значит идти на исповедь в церковном смысле этого слова.
Александр Генис: Бродский всегда говорил, что Цветаева начинает с верхнего до, но это стихотворение – «верхнее до» даже для Цветаевой, «верхнее до» в квадрате, если такое возможно.
Важно, что для Бродского единственная форма загробного существования – это тексты, стихи, «часть речи». И об этом он написал в 1995 году, уже совсем незадолго до смерти, в коротком и очень, я бы сказал, приземленном, даже грубом стихотворении Aere perenius – «Меди нетленнее». Это, конечно, цитата из Горация: Exegi monumentum aere perennius. Тут у Бродского есть строчка, которая напрямую полемизирует с представлением о загробной жизни с церковной точки зрения. Бродский пишет про свое перо, про перо поэта:
Бродский пишет про свое перо, про перо поэта:
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней.
Только стихи остаются после поэта, и главное дело его жизни – оставить эти стихи.
Соломон Волков: Сам Бродский говорил, что если после него останутся, как от античного поэта Архилоха, какие-то, как он это называл, крысиные хвостики, то этого будет достаточно. Я не знаю, не кокетничал ли немножко Бродский в данном случае. Конечно, он хотел бы, чтобы его творчество сохранилось в полном объеме, но он понимал очень трезво, что не все останется. Знаете, как в случае, скажем, с Евтушенко. Что самое популярное осталось от Евтушенко: изречение «поэт в России больше, чем поэт» и песня «Со мною вот что происходит».
Александр Генис: Тут нужно напомнить, что Бродский ничего не говорил случайного, банального и никогда не пользовался клише. Если появляется в его высказывании Архилох, то он не зря там оказался. Иногда мне кажется, что Бродский сочинил для нашей поэзии античность, так важна она была для него. Вот и здесь он не наугад выбрал Архилоха. Это – поэт VII века до нашей эры, греческая архаика. От него до нас дошло 120 отрывков, всего 350 строк, я специально проверил. И это ужасно обидно, потому что античные критики отмечали его большой талант, сравнивали его с Гомером и с Гесиодом, но мы вряд ли можем судить. Важно, однако, что древние об Архилохе говорили так: яд его речи происходит от «желчи собаки и жала осы», что он «весь кровь и нервы». Разве это – особенно про нервы – нельзя сказать про самого Бродского?
Иногда мне кажется, что Бродский сочинил для нашей поэзии античность, так важна она была для него. Вот и здесь он не наугад выбрал Архилоха. Это – поэт VII века до нашей эры, греческая архаика. От него до нас дошло 120 отрывков, всего 350 строк, я специально проверил. И это ужасно обидно, потому что античные критики отмечали его большой талант, сравнивали его с Гомером и с Гесиодом, но мы вряд ли можем судить. Важно, однако, что древние об Архилохе говорили так: яд его речи происходит от «желчи собаки и жала осы», что он «весь кровь и нервы». Разве это – особенно про нервы – нельзя сказать про самого Бродского?
Соломон Волков: Безусловно, очень точные слова. И, конечно же, Бродский их знал. Не зря, думая о судьбе своего творческого наследия, он упоминал именно Архилоха.
(Музыка)
Александр Генис: А теперь, Соломон, я хотел бы поговорить о том, как смерть описана в стихах Бродского. Как известно, он эту тему начал очень рано и поэтому особенно ненавидел, когда во время публичных выступлений его просили прочесть, может быть, самое знаменитое среди многих поклонников стихотворение «На Васильевский остров я приду умирать». Он говорил: «Никогда это стихотворение читать не буду».
Он говорил: «Никогда это стихотворение читать не буду».
Соломон Волков: Эти стихи он избегал и не включал ни в какие свои собрания, когда он наконец стал этими собраниями, книжечками заниматься.
Александр Генис: Но есть другое замечательное стихотворение, связанное со смертью. Это «На смерть друга», посвященное Сергею Чудакову. Причем известно, что слухи о смерти Чудакова оказались ложными. Бродский это знал, но в стихах ничего не изменил. Московский знакомый Бродского, Сергей Чудаков был этаким «русским Вийоном». И стихотворение Бродского – своеобразный пеан советской литературной богеме. Я хорошо знал таких людей, да и вы тоже, небось. Собственно говоря, это и был круг Бродского. Поэтому в определенном смысле он говорил и о себе. Там есть несколько пронзительных строчек, которые я хочу прочесть.
Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.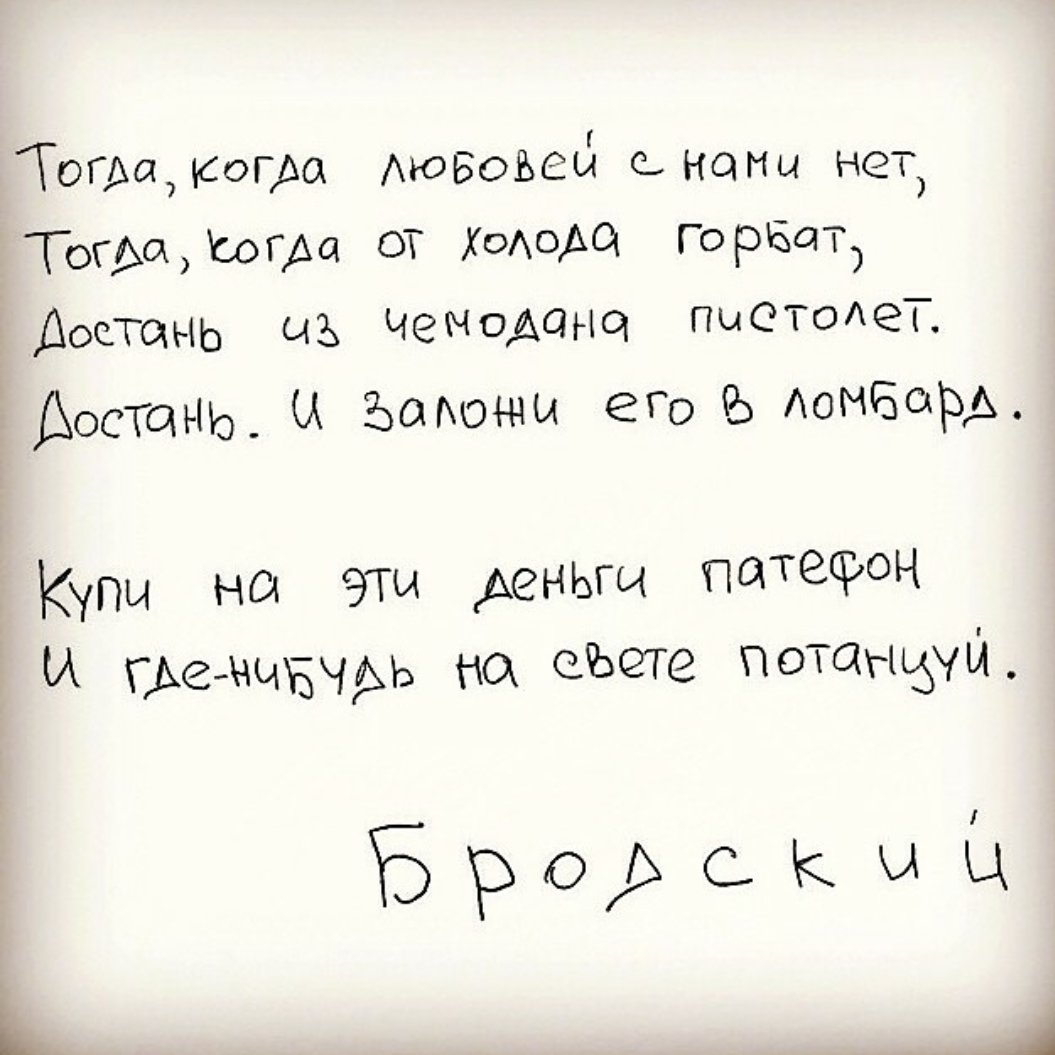
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.
Это стихотворение было любимым у Довлатова. Он говорил, что оно исчерпывает его представление о современной поэзии. «На смерть друга» было настолько любимыми у Довлатова, что о степени участия Сергея в застолье можно было судить по тому, читает ли он про драхму или нет. Лена, его жена, иногда звонила и говорила: «Довлатов уже читал про драхму? Если читал, гоните домой». Это значит, он выпил больше, чем следует.
Кстати, драхма в стихах – произвол Бродского. Он прекрасно знал, что греки клали в рот покойника не драхму, а обол, мелкую монету, но драхма ему нравилась больше по звуку. Эти стихи – стоический плач по богеме, они прекрасно отражают представления Бродского зрелого периода – не позднего, а зрелого – о смерти.
Эти стихи – стоический плач по богеме, они прекрасно отражают представления Бродского зрелого периода – не позднего, а зрелого – о смерти.
Соломон Волков: Меня в этом стихотворении особенно умиляет упоминание об оренбургском пуховом платке. Это тоже, кстати, типичное, поэтому, думаю, Довлатову тоже нравилось это стихотворение, это типичное для Бродского обращение к фольклору, к народному, даже попсовому элементу, который все время входит в его стихи.
Александр Генис: Бродский всегда был готов к смерти, он с юности знал, что у него больное сердце: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Он не играл со смертью, но всегда мужественно ждал ее. Однако его поздние стихи наполнены сюжетами о смерти совершенно другого характера. Мне кажется, тут на него повлияла американская традиция.
Однажды мы с тем же Лосевым были на конференции в его Дартмутском колледже, где все русские поэты, критики и переводчики говорили о различиях между стихами русскими и американскими.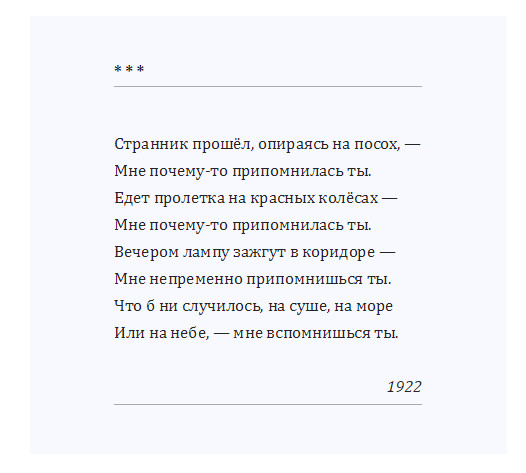 Мы все тогда пришли к выводу, что американские поэты умеют писать стихи не о себе. Русская поэзия подразумевает экспрессивное высказывание лирического Я – будь то Маяковский, Пастернак, будь то и ранний Бродский. Но американские поэты, в том числе любимый поэт Бродского Роберт Фрост, умели писать не о себе, о мире без себя. Эта тема появилась у Бродского поздно. Лосев ее называет «Мир без меня». Бродский определял это так: «Это о пейзаже, способном обойтись без меня». В одном из поздних интервью он говорил, что именно его не устраивает в сегодняшней поэзии: «Много пишут о прошлом и мало о будущем». Надо понимать, что будущим он называл то время, где нас уже нет. В одном из поздних стихотворений «Из Альберта Эйнштейна» есть такая строчка:
Мы все тогда пришли к выводу, что американские поэты умеют писать стихи не о себе. Русская поэзия подразумевает экспрессивное высказывание лирического Я – будь то Маяковский, Пастернак, будь то и ранний Бродский. Но американские поэты, в том числе любимый поэт Бродского Роберт Фрост, умели писать не о себе, о мире без себя. Эта тема появилась у Бродского поздно. Лосев ее называет «Мир без меня». Бродский определял это так: «Это о пейзаже, способном обойтись без меня». В одном из поздних интервью он говорил, что именно его не устраивает в сегодняшней поэзии: «Много пишут о прошлом и мало о будущем». Надо понимать, что будущим он называл то время, где нас уже нет. В одном из поздних стихотворений «Из Альберта Эйнштейна» есть такая строчка:
Так солдаты в траншее поверх бруствера
смотрят туда, где их больше нет.
Вот это пространство без нас – и есть главная тема позднего Бродского. Говорят, что все поэты пишут о жизни и смерти. Это так, но Бродский, по-моему, первый поэт, который о смерти написал больше, чем о жизни.
Соломон, вы помните отпевание Бродского, которое было на сороковой день после кончины поэта, 8 марта 1996 года в соборе Святого Иоанна, мы ведь вместе там были?
Соломон Волков: Да, конечно же. Это было монументальное событие одновременно с трагическими и торжественными обертонами: атмосфера собора, музыка, чтение стихов близких Бродскому людей. Там собрался просто звездный состав – замечательные поэты Уолкотт, Хини, Милош. Барышников был там, Лосев, конечно, друзья, которые приехали специально из России: Гордин, Найман, Рейн, Уфлянд. Я следил за всем, погруженный в тяжелую атмосферу, но одновременно чувствовал значительность и торжественность этого вечера.
Александр Генис: Там было три тысячи человек. Но больше всего меня поразили даже не трое нобелевских лауреатов, которых вы назвали, Уолкотт, Хини, Чеслав Милош, читавшие стихи Бродского, а студенты Бродского, которые приехали из Массачусетса. Выпал очень холодный день почему-то, 8 марта обычно в Нью-Йорке наступает уже весенняя погода, но в тот день был мороз. Приехали все студенты Бродского из трех колледжей, где он читал лекции, они молча стояли со свечами в этом гигантском соборе, (самый большой готический собор в мире, его до сих пор строят), многие со слезами на глазах.
Приехали все студенты Бродского из трех колледжей, где он читал лекции, они молча стояли со свечами в этом гигантском соборе, (самый большой готический собор в мире, его до сих пор строят), многие со слезами на глазах.
Я сегодня вспомнил об этом событии, потому что последним уходил из собора не собравшиеся там поэты, не мы, зрители и поклонники, а сам Бродский – его голос. Как говорится в «Литовском ноктюрне», «только звук отделяться способен от тел, вроде призрака».
Какими же стихами провожал Бродский всех уходящих из собора? Это был отрывок из стихотворения, которое сам Бродский считал завершающим. В последнем составленном им сборнике он поместил его в самый конец, то есть это можно считать завещанием. Вот последние строфы, которые в его исполнении звучали в соборе:
Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.
И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращенья в сито
и за отверстие поблагодарит меня.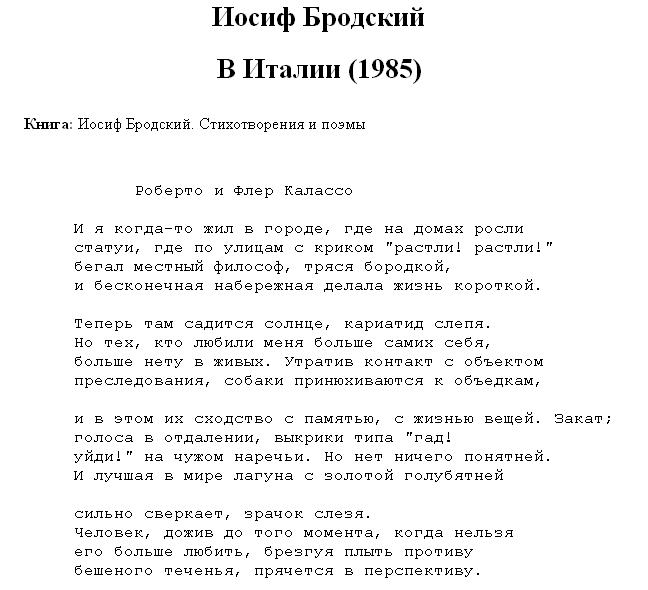
Это – сложные стихи. Прежде всего, надо знать, что такое звезда в поэзии Бродского. Это дыра в пространстве – так, скажем, Платон представлял себе небесную сферу: сквозь отверстия в небосводе до нас добирается сверху волшебный, магический свет. Известно и то, что в древности считалось: после смерти Юлия Цезаря он стал звездой. Но главные строки «небытия броня ценит попытки ее превращенья в сито и за отверстие поблагодарит меня». После смерти Бродского, буквально через несколько дней я написал эссе о нем. Я позволю себе прочесть из него один абзац:
«Если, приняв определение Элиота, считать «поэзию трансмутацией идей в чувства», то Бродский переводит в ощущения ту недостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем «небытие». По Бродскому бытие – частный случай небытия. Приставив НЕ к чему попало, мы возвращаем мир к его началу. Забывая, мы возвращаемся на родину – из культуры в природу, из одушевленного в неодушевленное, из времени в вечность, от частного к общему».
Бродский всю свою жизнь вел диалог между временем и вечностью, время – это мы, вечность – это смерть. Как только человек попадает в смерть, он приобщается к вечности.
Соломон Волков: Саша, а вы были на могиле Бродского?
Александр Генис: Конечно, и не раз. Могила Бродского в Венеции стала, я бы сказал, русским местом в Европе. Там всегда много гостей из России, которые приходят поклониться поэту. Я никогда не видал цветов на соседней могиле Эзры Паунда. А вот рядом там Стравинский…
Соломон Волков: И Дягилев.
Александр Генис: … и на их надгробьях – красные розы. А у Бродского на могиле обычно лежат не только цветы, но и сигареты, все знали, что это его главный порок. Однажды он написал: «Сигарета – мой Дантес». Что было правдой. Лежат там и шариковые ручки, чтобы ему было чем писать там, в вечности, и конфеты «Коровка», которые он вроде бы любил. По-моему, это очень трогательно.
На обратной стороне небольшого мраморного постамента написаны слова – Letum non omnia finit. Это строка из Проперция, которую выбрала Мария Бродская для эпитафии Бродскому. Вдова взяла ее из четвертой книги элегий Проперция (она часто называется «Смерть Цинтии»). Недавно я перечитал ее в потрясающем переводе Григория Дашевского. Мы обсуждали с нашим коллегой Борисом Парамоновым эти стихи, он точно сказал, что так бы мог перевести сам Бродский, и это действительно так. Начало там такое:
Маны не ноль; смерть щадит кое-что.
Бледно-больной призрак-беглец
перехитрит крематорскую печь.
Вот что я видел:
ко мне на кровать
Цинтия прилегла –
Цинтию похоронили на днях
за оживленным шоссе.
Этот модернизированный Проперций действительно напоминает Бродского. Я знаю, что он собирался переводить Проперция, и даже одолжил у меня книгу русских переводов Проперция и других элегиков, так и не отдал. Эта строчка – «смерть щадит кое-что», «после смерти что-то остается» – замечательная эпитафия для поэта и подводит итог тому, о чем мы сегодня говорили.
Ну а теперь – музыка, которой мы проводим Бродского и закончим эту передачу.
Соломон Волков: Музыка будет у нас та, которая звучала на отпевании Бродского в соборе, о котором вы рассказывали. Это музыка Генри Пёрселла, английского композитора XVII века, величайшего композитора за всю историю английской музыки. Он умер очень молодым, ему было всего 36 лет. Самым его знаменитым произведением стала опера «Дидона и Эней» по «Энеиде» Вергилия, он ее написал, когда ему всего было 27 лет. Там есть самая известная ария под названием «Плач Дидоны», «Когда меня положат в землю» называется этот плач. Дидона – царица Карфагена, у которой герой троянской войны Эней нашел приют, но в итоге покинул ее. И вот она поет: «Помни обо мне, но забудь о моей судьбе». Всю оперу Пёрселла и эту арию, в частности, Бродский очень любил и заразил этой любовью Ахматову, он принес ей эту пластинку, и с его подачи «Дидона и Эней» стала также и любимой оперой Ахматовой.
Мы послушаем сейчас эту музыку. «Плач Дидоны» «Когда меня положат в землю».
(Музыка)
Два стихотворения Иосифа Бродского ‹Литературный хаб
« Сижу у окна »
для Льва Лосева
Я сказал, судьба играет без очков,
а кому нужна рыба, если у тебя есть икра?
Торжество готического стиля должно было произойти
и возбудить вас — ни кокаина, ни травы.
Сижу у окна. Снаружи осина.
Когда я любил, я любил сильно. Нечасто.
Я сказал, что лес — единственная часть дерева.
Кому нужна девушка целиком, если у тебя ее колено?
Устал от пыли, поднятой современной эпохой,
русский глаз остановился бы на эстонском шпиле.
Сижу у окна. Блюда готовы.
Я был здесь счастлив. Но меня больше не будет.
Я писал: Лампочка со страхом смотрит в пол,
и любовь, как действие, лишена глагола; ноль-
o Евклид думал, что точка схода стала
, это было не математикой — это было ничто Времени.
Сижу у окна.И пока сижу
, моя молодость возвращается. Иногда я улыбался. Или плюнуть.
Я сказал, что лист может погубить бутон;
что плодородное падает в залежи — рваный;
, что на ровном поле, на ничем не омраченной равнине
природа напрасно рассыпает семена деревьев.
Сижу у окна. Руки сомкнулись мне в коленях.
Моя тяжелая тень — моя приседающая компания.
Моя песня была расстроена, мой голос был треснутым,
но, по крайней мере, ни один припев не может ее спеть.
никого не сбивает с толку — ничьи ноги не лежат на моих плечах.
Сижу у окна в темноте. Как экспресс,
разбиваются волны за волнообразным занавесом.
Верный подданный этих второсортных лет,
Я с гордостью признаю, что мои лучшие идеи
второсортны, и пусть будущее
возьмет их как трофеи моей борьбы с удушьем.
Сижу в темноте. И было бы трудно понять
, что хуже: тьма внутри или тьма снаружи.
(1971)
Перевод Ховарда Мосса
*
«Фрагмент речи»
Я родился и вырос на балтийских болотах
в семье серо-цинковых разбойников, которые всегда шли на
по двое.Отсюда все рифмы, отсюда этот бледный, плоский голос
, который колеблется между ними, как волосы, еще влажные,
, если он вообще рябит. Опираясь на бледный локоть,
спираль выхватывает из них не грохот моря
, а хлопок холста, ставен, рук, кипящий чайник
на горелке — наконец, металлический крик чайки
. Что удерживает сердца от фальши в этом плоском районе
, так это то, что здесь негде спрятаться и много места для видения.
Только звук нуждается в эхо и боится его отсутствия.
Взгляд привык не оглядываться назад.
Северная пряжка металлическая, стекло не повредит;
учит горло говорить: «Впусти меня».
Меня поднял холод, который, чтобы согреть мою ладонь,
сжал мои пальцы вокруг ручки.
Замерзая, я вижу красное солнце, которое заходит за океаны
, а души
не видно. То ли пятка скользит по льду, то ли сам глобус
резко выгибается под моей подошвой.
И в моем горле, где скучная сказка
или чай, или смех должны быть нормой,
снег растет все громче и «Прощай!»
темнеет, как Скотт, окутанный полярным штормом.
Из ниоткуда с любовью энтузиазм Марчембера, сэр
милая уважаемая дорогая, но в конце концов
неважно, кто на память не восстановит
черт, не твоих, и никто не преданный друг
приветствует тебя с этой пятой последней части земли
отдыхает на китообразные спины мальчиков-пастушков
Я любил тебя больше ангелов и Самого себя
из них, теперь поздно ночью в спящей долине
в маленьком городке до дверных ручек в
снеге, извивающемся на черствых
простынях для всей кожи —
Глубоко я вою «тыуу» сквозь свою подушку-дамбу
, много морей отсюда, которые движутся ближе к
, а мои конечности в темноте играют твоим двойником, как зеркало
, пораженное безумием.
Список некоторых наблюдений. В углу тепло.
Взгляд оставляет отпечаток на всем, на чем он остановился.
Вода — самая распространенная форма стекла.
Человек страшнее своего скелета.
Зимний вечер с вином в никуда. Черное крыльцо
выдерживает жесткие нападки ивы.
Закрепленное на локте, тело
громоздко, как обломки ледника, своего рода морена.
Через тысячелетие они, без сомнения, обнажат
окаменелого двустворчатого моллюска, подпертого за этой марлевой тканью
, с отпечатком губ под отпечатком бахромы,
, бормочущим «Спокойной ночи» на оконной петле.
Я узнаю этот ветер, бьющий по вялой траве
, который подчиняется ему, как они это делали с татарской массой.
Я узнаю этот лист, растопыренный в придорожной грязи
, как принц, залитый кровью.
летящие наискось в щеку деревянной хижины в другой стране,
осень говорит, как гуси своим летающим зовом,
— слеза на лице. И когда я закатываю
глазами к потолку, я повторяю здесь
, но не из описания кампании этого нетерпеливого человека
, а произношу ваше казахское имя, которое до сих пор хранилось в моем горле
как пароль для входа в Орду.
Темно-синий рассвет на матовом стекле
напоминает желтые уличные фонари на заснеженном переулке,
ледяных тропинок, перекресток, сугробы с обеих сторон,
— шумную раздевалку в восточной части Европы.
«Ганнибал. . . » там дроны, изношенный мотор,
брусьев в спортзале пахнет подмышками;
что касается той страшной доски, которую ты не видел,
она осталась такой же черной. И его обратная сторона тоже.
в хрустальный.Что касается всей этой штуки с параллельными линиями
, то она действительно оказалась верной и беспощадной.
Не хочу вставать сейчас. И никогда не делал.
Вы забыли эту деревню, затерянную в рядах
болота на территории, поросшей соснами, где в садах никогда не стояли чучела
: урожай не стоит того,
и дороги тоже просто канавы и заросли зарослей.
Старушка Настасья мертва, я так понимаю, и Пестерев тоже точно
а если нет, то он пьяный сидит в погребе или
что-то лепит из изголовья нашей кровати:
калитку, скажем, или какой-то сарайчик.
А зимой рубят дрова, а живут репы,
и из дыма морозного неба мигает звезда,
плюс пустота, которую мы когда-то любили.
В маленьком городке, из которого смерть распространилась по классной комнате
карта, булыжники сияют, как чешуя, покрывающая карпа,
на светском каштане висят свечи таяния,
и чугунный лев сосны для хорошей речи.
Сквозь выстиранную бледную оконную сетку сочится
гвоздик, похожих на раны, и кирхена, игл сочится;
, как в былые времена, гремит трамвай,
, но на стадионе уже никто не выходит.
Настоящий конец войны — платье милой блондинки
на хрупкой спинке венского кресла
, в то время как гудящие крылатые серебряные пули летят,
унося жизни на юг, в середине июля.
Мюнхен
Что касается звезд, то они всегда горят.
То есть появляется один, затем другие украшают чернильную сферу
. Это лучший способ взглянуть на
здесь: в нерабочее время, моргает.
Небо выглядит лучше, когда они выключены.
Хотя с ними покорение космоса происходит быстрее.
При условии, что вам не пришлось перемещать
с голой веранды и скрипящей качалки.
Как сказал один пилот космического корабля, его лицо
наполовину погружено в тень, кажется,
нигде нет жизни, и ни на одном из них нельзя останавливаться задумчивым взглядом
.
Рядом с океаном, при свечах. Разрозненные фермы,
полей, заросших щавелем, люцерной и клевером.
К ночи у тела, как у Шивы, вырастают дополнительные руки
, которые с тоской тянутся к любовнику.
Мышь шелестит по траве. Падает сова.
Внезапно скрипящие стропила расширяются на секунду.
В деревянном городке спят крепче,
так как в наши дни мечтаешь только о том, что произошло.
Пахнет свежей рыбой. К стене приклеивается профиль кресла
.Марля слишком мягкая, чтобы набухать при малейшем ветре
. А луч луны, между тем,
поднимает волну, как скользящее одеяло.
Лаокоон дерева, сбрасывая со своих плеч горный груз
, окутывает их огромным облаком
. С мыса влетает ветер. Голос
звучит высоко, удерживая слова на нити смысла.
Идет дождь; его веревки скручивались в комки,
хлестали, как плечи купающегося, обнаженные спины этих
холмов.Средиземное море шевелит круглые колоннады
, словно соленый язык за сломанными зубами.
Сердце, хоть и свирепое, но все же бьется на двоих.
Каждый хороший мальчик заслуживает пальца, чтобы указать
, что за пределами сегодняшнего дня всегда будет статика к
завтра, как призрачный предикат субъекта.
Если что-то заслуживает похвалы, так это то, как
западный ветер становится восточным, когда замерзшая ветвь
качается влево, выражая свой скрипучий протест,
и ваш кашель летит через Великие равнины в леса Дакоты.
В полдень, держа дробовик на плече, стреляйте по тому, что вполне может быть
кроликом на снежных полях, так что снаряд
расширит брешь между загоном, оставляющим эти хромающие
неудобные линии, и существом, оставившим
настоящих следов на белом. Иногда голова
совмещает свое существование с существованием руки, но не для того, чтобы вывести больше строк
, а для того, чтобы подхватить ухо под проливным оскорблением
их общего голоса. Как новый кентавр.
Всегда есть возможность — выпустить
себя на улицу, чья коричневая длина
успокаивает глаз дверными проемами,
тонкой развилкой ив, лоскутными лужами, простой прогулкой.
Волосы на моей тыкве развеваются ветром
и улица вдали, сужаясь к V,
похожа на лицо до подбородка; а лающий щенок
вылетает из подворотни, как скомканная бумага.
А ул. Некоторые дома, скажем,
лучше других. Чтобы взять один предмет,
, у некоторых окна побольше. Более того, если вы сойдете с ума,
этого не произойдет, по крайней мере, внутри них.
. . . а когда произносится «будущее», стая мышей
выбегает из русского языка и грызет
кусок созревшей памяти, что вдвое больше
После всех этих лет не имеет значения, кто
или что стоит в углу, скрытое тяжелыми занавесками,
, и в вашем уме звучит не серафическое «до»
, а только их шорох. Жизнь, которую
никто не осмеливается оценить, как пасть этой подарочной лошади,
скалит зубы в ухмылке при каждой встрече
. От человека остается
долей. К его разговорной части. К части речи.
Не то чтобы я терял хватку: я просто устал от лета.
Вы тянетесь за рубашкой в ящике стола, и день потрачен зря.
Если бы здесь была зима, чтобы снег задушил
все эти улицы, этих людей; но сначала взорвали
зеленых. Я спал в своей одежде или просто брал взятую напрокат книгу
, а то, что осталось от вялого ритма года,
переходит дорогу по обычной зебре. Свобода
— это когда вы забываете написание имени тирана
и слюна вашего рта слаще персидского пирога
, и хотя ваш мозг скручен, как рог барана
, ничто не падает из вашего бледно-голубого глаза.
(1975–76)
Перевод Даниэля Вайсборта и автора
__________________________________
Выдержки из Избранных стихотворений, 1968–1996 Иосифа Бродского. Под редакцией Энн Челлберг. Опубликовано Фарраром, Страусом и Жиру, май 2020 г. Copyright © 2020 Поместье Иосифа Бродского. Авторские права на подборку © 2020 by The Joseph Brodsky Article Fourth Trust. Введение авторское право © 2020 by Ann Kjellberg. Все права защищены
Подарок | The New Yorker
Осенью 1963 года в Ленинграде, на территории бывшего тогда Союза Советских Социалистических Республик, молодой поэт Дмитрий Бобышев похитил девушку молодого поэта Иосифа Бродского.Это было не круто. Бобышев и Бродский были близкими друзьями. Они часто появлялись в алфавитном порядке на публичных чтениях в Ленинграде. Бобышеву было двадцать семь, и он недавно расстался с женой; Бродскому было двадцать три года, и он работал с перерывами. Вместе с двумя другими многообещающими молодыми поэтами их друг и наставник Анна Ахматова окрестила их «волшебным хором», считая, что они представляют собой возрождение русской поэтической традиции после лет мрака при Сталине.Когда Ахматову спросили, кем из молодых поэтов она больше всего восхищается, она назвала сразу двоих: Бобышева и Бродского.
Бродский, как говорят русские, на собственной шкуре испытал все испытания своего поколения. Его ссылка не была исключением. Фотография сделана Ирвингом Пенном в 1980 году. Фотография из © 1980 Condé Nast Publications, Inc.Молодые советские люди пережили шестидесятые еще глубже, чем их американские и французские коллеги, потому что, в то время как депрессия и оккупация были плохими, сталинизм был еще хуже. .После смерти Сталина Советский Союз снова начал медленно приближаться к миру. Запрет на джаз снят. Был опубликован Эрнест Хемингуэй; В Пушкинском музее в Москве прошла выставка произведений Пикассо. В 1959 году в Москве открылась выставка американских товаров народного потребления, и мой отец, тоже представитель этого поколения, впервые попробовал Pepsi.
Либидо высвободилось, но куда оно должно было деваться? Люди жили с родителями. Их родители, в свою очередь, жили с другими родителями в так называемых коммунальных квартирах.«У нас никогда не было собственной комнаты, в которую можно было бы заманить наших девочек, и у наших девочек не было комнат», — писал позже Бродский из своей американской ссылки. У него была половина комнаты, отделенная от комнаты его родителей книжными полками и занавесками. «Наши любовные связи в основном были прогулками и разговорами; это было бы астрономической суммой, если бы с нас взимали плату за километраж ». Женщиной, с которой Бродский гулял и разговаривал два года, женщиной, разбившей волшебный хор, была Марина Басманова, молодой художник. Современники описывают ее как завораживающе тихую и красивую.Бродский посвятил ей одни из самых сильных любовных стихов русского языка. «Я был только тем, к чему ты прикоснулся ладонью, — писал он, — над чем в глухой, черной как ворон / ночи ты склонил голову. . . . / Я был практически слеп. / Ты то появляешься, то прячешься, / научил меня видеть ».
Почти единогласно люди из их круга осудили Бобышева. Не из-за романа — у кого не было романов? — а потому, что, как только Бобышев начал преследовать Басманову, Бродский стал преследоваться властями.В ноябре 1963 года в местной газете появилась статья, оскорбляющая Бродского, его брюки, его рыжие волосы, его литературные претензии и его стихи, хотя из семи цитат, приведенных в качестве примеров поэзии Бродского, три были написаны Бобышевым. Все признали такую статью прелюдией к аресту, и друзья Бродского настояли на том, чтобы он поехал в Москву переждать ситуацию. Они также настаивали на том, чтобы он отправился в психиатрическую больницу на случай, если определение какой-либо формы психоза может помочь ему отстаивать свое дело.Новый год Бродский встретил в больнице, потом выпросил. Выйдя из машины, он узнал, что Бобышев и Басманова вместе встретили Новый год на даче друга. Бродский занял двенадцать рублей на поездку и помчался в Ленинград. Он выступил против Бобышева. Он выступил против Басмановой. Прежде чем он смог продвинуться дальше, его бросили в тюрьму. Последующий судебный процесс положил начало советскому правозащитному движению, превратил Бродского во всемирно известную фигуру и, в конечном итоге, привел к его изгнанию из У.С.С.Р.
Бродский родился в мае 1940 года, за год до немецкого вторжения. Его мать работала бухгалтером; его отец был фотографом и работал в Военно-морском музее в Ленинграде, когда Бродский был молод. Они были любящими родителями и очень любимы Иосифом Бродским, их единственным ребенком.
Ленинград сильно пострадал во время войны — более двух лет он был блокирован немцами, лишен пищи и тепла. Тетя умерла от голода. В первые послевоенные годы, даже когда Сталин мобилизовал страну на «холодную войну», ущерб был очевиден.«Мы пошли в школы, и какой бы высшей чепухе нас там ни учили, повсюду были видны страдания и бедность», — писал Бродский. «Не прикрыть развалину страницей Правды ». Он был скучным учеником, которого сдерживали в седьмом классе. Когда у его родителей начались финансовые проблемы — его отец потерял работу на флоте во время кампании Сталина в последние годы жизни против евреев, — пятнадцатилетний Иосиф бросил учебу и пошел работать на завод.
В лояльной, скрупулезной и авторитетной биографии «Иосиф Бродский: литературная жизнь» (Йельский университет; 35 долларов; перевод с русского — Джейн Энн Миллер) старый друг Бродского Лев Лосев уделяет большое внимание выбору предмета. бросить школу, аргументируя это тем, что это предотвратило разрушение Бродского чрезмерным обучением.Так думал и Бродский. «Впоследствии я часто сожалел об этом шаге, особенно когда видел, что мои бывшие одноклассники так хорошо ладят в системе», — писал он. «И все же я знал кое-что, чего не знали они. На самом деле, я тоже продвигался, но в противоположном направлении, идя несколько дальше ». Направление, в котором он шел, можно было назвать по-разному: подполье, или самиздат, или свобода, или Запад.
Он был беспокойным. Через шесть месяцев он оставил работу на заводе. В течение следующих семи лет, до своего ареста, он работал на маяке, в кристаллографической лаборатории и в морге; он также слонялся, курил сигареты и читал книги.Он путешествовал по Советскому Союзу, участвуя в «геологических» экспедициях, помогая быстро развивающемуся советскому правительству прочесать огромную страну в поисках полезных ископаемых и нефти. Ночью геологи собирались у костра и играли песни на своих гитарах — часто стихи, положенные на музыку, — и читали свои собственные стихи. Прочитав в 1958 году сборник стихов на «геологическую» тему, Бродский решил, что сам может добиться большего. Одно из его самых ранних стихотворений «Паломники» вскоре стало хитом костра.
Вся страна сходила с ума от поэзии; он стал центральным в атмосфере хрущевской оттепели. В 1959 году в рамках своего рода возврата к большевистскому прошлому в центре Москвы был открыт памятник Владимиру Маяковскому, и вскоре молодые люди стали собираться вокруг него, чтобы читать свои стихи. В начале шестидесятых годов группа поэтов начала серию многолюдных чтений в Политехническом музее в Москве, в углу из штаб-квартиры КГБ. Об одном из таких вечеров показывают фильм, и, хотя это всего лишь чтение стихов (а не концерт Битлз, скажем), и хотя стихи этих полуофициальных поэтов не были особенно хорошими, атмосфера была наэлектризованной.Собралась толпа, и перед ней стоял молодой человек, рассказывающий о своих чувствах: это было в новинку.
Залы в Ленинграде были скромнее, но Бродский и его ближайшие друзья-поэты — Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн, «волшебный хор» — при каждой возможности использовали их. Бобышев в своих мемуарах вспоминает, как Бродский тащил его на окраину города, чтобы Бродский мог прочитать несколько стихов группе студентов. Бобышев ушел рано.
Что касается самой поэзии, Лосев убедительно доказывает, что раннее произведение — до ареста Бродского — неровное, иногда производное.Но с самого начала Бродский был одним из тех поэтов, которые умеют писать исповедально и делать так, как будто они описывают целый социальный феномен. Стихи романтичны, саркастичны и непринужденно современны. Есть удлинение стихотворной линии, как у Элиота, и чувство удивления, когда рифма и размер сохраняются; есть также явное влияние английских поэтов-метафизиков, которые смешали свою любовную поэзию с философскими рассуждениями — в случае Бродского, всегда относящимися ко времени и пространству.В поисках англоязычных эквивалентов Роберт Хасс написал, что Бродский звучал «как Роберт Лоуэлл, когда Лоуэлл звучал как Байрон». Однако как культурный деятель в России Бродский был больше похож на Аллена Гинзберга (с которым он позже ходил за покупками подержанной одежды в Нью-Йорке: «Аллен купил смокинг за пять долларов!» — сказал он Лосеву, который задавался вопросом, почему битник нужна формальная одежда). Для Гинзберга и его друзей свобода заключалась в выходе за рамки традиционной просодии; для Бродского и его друзей свобода пришла из восстановления традиции, которую Сталин пытался уничтожить.Бродский умел находить для этого удивительные способы, казалось бы, без усилий, всегда оставаясь хладнокровным и беспечным. Его ранние стихи описывают рассказчика, идущего домой с вокзала; рассказчик, путешествующий по своим старым ленинградским прибежищам; рассказчик наблюдает за спором супружеской пары, гадая, всегда ли он сам будет один. Последний, кстати, называется «Уважаемый Д. Б.», то есть Дмитрий Бобышев, находившийся в то время в несчастливом браке.
Иосиф Бродский | Фонд Поэзии
Иосиф Александрович Бродский подвергался оскорблениям и преследованиям со стороны официальных лиц в его родном Советском Союзе, но западный литературный истеблишмент превозносил его как одного из лучших поэтов этой страны.Его стихи отличались ироническим остроумием и духом огненной независимости. С того момента, как он начал их публиковать — как под своим именем, так и под именем Иосиф Бродский, — он вызвал гнев советских властей. Его также преследовали за то, что он был евреем. Он предстал перед судом за «тунеядство», и тайная запись этого процесса помогла привлечь внимание Запада, поскольку он отвечал своим следователям смелым и ясным идеализмом. Бродский был отправлен в советскую психиатрическую лечебницу, а затем провел пять лет в Архангельске, арктическом лагере.Общественный резонанс со стороны американских и европейских интеллектуалов помог добиться его досрочного освобождения. Вынужденный эмигрировать, он переехал в Мичиган в 1972 году, где с помощью поэта У. Одена, он поселился в Мичиганском университете в Анн-Арборе в качестве постоянного поэта. Затем он преподавал в нескольких университетах, включая Куинс-колледж в Нью-Йорке и Маунт-Холиок-колледж в Массачусетсе. Он продолжал писать стихи, часто писал на русском языке и переводил свои собственные работы на английский, и в конечном итоге получил Нобелевскую премию за свою работу.Его преобладающими темами были изгнание и потеря, и его широко хвалили за его навязчиво красноречивый стиль.
Во многом Бродский до отъезда на родину жил в ссылке. Его отец потерял звание в российском флоте, потому что был евреем, а семья жила в бедности. Пытаясь избежать постоянно присутствующих образов Ленина, Бродский бросил школу и начал самостоятельное обучение, читая классику литературы и работая на различных необычных работах, в том числе помогая коронеру и геологу в Средней Азии.Он выучил английский и польский, чтобы переводить стихи Джона Донна и Чеслава Милоша. Его собственная поэзия выражала его независимый характер с оригинальностью, которой восхищались такие поэты, как Анна Ахматова.
По мнению обозревателя Times Literary Supplement , поэзия Бродского «религиозна, интимна, депрессивна, иногда сбита с толку, иногда мученически сознательна, иногда элитарна по своим взглядам, но она не является нападением на советское общество или идеологию, если только не отказаться и изоляция сознательно истолковываются как нападение: конечно, они могут быть и, очевидно, были.Согласно рецензенту в Time, изгнание поэта из России было «кульминацией необъяснимой вендетты тайной полиции против него, которая продолжается уже более десяти лет». Бродский сказал: «Меня просто выгнали из моей страны, используя еврейский вопрос как предлог». Впервые вендетта достигла апогея в Ленинградском процессе в 1964 году, когда Бродский был обвинен в написании «тарабарщины» вместо честной работы; он был приговорен к пяти годам каторжных работ. Протесты художников и писателей помогли добиться его освобождения через 18 месяцев, но его стихи по-прежнему были запрещены.Израиль пригласил его иммигрировать, и правительство поощряло его уехать; Бродский, однако, отказался, объяснив это тем, что он не идентифицирует себя с еврейским государством. В конце концов, российские официальные лица настояли на том, чтобы он покинул страну. Несмотря на давление, Бродский, как сообщается, написал Леониду Брежневу перед отъездом из Москвы с просьбой «дать ему возможность продолжить свое существование в русской литературе и на русской земле».
Поэзия Бродского несет на себе следы его противостояния с российскими властями.«Бродский — тот, кто пробовал чрезвычайно горький хлеб», — писал Стивен Спендер в « New Statesman, », «и его стихи кажутся стиснутыми в зубах. … Не следует думать, что он либерал или даже социалист. Он имеет дело с неприятными, враждебными истинами и является реалистом наименее утешительного и удобного. Все хорошее, что вы хотели бы, чтобы он думал, он не думает. Но он предельно правдив, глубоко религиозен, бесстрашен и чист. Любить, а также ненавидеть.
Хотя можно было ожидать, что стихи Бродского носят в основном политический характер, это не так. «Постоянные темы Бродского — это традиционные, действительно вневременные заботы лирических поэтов: человек и природа, любовь и смерть, неотвратимость страданий, хрупкость человеческих достижений и привязанностей, драгоценность привилегированного момента,« неповторимость ». его поэзия не столько аполитична, сколько антиполитична », — писал Виктор Эрлих. «Его осажденным грехом было не« инакомыслие »в собственном смысле слова, а полное и в целом незаметно демонстративное отчуждение от советского этоса.
Бродский подробно остановился на взаимосвязи между поэзией и политикой в своей Нобелевской лекции «Необычный облик», опубликованной в журнале Poets & Writers . По его словам, искусство учит писателя «частной жизни человека. Будучи самой древней и самой буквальной формой частного предпринимательства, она воспитывает в человеке… чувство своей уникальности, индивидуальности или обособленности, превращая его из социального животного в автономное «я»… Произведение В искусстве, особенно в литературе, и в стихотворении в частности, обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые — свободные от каких-либо посредников — отношения.
Кроме того, литература указывает на опыт, выходящий за рамки политических ограничений. Бродский заметил: «Язык и, по-видимому, литература — вещи более древние и неизбежные, более прочные, чем любая форма социальной организации. Отвращение, ирония или безразличие, часто выражаемое в литературе по отношению к государству, по сути является реакцией постоянного — а еще лучше бесконечного — против временного, против конечного. … Реальная опасность для писателя заключается не столько в возможности (а часто и в уверенности) преследований со стороны государства, сколько в возможности оказаться загипнотизированным чертами государства, которые, будь то чудовищные или претерпевающие изменения для лучше, всегда временны.
Бродский продолжил, что творческое письмо является важным проявлением индивидуальной свободы, поскольку писатель должен делать множество эстетических суждений и выборов в процессе сочинения. Он указал: «Именно в этом… смысле мы должны понимать замечание Достоевского о том, что красота спасет мир, или веру Мэтью Арнольда в то, что мы будем спасены поэзией. Возможно, для мира уже слишком поздно, но для отдельного человека всегда остается шанс. … Если то, что отличает нас от других представителей животного царства, — это речь, тогда литература — и, в частности, поэзия, являющаяся высшей формой речи — это, грубо говоря, цель нашего вида.
Еще более убедительными, чем отношения между поэзией и политикой, являются отношения между писателем и его языком, заявил Бродский. Он объяснил, что первое переживание писателя, когда он берет перо, чтобы писать, «это … ощущение немедленного попадания в зависимость от языка, от всего, что уже было сказано, написано и сделано на нем». Но прошлые достижения языка затрагивают писателя не больше, чем ощущение его огромного потенциала.Бродский добавил: «Бывают моменты, когда с помощью единственного слова, единственной рифмы писатель стихотворения находит себя там, где никто никогда не был до него, возможно, дальше, чем он сам хотел бы. … Один раз испытав это ускорение… один попадает в зависимость от этого процесса, так же как другие попадают в зависимость от наркотиков или алкоголя ».
В соответствии с этими взглядами поэзия Бродского известна своей оригинальностью. Артур К. Джейкобс в « Jewish Quarterly » отмечал, что Бродский «совершенно не похож на то, что принято считать основным течением русского стиха.Критик в New Leader писал: «Шумная напыщенная речь и установочная риторика по поводу общественных проблем излишни для морального видения Бродского и противоречат его ремеслу. Как и все великие лирики, Бродский обращает внимание на непосредственное, конкретное, на то, что он внутренне знал и чувствовал, на ясность наблюдения, усиленную и определяемую мыслью ».
Хотя многие критики соглашались, что Бродский был одним из лучших современных русских поэтов, некоторые считали, что английские переводы его стихов менее впечатляющие.Комментируя перевод Джорджа Л. Клайна « избранных стихотворений», Джозеф Бродский, Стивен Спендер писал: «Эти стихотворения впечатляют на английском языке, хотя остается только представить себе техническую виртуозность блестящих рифм в оригиналах. … Никогда нельзя полностью забыть, что он читает подержанную версию ». В A Part of Speech, Бродский собрал работы нескольких переводчиков и внес поправки в некоторые английские версии, пытаясь восстановить характер оригиналов.Личный стиль Бродского остается несколько неуловимым в этой коллекции из-за тонких эффектов, которые он достигает в оригинальном русском языке, как заметил Том Симмонс в Christian Science Monitor. Бродский, по его словам, «поэт с драматическим, но тонким видением, человек с чувством все более затемненной высоты человеческой жизни. Но ни при каких обстоятельствах его поэзия не бывает тупо-эфирной. … Он может с такой же ясностью изобразить светлый момент или время, казалось бы, бессмысленных страданий ».
Эрлих также считал, что некоторые из строк в Избранных стихотворениях «натянутые или мутные», но что Бродский в своих лучших проявлениях обладал «оригинальностью, остротой, глубиной и формальным мастерством, присущими крупному поэту.Чеслав Милош чувствовал, что биография Бродского позволяет ему вносить жизненно важный вклад в литературу. В New York Review of Books, Милош писал: «За поэзией Бродского стоит опыт политического террора, опыт унижения человека и роста тоталитарной империи. … Мне интересно читать его стихи как часть его более крупного предприятия, которое является не чем иным, как попыткой укрепить место человека в угрожающем мире ». Это предприятие связывало Бродского с литературными традициями других времен и культур.Эрлих пришел к выводу, что «богатство и разносторонность его дарований, живость и энергия его интеллекта, а также его все более тесная связь с англо-американской литературной традицией служат хорошим предзнаменованием для его выживания в изгнании, а также для его дальнейшего творческого роста».
Ссылка всегда давалась Бродскому тяжело. В одном стихотворении он описал изгнанного писателя как человека, «который выживает, как рыба в песке». Несмотря на эти чувства, Бродского практически не затронули радикальные политические изменения, сопровождавшие распад Советского Союза.Он сказал Дэвиду Ремнику, тогда работавшему в Washington Post , что эти изменения «лишены автобиографического интереса» для него и что он верен своему языку. В Detroit Free Press, Боб МакКелви процитировал заявление Бродского из письма: «Я принадлежу к русской культуре. Я чувствую себя частью этого, его составляющей, и никакая смена места не может повлиять на конечные последствия этого. Язык — вещь гораздо более древняя и неизбежная, чем государство. Я принадлежу к русскому языку.
Незадолго до своей смерти в 1996 году Бродский завершил So Forth, сборник стихов, которые он написал на английском языке или сам перевел стихи, которые он написал на русском языке. So Forth был оценен ниже лучших работ Бродского несколькими критиками, в том числе Майклом Гловером, который в New Statesman охарактеризовал сборник как «больше неудач, чем успеха». Гловер чувствовал, что слишком часто Бродский «впадает в своего рода отважный сленг, своего рода грубую мускулатуру, которая, в худшем случае, читается как смущающий собачник.Другие сочли So Forth мощным, например обозреватель Publishers Weekly , который назвал его «удивительным сборником писателя, способного смешать интеллектуальное и чувственное, политическое и интимное, элегическое и комическое. … Смерть Бродского — потеря для литературы; его последний сборник стихов — лучшее утешение, о котором мы только могли мечтать ».
Сборник стихов на английском языке, опубликовано посмертно, представляет собой исчерпывающий сборник переведенных произведений Бродского и его оригинальных произведений на английском языке.«Это драматично и иронично, меланхолично и блаженно», — написала Донна Симан в Книжном списке . Она утверждала, что этот том «станет одним из главных достижений двадцатого века». Сборник стихов на английском языке — это «высококлассная, искусная и увлекательная книга, в которой есть талант к использованию богатства языка и глубокая печаль», по оценке Джуди Кларенс в журнале « Library Journal». Согласно Свену Биркертсу в New York Review of Books, он отражает характерное для Бродского чувство «отойти в сторону и с недоумением всматриваться» в жизнь. Биркертс заключает: «Бродский бросился на мир со всей силой и превратил свое восприятие в линии, которые довольно вибрируют от того, что его просят удерживать. Нет ни голоса, ни видения, хотя бы отдаленно ».
Стихи Иосифа Бродского | Автор: W.H. Оден
I
От стихотворения требуются две вещи. Во-первых, это должен быть хорошо составленный словесный объект, уважающий язык, на котором он написан.Во-вторых, он должен сказать что-то важное об общей для всех нас реальности, но воспринимаемой с уникальной точки зрения. То, что говорит поэт, никогда не было сказано раньше, но, как только он сказал это, его читатели признают его значимость для себя.
Действительно точное суждение о стихотворении как словесном объекте, конечно, может быть сделано только людьми, владеющими тем же родным языком, что и его создатель. Не зная русского языка и поэтому вынужденный основывать свои суждения на английских переводах, я могу лишь догадываться о стихах Иосифа Бродского.Моя главная причина полагать, что переводы профессора Клайна справедливы по отношению к оригиналам, состоит в том, что они убеждают меня в том, что Бродский — отличный мастер. Например, в его длинном стихотворении «Элегия Джону Донну» слово «сон» встречается, если я правильно посчитал, пятьдесят два раза. Такое повторение очень легко могло вызвать раздражение и раздражение: на самом деле, с ним обращаются с совершенным искусством.
Опять же, из переводов ясно, что господин Бродский владеет многими тонами голоса, от лирического («Рождественская баллада») до элегии («Стихи на смерть Т.С. Элиот ») до комического-гротеска (« Два часа в пустом резервуаре »), и может с одинаковой легкостью обрабатывать широкий спектр рифм и метража, короткие строки, длинные строки, ямб, анапестики, мужские рифмы и женские рифмы, как в «Прощай, мадемуазель Вероник»:
Если я закончу свои дни в убежище голубиных крыльев,
, что вполне может быть, так как мясорубка войны
теперь является прерогативой малых народов,
, поскольку после множества комбинаций,
Марс приблизился к пальмам и кактусам,
и я сам не повредил бы комнатной мухе….
Об уникальности и в то же время универсальности видения поэта иностранцу легче судить, поскольку это не зависит в первую очередь от языка, на котором оно написано.
Г-н Бродский — непростой поэт, но даже беглое прочтение покажет, что, подобно Ван Гогу и Вирджинии Вульф, он обладает исключительной способностью представлять материальные объекты как сакраментальные знаки, посланников из невидимого. Вот несколько примеров.
Но этот дом не выносит своей пустоты.
Один только замок — это кажется некрасивым —
медленно распознает прикосновение арендатора
и оказывает кратковременное сопротивление в темноте.
(«Арендатор…»)
Огонь, как вы слышите, гаснет.
Тени в углах сместились.
Уже слишком поздно грозить им кулаком
или кричать на них, чтобы они перестали делать то, что они делают.
(«Огонь…»)
Рука, крепко держащая подушку
ползет по полированному столбу кровати,
пробирается к груди облака
этим неумелым и косноязычным жест.
Носок, оторванный о зазубренный камень,
крутится в темноте; его кривая похожа на лебедя.
Его воронкообразное горлышко возбуждено;
смотрит вверх, как почерневшая сетка.
(«Загадка для ангела»)
… закрой свой зонт, как ладья закроет
свои крылья. Его ручка-хвост показывает каплуна.
(« Einem alten Architekten in Rom »)
Не совсем весна, но кое-что вроде.
Мир сейчас разбросан,
и искривлен.
Обшарпанные деревни
хромают.
Прямолинейность только в
скучающих взглядах.
(«Весенний сезон грязных дорог»)
В отличие от работ некоторых его современников, творчество г-на Бродского, кажется, стоит вне того, что можно было бы назвать традицией «общественной» поэзии Маяковского. Он никогда не использует фортиссимо. В самом деле, каким бы оригинальным он ни был, я был бы склонен классифицировать мистера Ф.Бродский как традиционалист. Прежде всего, он проявляет глубокое уважение и любовь к прошлому своей родной земли.
Собаки, движимые старой памятью, все еще приподнимают свои задние лапы
* * * Для них еще стоит церковь; они видят это ясно.
на когда-то знакомом месте.
Стены церкви давно снесены,
но эти собаки видят церковные стены во сне.
И то, что для людей является патентным фактом
, оставляет их совершенно равнодушными.Это качество
иногда называют «собачьей верностью».
И, если бы я всерьез говорил о
«эстафете истории человечества»,
я бы поклялся ни в чем, кроме этой эстафеты —
этой гонки всех поколений, которые
понюхали, а кто понюхает, древние запахи.
(«Остановка в пустыне»)
Он также является традиционалистом в том смысле, что его интересует то, что интересовало большинство лирических поэтов всех времен, то есть личные встречи с природой, человеческими артефактами, людей, которых любили или почитали, и в размышлениях о человеческом состоянии, смерти и смысле существования.
Его стихи аполитичны, возможно, вызывающе, что может объяснить, почему он до сих пор не получил официального одобрения, поскольку я не могу найти в них ничего такого, что строжайший цензор мог бы назвать «подрывным» или «аморальным». Единственные строки, которые можно было бы назвать «политическими», это следующие:
Прощай, пророк, который сказал: «Воистину,
тебе нечего терять, кроме своих цепей». По правде говоря,
есть и совесть — если уж на то пошло.
(«Письмо в бутылке»)
Настроение, с которым, конечно, согласился бы любой хороший марксист. Что касается его художественного кредо, то ни один поэт не станет спорить с
Кажется, что искусство стремится быть точным
и не лгать нам, потому что
его основной закон, несомненно,
утверждает независимость деталей.
(«Подсвечник»)
Прочитав переводы профессора Клайна, я без колебаний заявляю, что по-русски Иосиф Бродский, должно быть, первоклассный поэт, человек, которым его страна должна гордиться.Я им обоим очень благодарен.
II
Иосифу Бродскому тридцать два года; он пишет стихи всего четырнадцать лет. Его поэтические достижения за десятилетие с 1962 года можно сравнить, по моему мнению, с достижениями тридцатидвухлетней Анны Ахматовой (по состоянию на 1921 год), тридцатидвухлетнего Бориса Пастернака (по состоянию на 1922 год), и тридцатидвухлетние Марина Цветаева и Осип Мандельштам (оба по состоянию на 1924 год). Останется ли когда-нибудь Бродский рядом с этими четырьмя гигантами русской поэзии двадцатого века, наверное, еще рано говорить.Я уверен, что так и будет.
Многие темы Бродского традиционны: любовь и смерть; общение, разлука и уединение; страдания и предательство; грех и спасение. Но он разделяет очень современное и «экзистенциальное» представление Шестова о невыносимых и нерациональных ужасах человеческого существования. Одно из самых ранних стихотворений Бродского имеет припевом фразу «в необъяснимой тоске» («Рождественская баллада» 1962 г.). Горбунов в большом стихотворении «Горбунов и Горчаков» (1965-1968) заявляет, что «точки / всех жизненных болей сосредоточены в моей груди / как в призме.Позже в том же стихотворении мы сталкиваемся с «людьми и существами, сведенными с ума / ужасными жизнями в утробе и после / в могиле».
«Элегия для Джона Донна» (1963) — мрачное и мощное стихотворение о смерти, одиночестве и спасении, а также связывании и исцелении того, что в человеческой жизни сломано и разорвано.
… суетливый снег кружится в темноте,
не тает, как зашивает эту боль —
его иголки летят взад и вперед….Ибо, хотя нашу жизнь можно разделить,
кто в этом мире разделит нашу смерть?
В мужской одежде зияют дыры.Он может быть порван,
тем, кто будет, на этом краю или на другом.
Он разваливается в клочья и снова становится целым.
… И только далекое небо,
в темноте, приносит исцеляющую иглу домой.
Тема «страсти» — природа и функция религиозного страдания или религиозная природа и функция человеческого страдания, — которую Бродский исследовал в «Прощай, мадемуазель Вероник» (1967), снова появляется в «Горбунове и Горчакове». .Имена значительны: «Горбунов» (из горбун , «горбун») избит и замучен миром; «Горчаков» (от gorech , «горечь») — человек горький, ожесточающий жизнь других, особенно Горбунова. Оба они длительное время находятся в психиатрической больнице. В конце концов, Горбунов предстает как своего рода фигура Христа, а Горчаков как своего рода фигура Иуды: он сообщает психиатрам о неортодоксальном содержании снов Горбунова и в качестве награды обещает освобождение «на Пасху».
Подобно Мандельштам и Цветаевой, которыми он очень восхищается, Бродский умело и широко использует греческую мифологию. В стихотворении «Ликомеду на Скиросе» (1967) используются мифологические и религиозные символы, чтобы довести до конца свою глубоко моральную точку зрения о долге противостоять злу:
Я покинул этот город, так же как старый Тесей покинул лабиринт
Минотавр
гнить, и Ариадна заняться любовью
с Вакхом….Если все сказано и сделано, убийство — это
убийство. А у нас, смертных, есть обязанность
взять оружие против всех монстров….Мужчины могут
вернуться туда, где они совершили злые дела,
, но люди не возвращаются туда, где они были
униженные. В этом плане Божий замысел и наше собственное чувство унижения
совпадают
настолько, что мы уходим: ночь,
гниющий зверь, ликующие толпы, наши дома,
наши очаги, Вакх в Вакантный лот
обнимает Ариадну в темноте.
Для Бродского, как для Рильке и Элиота, поэтический язык имеет ту же степень «реальности», что и мир; слова регулярно взаимодействуют с вещами. В «Исааке и Аврааме» (1963) преобразование во сне Исаака слова kust («куст») в слово krest («крест»), которое происходит болезненно, буква за буквой, символизирует превращение части природы в жертвенник, на котором должен быть принесен в жертву Исаак. Даже имя Исаака становится анаграммой его судьбы: кириллическая буква s (которая имеет форму латинской c ) отражает форму жертвы — жертвенного ягненка со связанными вместе передними и задними конечностями.
В «Горбунове и Горчакове» (Песнь V) есть кошмарный раздел, в котором русское слово сказало («он сказал») — в таких фразах, как и на сказале («и он сказал») и . i on yemu skazal («и он сказал ему») — становится почти вещью и, хотя и является глаголом, склоняется, как существительное.
В том же стихотворении содержится замечательная медитация о природе речи и тишины:
«… тишина — это будущее всех дней
, которые обращаются к речи; да, молчание — это присутствие
прощаний в наших приветствиях при прикосновении.
Действительно, будущее наших слов — это тишина —
тех слов, которые поглотили вещество вещей… ».
Этот отрывок заканчивается:
«Жизнь — всего лишь слова, брошенные в лицо тишине».
Бродский с Пастернаком из «Поэм Юрия Живаго» предполагает существенное «единство поэзии и жизни». И он продолжает с необычайной энергией бросать свою поэтическую речь в тишину, которая окружает всех нас.
NYTimes
SO FORTH
Стихи.
К Иосиф Бродский .
132 стр. Нью-Йорк:
Фаррар, Штраус и Жиру. 18 долларов.
Текст:
ИОЗЕФ БРОДСКИЙ был героем нашего времени, великим русским поэтом, отстаивавшим свободу и индивидуальность в Советском Союзе, и который, когда вышел оттуда, был достаточно храбрым, чтобы попытаться стать американским и европейским поэтом, поэтом- гражданин
мира.Это была задача героического преувеличения в старом новаторском стиле иммигрантов, которые превратились в американцев, говорящих на новом языке по-своему.
Но для Бродского как поэта это было не только подвигом — это было невозможным, и это, должно быть, плохие новости. Муза неумолима. Она вынуждена отказаться от самых великих усилий, если они полностью не исчезнут. В его чудесном стихотворении о смерть Йейтса, Оден написал тогда: «Поклоняется языку и прощает / Всем, кем он живет.И продолжает жить. Русский голос Бродского бессмертен, как и голос Пушкина или Ахматовой. Он продолжал строить для себя идиому на английском языке и манеру говорить как американский поэт, но время вряд ли будет уважать их истинный поэтический авторитет.
На этот раз претензия на обложку книги кажется не только дипломатически привлекательной, но и правильной. Бродский, как говорит его издатель, «был признан одним из великих поэтов своего родного языка; но после 24 лет в США Состояния .. . он также стал мастером своего приемного языка ». Это очень хорошо сказано, даже если« хозяин »преувеличивает. Но Муза не впечатлила. Бродский — не великий английский поэт, но великий русский поэт.
Он принял голос В. Х. Одена, чьи стихи страстно восхищались. Конечно, это не мог быть настоящий голос Одена, хотя он общался с Оденом в восхитительной товарищеской ассоциации.Но поэт — последний человек, способный чревовещать настоящий голос. Без Одена Бродский, возможно, никогда бы не превратился в поэта, пишущего на английском языке, потому что его русский голос и русская поэзия были уже знакомы с Оденом и могли разговаривать с ним, так сказать, по-человечески. Но ученичество на поэтическом языке никогда не годится. Сам Оден начинал как вдохновенный подражатель и пародист современных поэтических голосов; затем, однако, он нашел свое, и оно было полностью авторитетным.
Конечно, в некотором смысле у прозы тоже есть голос, но голос в прозе имеет меньшее значение, чем то, что она говорит. И Конрад, и Набоков научились писать свою собственную безошибочную английскую прозу; но это было потому, что они могли сказать то, что хотели сказать через эту новую, но уже знакомую им среду. У Набокова как у русского писателя не больше абсолютного авторитета, чем у американского писателя. Два режима языка и дискурса смешались, стали фактически одним.Но как поэт, Бродский имеет полный авторитет только на своем родном языке.
Многие стихотворения в «So Forth», написанные за 10 лет до смерти Бродского, написаны в том стиле, в котором он озвучил свой приемный голос, но далеко не все. Иногда загадочный акцент бывает у русского поэта. и бродяга в английских словах. Это происходит в неторопливом стихотворении «Вертумн», в котором есть простор — русская широкость — и атмосфера медитации, которая раньше была характерной чертой Бродского. стихи на русском языке.Слишком часто после этого ему хотелось использовать неподходящие рифмы и разговорные выражения — у него не было ни слуха, ни инстинкта для этого в английском языке — которые болезненно подчеркивали уверенность и превосходство Одена в обращение с явно одноразовым поэтическим языком. Бродский склонен бросаться своими английскими словами в стихотворение с фатальной беззаботностью, как в претенциозно оденовском «Портрете трагедии».
Давай засунем пальцы ей в скрежет
разъеденные цингой клавиатуры, воспламененные вольфрамовыми вспышками
показывая ее богатое слюной небо с метелями пепла родственников.
Давайте дернем ее за подол, посмотрим, не покраснеет ли она.
Что ж, трагедия, если хотите, удивите нас.
Покажите нам преданное тело или его гибель, устройства
за потерянную невинность, внутренний кризис.
В этом есть врожденная неуклюжесть, как у медведя, играющего на флейте, что смущает.Ни дюжина кропотливых строф ни удивить нас, ни развить аргумент не удастся. У русской поэзии есть инстинктивное приличие, которое никогда не предпринимайте не очень убедительных попыток Бродского против американской простодушия.
Посмотри на нее, она хмурится! Она говорит: «Добрый вечер,
позвольте мне начать. В этом деле, ребята, начало
имеет значение больше, чем конец.Дай мне человека
а я начну с несчастья, так поставь наручные часы на скорбь ».
Та же неуверенность в прикосновении портит «Сказку», которая должна быть бодрой аллегорией глупостей современной войны в духе несравненной сказки Пушкина «Золотой петушок». Но Пушкин. плохо сочетается с Оденом, баллады которого столь же беззаботны, но гораздо более искусны, чем версии Бродского в том же метре.
Император говорит: « Думаю, ты догадываешься
для чего вы здесь.
Генералы встают и лают: «О да,
Сир! Чтобы начать войну ».
Фальшивая наивность сантиментов и ритма получается не лучше, чем образы.
На закате все выглядит довольно красиво.
Снижается температура.
Мир лежит неподвижно, как договор
без подписи.
Вот и все плохие новости о So Forth.Но есть и хорошие новости, как всегда можно было бы надеяться, что они будут в случае с поэтом, столь оживленным и трогательным, каким может быть Бродский на английском языке. В своём свободном интересе и непосредственности Стихотворение типа «Песня о любви» русское так же, как и английское — как будто в музыке ноты кажутся важнее слов.
Если бы вы были китайцем, я бы выучил язык,
жги много ладана, носи забавную одежду.
Если бы ты был зеркалом, я бы штурмовал дам,
Дай тебе мою красную помаду и надуй нос.
Если бы вы любили вулканы, я был бы лавой,
безжалостно извергающийся из моего скрытого источника.
И если бы ты была моей женой, я был бы твоим любовником,
потому что Церковь категорически против развода.
Двойной взгляд на последние две строчки типичен для невинного веселья Бродского, чем-то напоминая те замечательные прозаические эссе, одинаково хорошие на русском или английском языках, в которых он когда-то воздал должное привязанностям и сладостям своего Ленинграда. детство, где его отец был хранителем Русского военно-морского музея. Старый русский военно-морской флаг с бело-голубым Андреевским крестом был для Бродского самым романтичным флагом в мире, и он никогда не боялся сказать: так в эпоху ссср и красного флага.
Я упоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, насколько «церемония невиновности», как говорил о ней Йейтс, значила для Бродского. В «So Forth» есть трогательные стихи о его новой американской семье; один, написанный в 1994 году его молодому дочь, которая трогательно смешивает осознание отца, что ему осталось недолго жить, с обнадеживающим празднованием того, что она сама может помнить и любить.
Так что следите за ними всегда, потому что они, без сомнения, осудят вас.
Все равно любите эти вещи, встречу или нет.
Кроме того, вы еще можете вспомнить силуэт, контур,
а я потеряю даже это вместе с другим багажом.
Отсюда эти несколько деревянных линий в нашем обычном языке.
Не часто хороший поэт производит впечатление законченного и, прежде всего, знакомого человека. Можно надеяться, что помимо своего статуса поэта, Бродский является предзнаменованием для будущего того, что его предшественник Осип Мандельштам однажды назвал «надеждами общества». Мировая культура ».
Иосиф Бродский, Темнее и ярче
Квартира, где Иосиф Бродский жил со своими родителями, ныне музей в Санкт-Петербурге.Петербург, Россия. (24 мая 2015 г.) (AP)
Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц!Благодарим вас за подписку на еженедельную рассылку The Nation .
Спасибо за регистрацию. Чтобы узнать больше о The Nation , ознакомьтесь с нашим последним выпуском.Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц!Поддержка прогрессивной журналистики
Nation поддерживает считыватели: чип в размере 10 долларов или более, чтобы помочь нам продолжать писать о важных проблемах.Зарегистрируйтесь в нашем винном клубе сегодня.
Знаете ли вы, что можно поддержать The Nation , выпив вина?В июне 1972 года молодой поэт из Ленинграда сошел с самолета в Детройте и вступил в новую жизнь. Его изгнание из Советского Союза принесло ему международную известность; однако он не знал, как водить машину, как открыть счет в банке или выписать чек, или как пользоваться тостером. Его английский, в основном самоучка, был почти непонятен. Он бросил школу в 15 лет.Тем не менее, в возрасте 32 лет он вскоре приступит к своей первой настоящей работе, причем в учреждении мирового класса: он был новым поэтом, проживавшим в Мичиганском университете в Анн-Арборе. Через несколько лет Иосиф Бродский станет колоссом на литературной сцене Нью-Йорка. Через 15 лет ему будет присуждена Нобелевская премия.
ОБЗОРНЫЕ КНИГИ
Однако в момент приземления самолета Бродский стал олицетворением советских преследований: другими словами, «жертвой» и, следовательно, клише.Он не был клише, но огласка мгновенно дала бы ему власть и престиж на его избранной земле. Внезапно раздающиеся вокруг него американские голоса не могли понять сил, которые сформировали его: арест КГБ, тюрьма, психиатрические больницы, судебный процесс и приговор к каторжным работам и ссылке за Полярным кругом. Это было легендой, и это способствовало шквалу освещения в СМИ. «Крестные станции времен холодной войны» было легче упаковать для массового потребления, чем учитывать музыкальность, метафорическую изобретательность, сжатость и грубый интеллект стихов Бродского, которые почти не появлялись на английском языке и только в самых избранных публикациях.
Эллендеа Проффер Тизли в своих новых коротких мемуарах « Бродские средства » ( Бродский среди нас ) предлагает иной взгляд на поэта. Это иконоборческий и завораживающий портрет, отчасти откровенный. Бродский Тизли и темнее, и ярче, чем тот, который, как мы думали, мы знали, и он сильнее для этого как поэт и как человек. Сам прием книги поучителен. С момента публикации в Corpus Books весной 2015 года книга Brodsky Among Us произвела фурор в бывшей стране поэта и быстро стала бестселлером, который выходит в шестой тираж.Прошлой весной Тизли совершил триумфальное издательское турне, выступая на закрытых конференциях в Москве и Санкт-Петербурге; Тбилиси, Грузия; и ряд других городов. Книга получила сотни отзывов. По словам ведущего критика Анны Наринской, написавшей в газете Коммерсант , мемуары Тизли были написаны «без слезливого восторга и злобной мести, без мелкого сведения счетов с покойным или живыми» и в то же время демонстрирующих полное осознание масштабности и необычности своего героя.’»Галина Юзевофич в интернет-издании« Медуза »похвалила Тизли за« точность взгляда и абсолютную честность », в результате чего получился портрет« мудрости, спокойствия и удивительной невозмутимости ». Тем не менее, книга еще не нашла издателя на английском языке, на котором она была написана.
Аэропорт Детройта не был первоначальным пунктом назначения Бродского. Советы намеревались отправить его в Израиль, место, которое не интересовало поэта, светского еврея. На остановке в Вене Бродского встретил Карл Проффер, профессор славянских языков и литературы из Мичиганского университета, который ждал в аэропорту с планом отвезти его в Анн-Арбор.Проффер, муж Тизли, не имел права предлагать Бродскому место в университете. И все же он успешно обманул дипломатов, посольства и различные бюрократические органы.
Бродский не представлял, чего ожидать в Анн-Арборе, где Профферы какое-то время жили на грани. Карл был исследователем Набокова и Гоголя; Эллендея писала о Булгакове. В 1971 году после нескольких визитов в Советский Союз пара основала новаторский издательский дом под названием «Ардис». Ардис издавал литературу, которая не увидела бы свет на ее родине, в русском и английском переводе.Предприятие было начато с банковских ссуд, кредитных карт и ссуд денег у благотворительных, если это озадачено, родителей. В конце концов пара приобрела бывший загородный клуб, в котором разместился Ардис, Russian Literature Triquarterly (журнал, который они запустили в 1971 году), и их растущая семья. Гараж использовался для инвентаря, а за пиццей друзья помогали с рассылкой. Ардис бежал без средств к существованию.
Надежда Мандельштам, вдова поэта Осипа Мандельштама, была carte d’entrée Профферов в литературном мире, у которого были причины не доверять иностранным посетителям.В конце концов, она привела их к Бродскому. Профферы опасались за безопасность поэта с самого начала их дружбы: Тизли пишет, что «нам трудно думать о нем, не прибегая к словам судьба и судьба , потому что эти слова, кажется, витают в воздухе. вокруг него.» О своей первой встрече с Карлом с Бродским в Ленинграде в 1969 году она говорит: «Поэт сразу говорит, что он не диссидент — он не хочет, чтобы его каким-либо образом определяли как оппозиция советскому правительству; он предпочитает действовать так, как будто советской власти не существует.Она добавляет: «Он говорит, что мы ничто перед лицом смерти, но он излучает, что я победлю».
Профферы узнают о его нежности и уязвимости, а также об их противоположностях: его дерзости, высокомерии, хамстве. Тизли пишет: «Мне вспоминается то, что друзья Маяковского говорили о нем — что у него не было кожи». Бродский жил в мире абсолютов, и его враждебность могла быть непоколебимой. В Ленинграде, говоря об Америке, он настаивал на том, чтобы движение Black Power было подавлено, протестующих студентов избила полиция, а Вьетнам превратился в парковку.Время изменило бы эти суждения, но не устранило бы стоящее за ними мышление: Бродский прибыл на Запад с советским шаблоном и продолжал применять его к окружающему миру. У него было опасное кредо и притягательная сила. «Самым замечательным в Иосифе Бродском является его решимость жить так, как если бы он был свободен в тюрьме с одиннадцатью часовыми поясами, которой является Советский Союз», — пишет Тизли. «В восстании против культуры« мы »он будет ничем, если не личностью. Его кодекс поведения основан на его опыте тоталитарного правления: человек, который не думает самостоятельно, человек, который идет вместе с группой, является частью самой злой структуры.Следовательно, он отказался считать себя диссидентом — ярлык, который определил бы его с точки зрения правительства, которое он ненавидел. «Если у вас была слава, у вас была сила повлиять на культуру; если у вас была слава, вы показывали Советам то, что они потеряли », — пишет Тизли. Бродский был уверен, что они знают, что потеряли.
* * *
НРАВИТСЯ? ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ НАШЕЙ ЛУЧШЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗА
В 1984 году Карл Проффер умер от рака в возрасте 46 лет, оставив Тизли вдовой с четырьмя детьми.Она переехала в Южную Калифорнию, получила стипендию «гения» Макартура в 1989 году и в конце концов снова вышла замуж. Но Карл оставил ее с обещанием сдержать: когда он умирал, Тизли дал ей слово, что она позаботится о том, чтобы его незаконченные мемуары, состоящие примерно из 20 страниц, которые резко обрезались, были опубликованы.
Накануне публикации позволила Бродскому посмотреть. «Он прочитал это и пришел в ужас, несмотря на то, что в нем выражалась наша любовь и восхищение», — пишет Тизли в « Бродский среди нас ».«Он был расстроен объективностью Карла; друг не должен так писать. На самом деле Джозеф воображал, что может контролировать то, что о нем пишут ». В письме он угрожал подать на нее в суд, если оно будет опубликовано; она капитулировала и вытащила мемуары из посмертного сборника эссе. Спустя годы Сьюзен Зонтаг спросила Тизли, как дружба пережила синяк. «Я должна была принять решение простить Джозефа, — сказал ей Тизли. «Теперь я думаю, что правильнее было бы сказать, что я не мог потерять другого человека из своей жизни.Тем не менее, ее предсмертное обещание выполнено с помощью Бродский среди нас , который возвращает голос очевидца, который иначе был бы для нас потерян. Тизли органично вплетает отрывки из мемуаров покойного мужа в свои собственные.
Ее книга — особенно приятная новость для россиян, желающих услышать об Ардисе, потому что ее история — это тоже их история, и история их литературы. Они видели свое отражение, которого не узнали, например, сказочную принцессу, впервые смотрящую в зеркало, и образ, который они увидели, взволновал их.У них были свои собственные клише: Бродского изображали мучеником, что, по словам Тизли, он счел бы невыносимым.
Были и другие причины для восторженного приема книги: Тизли — знаменитость в России, а переводчик ее книги, известный Виктор Голышев, был другом поэта. Более того, россияне мало что знали об американской жизни Бродского, поэтому книга стала для них откровением. Но определенно отчасти его успех связан с нынешним моментом в путинской России: с правительственной цензурой и репрессиями некоторые россияне опасаются, что страна времен Бродского вернулась.
Когда, во многом с помощью Карла Проффера, Бродский покинул один мир ради другого, он не осознавал — и не мог — понять, насколько полным будет отречение. Он никогда больше не увидит своих родителей, несмотря на его отчаянные попытки получить для них визу. Телефон стал спасательным кругом. Марина Басманова — давняя любовница Бродского, от которой у него был сын, — издали читала стихи, которые он ей посвящал. Когда в 1983 году Ардис опубликовал русское издание Новых Станц к Августе , ему позвонила его муза.«Я полагаю, — писал Карл, — что в мировой литературе было немного случаев, когда Муза, особенно такая трудная, внезапно материализовалась таким образом, чтобы вознаградить поэта, который ее спел».
На выступлении в Санкт-Петербурге десять лет назад Тизли сказала своей аудитории, что она «никогда не знала никого, кто хотел бы покинуть Советский Союз больше, чем Джозеф»; он говорил об уходе с того дня, как она впервые встретила его. Один из его друзей бросил ей вызов: возможно, поэт хотел уйти, он наконец признал, но, безусловно, он хотел иметь возможность вернуться.»А он?» она ответила. «Я был одним из многих, кто пытался убедить его приехать в Россию после 1989 года».
Бродский отказался вернуться. Хотя было выдвинуто множество причин — его здоровье, его нежелание быть туристом в России или отвечать на «официальные» приглашения, даже одно или два безумных суеверия — они могли просто рационализировать суровую реальность: домой не было. Бродский не мог разделить атом.
«Он говорил разные вещи в зависимости от своего времени и настроения, поэтому все, чему можно действительно доверять, — это его действиям», — пишет Тизли.«Он не вернулся в родную страну, когда мог. Я знаю несколько его причин: одна из них заключалась в железной убежденности в том, что возвращение будет формой прощения. Он не мог поверить, что новые мастера действительно так сильно отличаются от старых мастеров, которые отказались выпустить его родителей. Изгнание было настолько трудным, что трудно было поверить, что можно просто вернуться назад, как если бы оно вам ничего не стоило ». Тизли заключает, что «иногда вы любите свою страну, но она не любит вас в ответ. Эта потеря становится частью вашей новой личности.”
* * *
Надежда Мандельштам особо подчеркнула, что наставник Бродского, легендарная поэтесса Анна Ахматова, оказала на него большое влияние, в частности, на то, как он вел себя как поэт. «Какую биографию они делают для нашего рыжеволосого мальчика», — кричала Ахматова после суда над ним в 1964 году по обвинению в социальном паразитизме.
Значит, она научила его, как себя позиционировать; она была экспертом в таком самодействии. Однако Ахматова, поэт из высшего общества, достигшая совершеннолетия при царях, была дома в Европе, где у нее была возможность практиковать свою версию себя.Ее краткая поездка за границу в 1965 году для получения почетной степени Оксфордского университета усилила ее загадочность, и она приправила свои разговоры разговорами о Бродском.
Возникает вопрос, не была ли Ахматова первой, кто научил его изобретать себя, маскировать периодическое жалость к себе жестким стоицизмом в его стихах и прозе. Бродский сказал одному другу, что сделает изгнание своим личным мифом, что он и сделал. Но миф мог завести его лишь до сих пор. Ничто не могло подготовить его к требованиям интервью, статей, обзоров, выступлений, эссе и рекомендательных писем.Он не мог отказать друзьям и соратникам-эмигрантам. Казалось, всем нужен совет, чтение, лекция, справочник, фотография. Ему нужен был панцирь, причем толстый. И все же у него не было кожи.
Нобелевская премия дезориентировала его. Он получил практически все награды, которые мог предложить Запад. Призовые деньги тратились, часто щедро, на друзей, и он не был склонен ни воспитанием, ни природой к инвестиционным портфелям. Но его мир изменился, и он не мог сориентироваться. Враги больше не имели значения, и это было проблемой.«Ему были нужны его враги; сопротивление им — и государству — сформировало его личность », — пишет Тизли. Он больше не был неудачником, а стал постоянным аутсайдером. Он показал Советам, что они потеряли, но система, которая его угнетала, исчезла. Его победа оказалась бессмысленной. Возможно, он не хотел верить, что в СССР что-то изменилось, потому что это изменило бы смысл его жизни.
Смерть преследовала Бродского — болезненное сердце в его груди, повторяющиеся и все более сложные операции, которые нужно было преодолеть еще несколько лет, — пока он, наконец, не скончался в возрасте 55 лет.Это был еще один факт, который подпитывал романтический миф, когда действительность была намного мрачнее и суровее, чем предполагала его публика. Бродский боялся смерти, несмотря на его протесты, несмотря на то, что закурил еще одну сигарету почти сразу после завершения операции на открытом сердце. Тизли пишет, что «боролся со страхом смерти поэзией, любовью, сексом, кофе и сигаретами — и пытался отрицать значение смерти, почти никогда не мог ее забыть».
Майкл Грегори Стивенс в статье Ploughshares в 2008 году описал встречу с Бродским в захудалом баре для стариков воскресным утром, когда поэт был уже воинственно пьян.Я подумал, что Стивенс, должно быть, ошибается, поэтому несколько лет назад связался с ним, чтобы спросить. Он сказал мне, что подтвердил другим, что это не единичный инцидент. Однако, похоже, это произошло где-то в течение полутора лет, когда Бродский потерял отца, мать и Карла Проффера, человека, которого он когда-то назвал «воплощением всего лучшего, что человечество и американец» представлять.» Без контекста, предоставленного книгой Тизли, этот эпизод был бы нелепым и унизительным, и его трудно было бы согласовать с эстетическим поэтом.Бродский достиг всего, превзойдя свои самые смелые мечты, но он потерял мир, в котором он мог наслаждаться этими успехами, и людьми, дорогими ему, которые знали бы, чего стоили победы.
* * *
Если бы не Америка, Бродскому не было бы Нобелевской премии. В его принятой стране высокая напряженность и скорость его поэзии вдохновляли множество писателей, художников и мыслителей. «Он приземлился среди нас, как ракета», — сказала Зонтаг. Тем не менее, англоязычные читатели знают, что они получают тень оригинала, эхо — как хороший винтаж, который слишком долго хранился в подвале.Иногда пробка попадала в вино, как тогда, когда Бродский настаивал на самопереводе.
«Он совершенствовал свой английский с фантастической скоростью и начал изучать рифмующиеся словари и словари сленга», — пишет Тизли. «Однако, и в этом нет ничего странного, он не мог почувствовать уместность слова, учитывая его нормальное и историческое использование, он ограничивался тем, что словарь дал в качестве примеров». Более того, он продолжал слышать в голове русские интонации, поэтому писал по-английски со своим русским акцентом и ударениями.Тизли пишет:
Со временем он стал лучше переводить свои стихи, но не раньше, чем разочаровал серьезных читателей стихов. Мои друзья — американские поэты или русские ученые — звонили мне и садистски читали последний перевод Бродского (или английский оригинал), и я очень устал защищаться, говоря, что он был великим поэтом на русском языке.
Люди спрашивают, почему его переводы не подвергались серьезной критике до его смерти. Ответ заключается в том, что он был одновременно влиятельным и мстительным, поэтому некоторые считали, что цена честной оценки слишком высока.Что касается его друзей, поэтов и других людей, они любили его и не хотели задеть его чувства. Вдобавок — и это всегда касается Бродского — его поэтическая биография преследований тоталитарным государством давала ему иммунитет от нормального литературного процесса как в Америке, так и в Великобритании, по крайней мере, в печатном виде.
Тизли сомневается в мудрости перевода своих стихов в размерность и рифму. Однако работы Энтони Хехта, Ричарда Уилбура, а иногда и самого Бродского доказывают обратное, хотя нельзя было ожидать, что переводчик воссоздает все сложные образцы ритма и рифмы, которые появляются в его русских стихах.(Тизли справедливо указал бы, что Бродский вмешивался даже в Гехта и Уилбура.) Тем не менее, в поэтической культуре, где доминировал свободный стих, это возложило на него дополнительное бремя доказательства.
Как отсутствие новых переводов, так и существующие проблемные переводы способствовали подрыву репутации Бродского в Соединенных Штатах. По обе стороны Атлантики недоброжелатели ставят под сомнение его высокое положение, как будто поэтов, которые его защищали — Чеслава Милоша, Шеймуса Хини, Дерека Уолкотта и Томаса Венцловы — каким-то образом обманули.Около двух третей его стихов остаются непереведенными, и это досадно.
Некоторые российские читатели отметили, что есть еще одна книга между строками Бродский среди нас . Тизли сказала аудитории в России, что она рассказывала только четверть того, что знала. Она не хотела, чтобы личность Бродского подавляла его стихи, поэтому многое о его жизни оставила недосказанным. «Единственным богом, которому он служил, был бог поэзии, и этому богу он был верным слугой. Что заставило его поверить в высшую силу, так это сам факт его чудесного дара.И, как она пишет, «он был поэтом каждую минуту каждого дня».
Есть опасность, что Бродский «станет его поклонником», как писал Оден о Йейтсе. Он сентиментален и китчифицируется. Русские жаловались на побеленные воспоминания; в Америке также шероховатая поверхность и острые края были отполированы, чтобы оставить улыбающегося публичного человека, патрицианского артиста, дающего мудрость. Публичные поминки были столь же банальными. Организаторы Олимпиады 2014 года в Сочи, не обращая внимания на иронию, представили образ и работы Бродского в числе других известных российских писателей на церемонии закрытия.Кажется, после его смерти каждый может представить, что получил бы его поцелуи, а не презрение. Тизли документирует эту коммодификацию поэта в «Бродский лайт»:
В Америке стоит марка Бродского, а его именем назван самолет Аэрофлота. Я не хочу, чтобы был музей Джозефа, я не хочу видеть его на марке или его имя на борту самолета — эти вещи означают, что он мертв, мертв, мертв, мертв, и никого больше не было. в живых.
Я протестую: притягательный и сложный человек из плоти находится в процессе пожирания памятником, чудовищное явление, учитывая, насколько человеком был Иосиф.
Иосиф Бродский был лучшим из людей и худшим из людей. Он не был памятником справедливости или терпимости. Он был бы таким милым, что через день по нему было бы скучать; он мог быть настолько высокомерным и оскорбительным, что вам хотелось бы, чтобы канализация открылась под его ногами и засосала его вниз. Он был личностью.
Бродский среди нас , похоже, было записано на одном выдохе памяти; это откровенный, личный, любящий и захватывающий: незначительный шедевр мемуаров и важный всемирно-исторический рекорд.Сможем ли мы когда-нибудь прочитать это по-английски?
Для Кэтрин Харрисон лучший писательский совет — перестать думать
Наизусть — это серия, в которой авторы делятся и обсуждают свои самые любимые отрывки из литературы. См. Записи Карла Ове Кнаусгаарда, Джонатана Франзена, Эми Тан, Халеда Хоссейни и других
Дуг МаклинКэтрин Харрисон, автор книги Настоящие преступления: Семейный альбом , дает несколько простых советов своим ученикам-писателям: P аренда перестань думать .В нашей беседе для этой серии она обсуждала любимое стихотворение Иосифа Бродского, в котором у мужчины есть прекрасная восстанавливающая фантазия о человеке, которого он когда-то любил, — мечта, которая возможна только при выключенном свете. Для Харрисона стихотворение — метафора того, как работает письмо; Она говорит, что хорошие вещи случаются в темноте.
True Crimes — это сборник эссе с подходящим подзаголовком: книга изображает серию кровных уз — допросов людей, для которых Харрисон был дочерью, матерью, женой, защитником, жертвой.Но это тоже работа автопортрета. Короткие работы поглощены вопросами о том, как личность меняется с течением времени, как личности умирают и заменяются, и как маска, с которой мы сталкиваемся в зеркале, появляется нам и другим.
Харрисон является самым продаваемым автором романов, в том числе Envy, Enchantments , The Seal Wife и Thicker Than Water, , а также мемуаров The Mother Knot и The Road to Santiago . Пожалуй, самая известная ее книга, «Поцелуй » 1997 года, была мучительным, смелым и искусным воспоминанием о том, как ее отец принуждал ее к кровосмесительной связи.В то время несколько известных критиков-мужчин подвергли сомнению искренность книги; в The New Republic Джеймс Уолкотт вслух задавался вопросом, не слишком ли неприличны некоторые секреты, чтобы их раскрывать. Можно надеяться, что жертвам сексуального насилия стало более приемлемо, если не проще, публично делиться своими историями. Если так, то отчасти благодаря усилиям таких писателей, как Харрисон.
Кэтрин Харрисон разговаривала со мной по телефону из своего дома в Бруклине.
Кэтрин Харрисон: Я не знаю, когда впервые столкнулся со стихотворением Иосифа Бродского «О любви», но я знаю, что пробудило мой интерес к нему.Я был в Бостоне и смотрел сборник Ротко в Гарварде, и в моей голове возникла строчка из стихотворения — как будто его вызвали Ротко.
Это стихотворение о мужчине, которому снилась его умершая партнерша. Возможности, которые были разрушены из-за потери ее, восстанавливаются во сне: идея заниматься любовью, иметь детей и быть в компании друг друга. В конце она подчеркивает приверженность, которая простирается за пределы смертной жизни — в сфере, которая не осознается, не присутствует здесь, не материальная, не церебральная.Вы можете назвать это царством мистического или невыразимого. Как бы вы это ни называли, я верю в это царство.
На протяжении всего стихотворения Бродский создает контраст между светом и тьмой. При выключенном свете воспоминания о женщине-сне поглощают рассказчика — настолько, что кажется, что она становится реальной. Но когда он включает свет, она исчезает:
И с включенной лампочкой
я знал, что оставляю тебя одного
там, в темноте, во сне, где спокойно
ты ждал, когда я вернусь…
Многие человеческие сделки происходят в этом царстве тьмы. На бессознательном уровне, через сны — даже, на каком-то уровне, в способности людей общаться без слов. Под темнотой я не имею в виду черный, как отсутствие света. Я имею в виду темный : аспект жизни, недоступный через наши сознательные процессы анализа.
Суть стихотворения в этой строке:
Ибо тьма восстанавливает то, что свет не может исправить.
Я думаю, что Бродский означает, что свет может «ремонтировать» вещи в мире материала , но есть ограничения такого рода фиксации.Например, медицина может лечить в свете. Но если дух нездоров, жизни нет. И иногда нет никакого способа восстановить то, что было потеряно, кроме как с помощью мечты и воображения.
Я не думаю, что говорю что-то грустное, когда говорю это. Огромное искупление заключается в том, что существует мир темный или непрозрачный для сознательной жизни. Царство тьмы, которая исцеляет и восстанавливает, и позволяет воспоминаниям связать себя, дает настоящее утешение, которое почти свято.Эта строка о святых и порождающих свойствах, существующих внутри нас. Итак, я думаю, что речь идет о Боге. Царство, в котором обитает Бог.
То же самое можно сказать и о Ротко.
Линия также определяет письмо, по крайней мере, письмо так, как я его ощущаю. Для меня письмо — это процесс, требующий мозговых усилий, но он также зависит от бессознательного. Моя работа направлена потребностями моего бессознательного. И с помощью этого темного непрозрачного процесса я могу восстановить то, что в противном случае могло быть потеряно.В романе я могу восстановить утраченные голоса — обычно женские — и вернуть слова тем, кто замолчал. Или в мемуарах — Поцелуй вернул мне голос, нарушил навязанную мне тишину.
Царство тьмы, которая исцеляет и восстанавливает, и позволяет воспоминаниям объединиться, дает настоящее утешение, которое почти свято.Я должен написать. Это не вариант. Когда я пишу, я буквально строю себе место для жизни. Как только я прочно укоренился в повествовании, я просыпаюсь утром, и это первое, о чем я думаю.Не с аналитической точки зрения, как в «О, я еще не дошел до критической точки, а это уже 200-я страница, мне лучше над этим поработать». Это просто бег к тому месту, где я больше всего хочу быть.
Когда я не могу пойти в это место, я чувствую беспокойство и несчастье. Я люблю писать, и я чувствую себя несчастным без этого — и со временем люди вокруг меня тоже становятся несчастными.
Забавно, я учу письму, и до того, как учил, я никогда не догадывался, что чаще всего говорю: «Пожалуйста, перестань думать.«Но люди действительно лучше пишут, не задумываясь, то есть без стеснения.
Я не рассчитываю, что пишу, а это значит, что у меня очень мало над этим контроля. Дело не в том, что я решаю, что писать и выполнять. Скорее, я пробираюсь к чему-то ощупью — даже не зная, что это такое, пока не приду. С годами я научился это принимать.
Конечно, интеллект хочет действовать — и в более поздних набросках он должен. Но на ранних этапах написания книги я имею дело с потенциальным самосознанием, буквально заглушая критические голоса в своей голове.Голоса, которые говорят вам: «О, это не те слова, которые вам нужны», или «вам не следует сейчас работать над этой частью», или «почему бы не использовать настоящее время?» — и т. Д. Любой, кто когда-либо что-либо писал, знаком с этим припевом.
Когда я пишу, я становлюсь версией самого себя, которая не фильтруется через мусор и беспорядок опыта.Эти мысли могут парализовать вас, когда пишете черновик. Так что я буквально приказываю голосам затихнуть. Я хвалю их за их проницательность и говорю, насколько они мне нужны — что они мне понадобятся позже.Но я не могу их сейчас слушать, потому что они меня сбивают с толку.
И я не сижу там, ожидая этого прекрасного, красивого предложения, потому что я знаю, что собираюсь сидеть так вечно. Итак, как я говорю студентам — начните с спотыкания, почему бы и вам? Затем встаньте и снова упадите. Пока вы идете .
Когда я пишу так, как хочу, как люблю, то есть не задумываясь о том, что пишу, происходит странная вещь: я одновременно чувствую себя самой собой, чем я мог бы быть, и в то же время полностью освобожден от себя.Думаю, я становлюсь версией себя, которая не фильтруется через мусор и беспорядок опыта. Мы не можем контролировать так много из того, что происходит с нами в жизни. Даже наши собственные действия разворачиваются во времени способами, которые мы не можем себе представить. Но есть кто-то внутри, кого все это не касается. Этот человек может не существовать на самом деле в свете, но он там, ждет, в темноте.
Как только книга выходит из моих рук, у меня нет иллюзий, что я полностью контролирую ее будущее в мире.Это все равно, что дать читателю радио: они поворачивают ручку, оно играет, и они думают: «Ой, отлично!» Или не играет, а потом выкидывают. Отдавать книгу критикам — это другое дело, и даже хуже — это больше похоже на то, как смотреть, как разбирают радио, даже не слушать, как оно играет.
Я хочу, чтобы искусство прорвалось сквозь завесу между тьмой и светом, потому что искусство материально, хотя то, что оно выражает, невыразимо.Я не очень люблю публикации. Не поймите меня неправильно, я благодарен за то, что зарабатываю на жизнь тем, что люблю.Но хотя я люблю писать, мне не очень нравится , будучи писателем . Я не очень понимаю, кто такая писательница Кэтрин Харрисон. На самом деле она не имеет ко мне никакого отношения.
Иногда мне приходится выбегать и на какое-то время притвориться этим человеком, что требует много энергии. Я очень интроверт. Но я также охотный и отзывчивый человек в том, что касается служения тому, что мне небезразлично, — письму. Так что, если это означает, что я прихожу и даю чтения и интервью, даже если мне нужно много энергии, чтобы довести себя до появления на публике, я счастлив сделать это.

