Стих о любви бродского: Бродский — Стихи о любви: лучшие стихотворения Иосифа Бродского любовной лирики
«Бродский — поэт несостоявшихся, угнетённых или неудачливых граждан»
Если ты меняешь территорию, надо следить, чтобы масштаб этой территории соответствовал прежней, потому что иначе есть шанс измельчать. Человек, переезжающий из великой страны в малую, начинает писать довольно маломасштабную лирику или маломасштабную прозу. Бродский выбрал Америку, в которой, как он пишет в третьем письме к Виктору Голышеву, «МНОГО всего». И, конечно, он имперский поэт прежде всего потому, что для него ключевые понятия — понятия количественные: напор, энергетика, харизма, длина (он любит длинные стихотворения). В общем, количество у него очень часто преобладает над качеством. Бродский берёт массой, массой текста.
Вот это мне кажется очень важным, очень принципиальным, делающим его невероятно актуальным для ура-патриотов. Ну, дошло дело до того, что в «Известиях» появились две статьи, где Бродского просто провозглашают нашим: «Он не либеральный, он наш».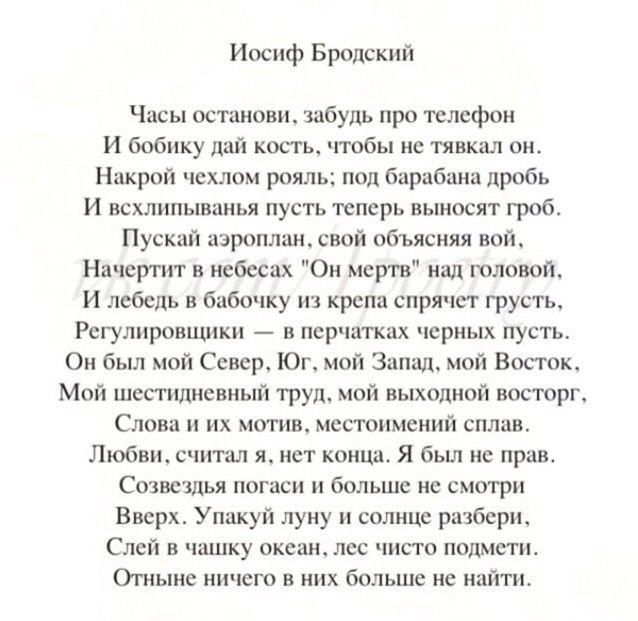
В чём проблема? Мне кажется, что каждый поэт избывает некоторый фундаментальный внутренний конфликт, и этому конфликту посвящены все его стихи. Вот проза может иметь функцию дескриптивную, описательную. А поэзия всегда так или иначе борется. Она — акт аутотерапии. Она борется с авторским главным комплексом, главной проблемой.
Хотя Пушкин — бесконечно сложное явление, но у Пушкина, на мой взгляд, одна из главных проблем — это проблема государственной невостребованности, проблема государственника, который не востребован государством. И отсюда вытекает его сквозной инвариантный мотив ожившей статуи. Человек обращался к статуе в надежде, что она с ним заговорит, обращался к истукану, а этот истукан стал его преследовать, давить, диалога не вышло — конфликт «Медного всадника».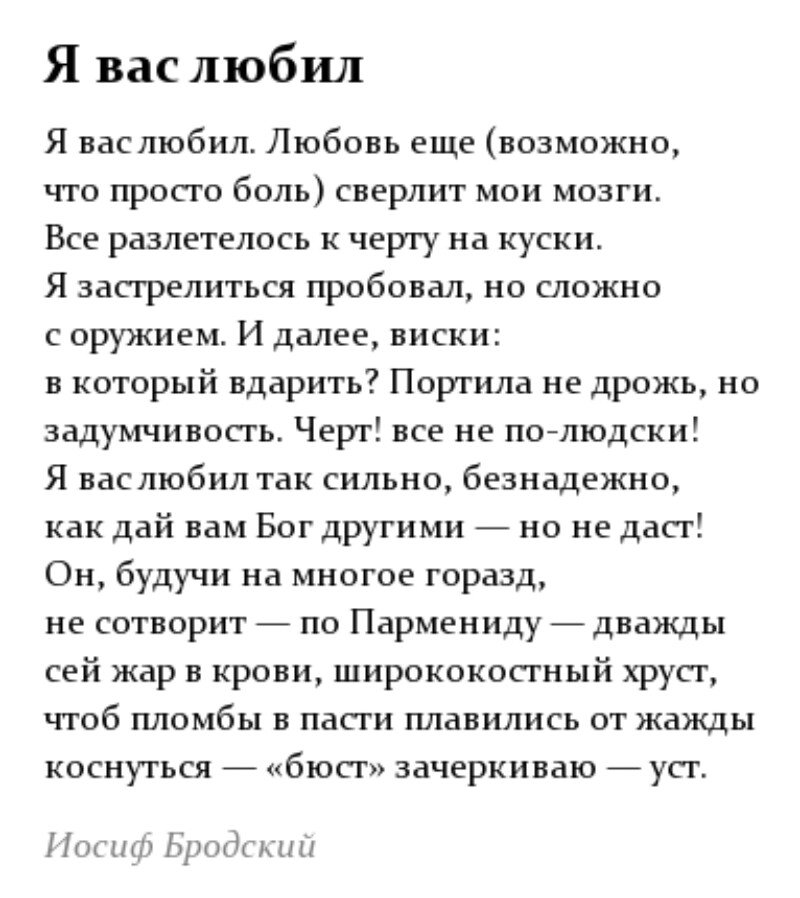
Конфликт Маяковского, им самим сформулированный: «Такой большой и такой ненужный?» Такая огромная интонационная умелость, такая избыточность эмоциональная — и вот так не нужен никому. Такой огромный — и такой не приложимый ни к чему. Все маленькие.
Главный конфликт в текстах Бродского, который очевиден, который сразу обнажается читателю, — это конфликт между потрясающей стиховой виртуозностью, как писал Юрий Карабчиевский**, «с несколько даже снисходительным богатством инструментария», владением всем, и, я должен заметить, довольно бедным и, я бы даже рискнул сказать, довольно общим смыслом, который в это вложен, довольно обывательскими ощущениями. Именно поэтому Бродский — это такой поэт большинства.
Бродский вообще очень любим людьми, чьё самолюбие входит в непримиримый конфликт с их реальным положением. Поэт отвергнутых любовников, поэт несостоявшихся, угнетённых или неудачливых граждан, потому что им нравится отвергать, им нравится презирать.
Как ни относись к Бродскому, нельзя не признать восхитительной, заразительной и бесконечно привлекательной манеру выражения его мыслей и нельзя не ужаснуться их бедности, их узости. И здесь я рискну сказать, может быть, достаточно горькую вещь и достаточно неожиданную.
Говорят: «Маяковский сегодня воспевает свободу, а завтра — диктатуру; сегодня пишет: “У Вильгельма Гогенцоллерна // Размалюем рожу колерно”, а завтра сочиняет пацифистскую “Войну и мир”». Но дело в том, что к Маяковскому эти претензии ещё меньше приложимы, чем, например, к Паваротти. Паваротти сегодня поёт какую-нибудь воинственную арию, а завтра — сугубо элегическую; сегодня поёт марш милитаристский, а завтра — «Ах, не хочу на войну», условно говоря. Ключевое слово в поэзии Маяковского — «голос». Оно одно из самых употребительных. Кроме «голоса», там нет практически ничего. Маяковский говорит не то, что он думает, а то, что интонационно привлекательно, или, вернее сказать, — он думает то, что хорошо говорится, что приятно будет сказать.
Применительно к Бродскому Александр Житинский сформулировал замечательно точную мысль: «Необычайно приятно читать Бродского вслух». И девушке его вслух читать приятно, и приятно его читать с трибуны, и самому себе его приятно произносить. Знаете, иногда один в комнате сидишь и твердишь себе какие-то хорошие стихи, просто чтобы одиночество не так давило на уши. Да, Бродского приятно читать вслух.
И всё, что он говорит, приятно сформулировано, даже когда это вещи абсолютно взаимоисключающие. Например, стихи «На независимость Украины» мы все знаем, они теперь довольно широко цитируются, все помнят эти формулы. Но ведь задолго до этого этот так называемый имперский Бродский написал совершенно не имперские, а более того — антиимперские, довольно страшные «Стихи о зимней кампании 1980 года», стихи об Афганистане. Помните эти действительно страшные стихи про то, что люди свалены, как «человеческая свинина», и:
Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!
о есть слава тем, кто не родил новые поколения солдат этой империи.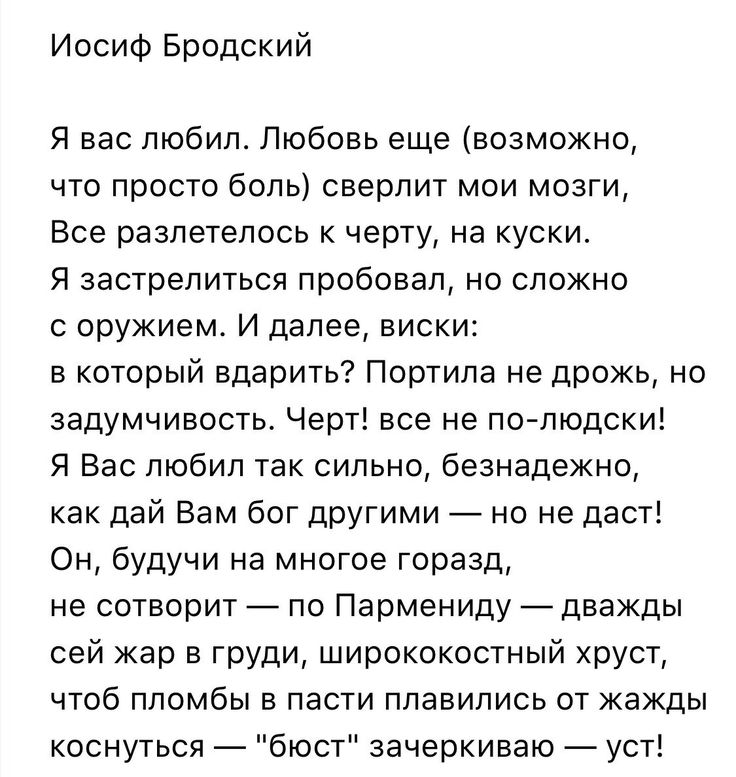 Страшно звучит? Конечно, страшно. Я бы сказал — просто кощунственно. А после этого — совершенно имперские по тону стихи «На независимость Украины».
Страшно звучит? Конечно, страшно. Я бы сказал — просто кощунственно. А после этого — совершенно имперские по тону стихи «На независимость Украины».
Бродский говорит то, что хорошо звучит. Стоит ли за этим глубокая личная убеждённость? Я думаю, нет. Это процесс, который обозначен у него самого, как «пение сироты радует меломана». Человек поёт, просто чтобы не сойти с ума. Это достаточно горькое занятие, но, по строгому счёту, поэт совершенно не обязан думать то, что говорит. Он говорит то, что эффектно звучит. Таковы не все поэты. Не таков Блок, например. Может быть, именно поэтому так не любил Бродский нашего Сан Саныча. Нет этого совершенно у Окуджавы. Господи, у очень многих этого нет.
Бродский написал «На смерть Жукова» — стихи абсолютно советские; стихи, о которых Никита Елисеев, любимый мой критик, в своей статье в «Звезде» совершенно правильно пишет, что они органично смотрелись бы в «Правде» (где они, кстати, в конце концов и были напечатаны, но уже после конца советской власти).
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском манёвра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.
Почему меч был вражьих тупей? Российская школа военного искусства никогда не уступала никому. Или если о качестве оружия идёт речь — так тоже с оружием всё было вроде бы неплохо (и «Т-34», и впоследствии «АКМ»). Давайте вспомним дальше:
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
Почему в области адской? Почему солдаты-победители должны оказаться в области адской? И почему вместе с ними там Жуков? Я уж не говорю о «блеске манёвра» применительно к Жукову — достаточно почитать книгу Виктора Суворова, чтобы возникли серьёзные вопросы.
Но почему мы, как идиоты, придираемся к мелочам? Нас что интересует, в конце концов, — риторика или смысл? В данном случае Бродский риторически убедителен, лозунго-возразителен.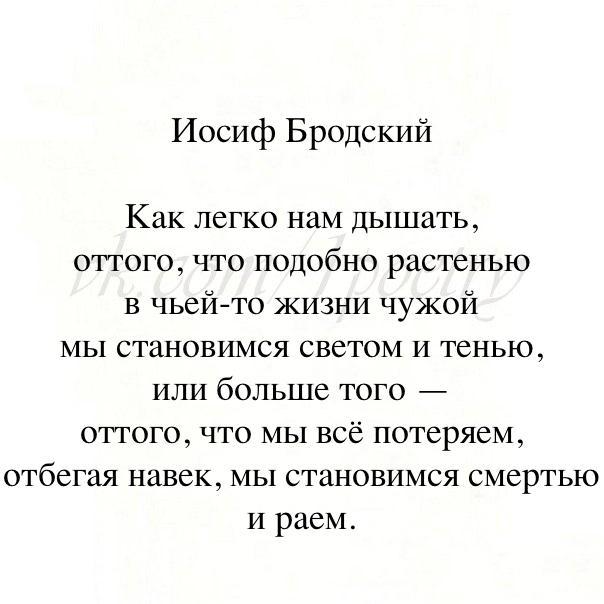 И именно поэтому он так востребован в имперском лагере, где громкость звука есть главный принцип звука и где риторика важнее человечности. У меня очень серьёзные сомнения в том, что Бродский — поэт, которого можно назвать человечным. «Человеческое, слишком человеческое», — мог бы он повторить вслед за великим французом*. Именно французом. Ницше эта фраза не принадлежит.
И именно поэтому он так востребован в имперском лагере, где громкость звука есть главный принцип звука и где риторика важнее человечности. У меня очень серьёзные сомнения в том, что Бродский — поэт, которого можно назвать человечным. «Человеческое, слишком человеческое», — мог бы он повторить вслед за великим французом*. Именно французом. Ницше эта фраза не принадлежит.
Расчеловечивание, если угодно, — главная тема Брод- ского: дыхание в безвоздушном пространстве, стремление вырваться из человеческого, тёплого, примитивного, мелкого и улететь в какие-то надзвёздные страшные высоты. Это тема «Осеннего крика ястреба» — кстати, одного из лучших и самых виртуозных стихотворений Бродского.
Что такое сверхчеловек? То, признаки чего сегодня многие усматривают в Бродском. Бродский сверхвиртуозен, сверходинок, сверхнезависим. Но человечность здесь ни при чём. Мне кажется, что сверхчеловек — это Пьер Безухов, например, потому что он сверхчеловечен. Поэзия же Бродского совершенно лишена таких эмоций, как умиление, сентиментальность.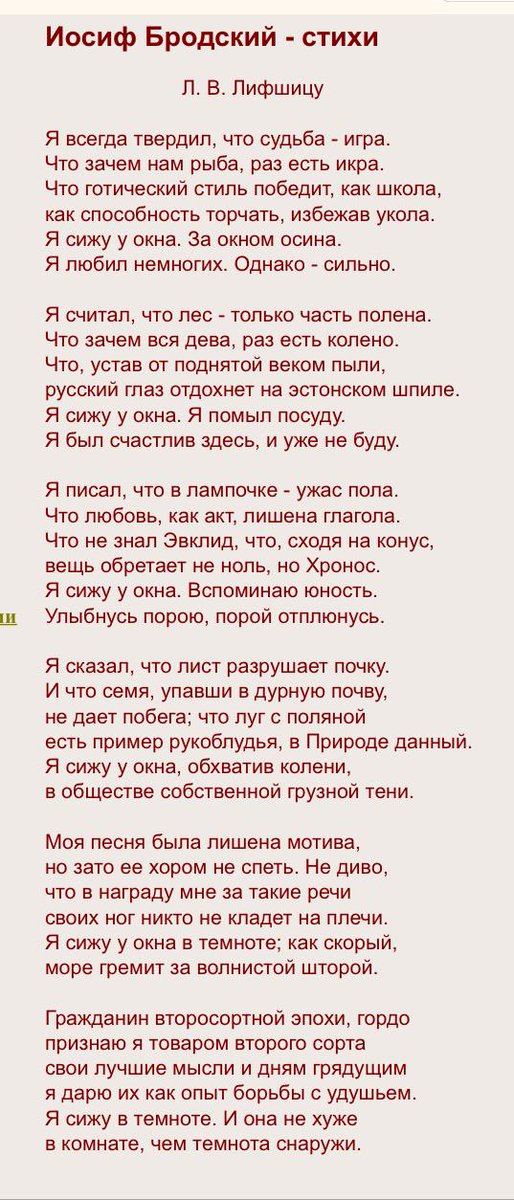
..как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!
И, кстати говоря, вряд ли мы дождались бы от Пушкина слов вроде:
Четверть века назад ты питала пристрастье к люля
и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Человек имеет право на злость, но нуждается ли эта злость в столь эффектном поэтическом оформлении, мне не всегда понятно.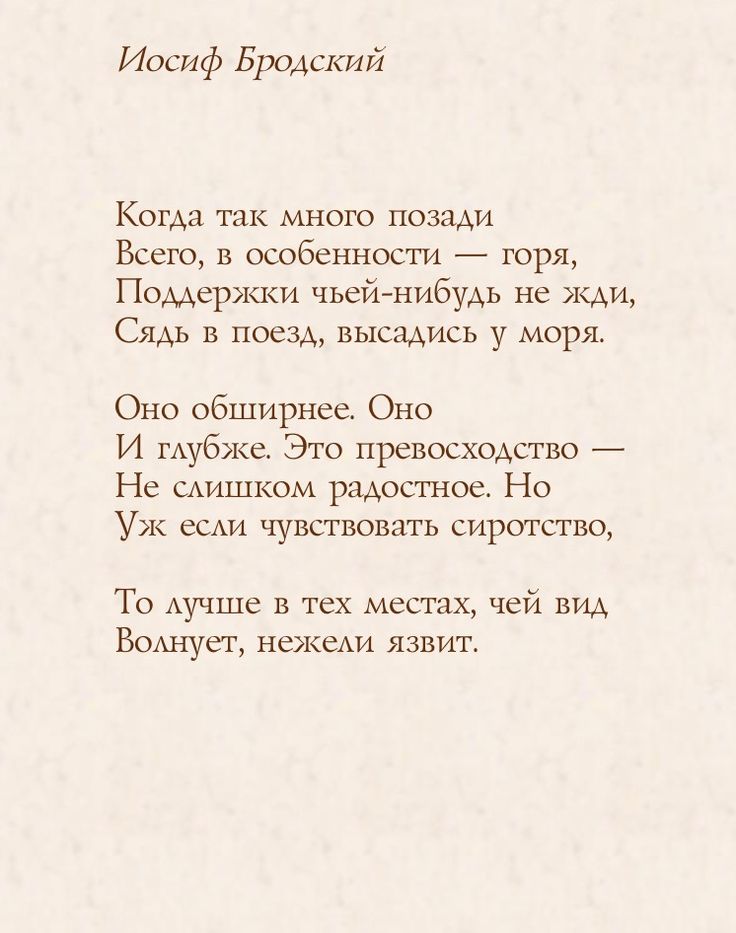 Да, эмоция Бродского заразительна, но она потому и заразительна, что эта эмоция обывательская, самая обычная: эмоция злобы, обиды, эмоция сарказма. Мне кажется, что все разговоры о всепрощении Бродского, о том, что он не озлобился после ссылки, — это чистая риторика.
Да, эмоция Бродского заразительна, но она потому и заразительна, что эта эмоция обывательская, самая обычная: эмоция злобы, обиды, эмоция сарказма. Мне кажется, что все разговоры о всепрощении Бродского, о том, что он не озлобился после ссылки, — это чистая риторика.
Как сильно он не озлобился, давайте почитаем, скажем, в «Представлении» — поэме, в которой просто желчь клокочет! Зачем нам всё время повторять слова Бродского: «Я не стану мазать дёгтем ворота моего отечества»? А что же он делает, интересно, в «Представлении»? Не ворота мажет?
Это — кошка, это — мышка.
Это — лагерь, это — вышка.
Это — время тихой сапой
убивает маму с папой.
Мы все знаем, какое время убило маму с папой. Я уж не говорю об этом: «Входит Пушкин в лётном шлеме, в тонких пальцах — папироса». Всё это — глумление над имиджами, над куклами, над муляжами. Где же здесь высокая нота всепрощения? Нет — и слава богу. Это очень органические стихи.
Мне кажется, что Бродский лишь в очень немногих стихах достиг некоторой новой интонации, не обывательской.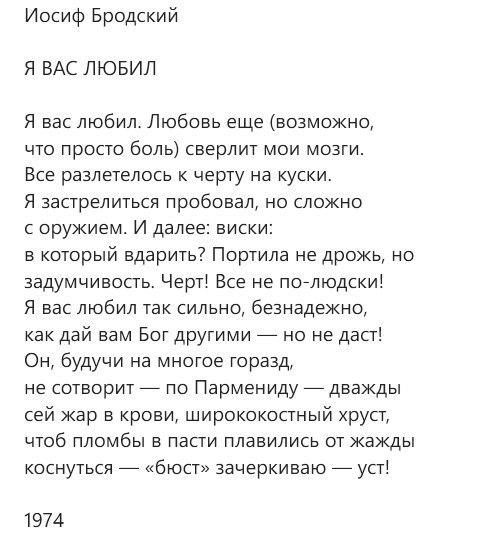 Может быть, именно поэтому эти стихи так нелюбимы обывателем, так мало ему известны. Я говорю о «Пятой годовщине» — стихотворении, где вполне понятная саркастическая злоба переходит в интонацию высокой печали. Это 1977 год, это пять лет после отъезда.
Может быть, именно поэтому эти стихи так нелюбимы обывателем, так мало ему известны. Я говорю о «Пятой годовщине» — стихотворении, где вполне понятная саркастическая злоба переходит в интонацию высокой печали. Это 1977 год, это пять лет после отъезда.
Падучая звезда, тем паче — астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.
Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.
Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.
Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат.
(Абсолютно проходная строка, ничего не значащая.)
Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.
Неугомонный Терек там ищет третий берег.
Там дедушку в упор рассматривает внучек.
И к звёздам до сих пор там запускают жучек
плюс офицеров, чьих не осознать получек.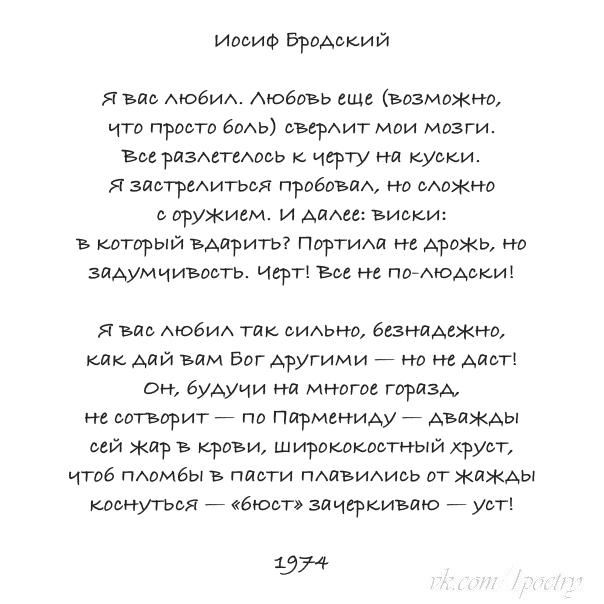
Зимой в пустых садах трубят гипербореи,
и рёбер больше там у пыльной батареи
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее
нащупывает их рукой замёрзшей странник.
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трёхгранник.
(Обратите внимание, какая гениальная строчка. Вот эта имперская мастурбация! Я уж не говорю о том, что «третий берег» — как искать пятый угол. Вы знаете, когда человека бьют, он в комнате ищет пятый угол, мечась по ней. «Неугомонный Терек там ищет третий берег».)
Там при словах «я за» течёт со щёк извёстка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой даёт раза соседним странам войско.
Там пышная сирень бушует в палисаде.
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.
Там в воздухе висят обрывки старых арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.
(Я пропускаю довольно значительную часть. )
)
Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие моё большой дыры в пейзаже
не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.
Её затянут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.
Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,
паясничать. Ну что ж! на всё свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны
казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком.
Здесь очень точная мысль. Россия представлена как некий образ вечности — прекрасной вечности, мрачной вечности, трагической, — представлена как школа небытия. Трагическая школа, после которой обычное небытие не так уж страшно. Россия представлена как великая школа творческого одиночества, после которой американское одиночество эмигранту уже не страшно.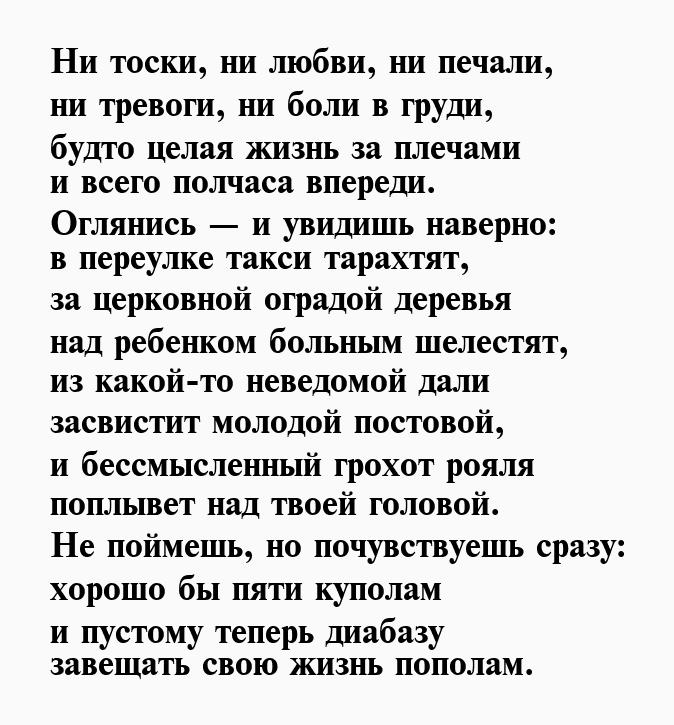
Это гениальные стихи, на мой взгляд. У Бродского много гениальных стихов. И «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» я мог бы назвать, и вся «Часть речи», выдержанная в этой же интонации
Но, к сожалению, у Бродского очень много и того, что легко подхватывается. Сколько юношей тепличных подхватывает за Бродским его интонацию презрения, перечисления, как сказано у Владимира Новикова — «дефиницию вместо метафоры». Да, в этом смысле Бродский чрезвычайно заразителен.
— С чего лучше начинать читать Бродского?
— С «Двадцати сонетов к Марии Стюарт», с «Дебюта». Вот «Дебют» — знаете, я не люблю это стихотворение, оно мне кажется довольно циничным. Но при этом, во-первых, оно очень хорошо сделано; а во-вторых, в нём есть та редкая у Бродского нота насмешливой, горькой, иронической, трезвой, но всё-таки любви. Знаете, оно такое бесконечно грустное.
Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час ещё спала.
Она лежала в ванне, ощущая
всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в неё через ещё одно
отверстие, знакомящее с миром.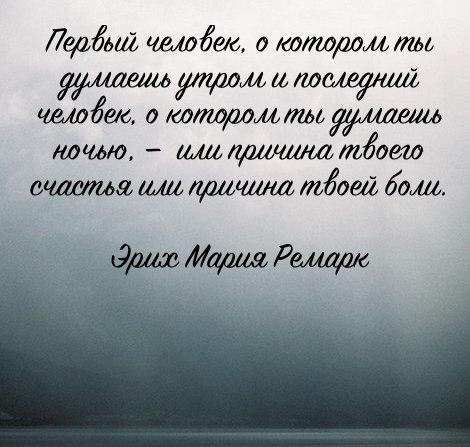
Это очень здорово. По-моему, даже лучше, чем «Похороны Бобо», тоже прекрасное стихотворение.
Чем Бродский соблазнителен и почему он так легко ложится на душу патриотам? Мне, кстати, уже написали: «На самом деле в Бродском есть всё. Можно вытащить из него патриотизм, можно — либерализм». Но, понимаете, есть определённая предрасположенность.
Вот из Пушкина никак не сделаешь ура-патриота, хотя он написал «Клеветникам России». В Пушкине же тоже есть всё. Но сам дискурс Пушкина, сама стилистика Пушкина — это стилистика даже не просто демократическая, а дружественная, в ней нет презрения. Интонацию Пушкина нельзя назвать холодной. Понимаете, как сказал Сергей Довлатов (хотя я уверен почему-то, что выдумал не он): «Смерть — это присоединение к большинству». И эта установка на смерть, на холод, на одиночество, на мертвечину — это капитуляция, это присоединение к большинству. Пушкин в некоторых стихах холоден, но он никогда не презрителен.
Можно ли представить более трагическое стихотворение, чем «Вновь я посетил.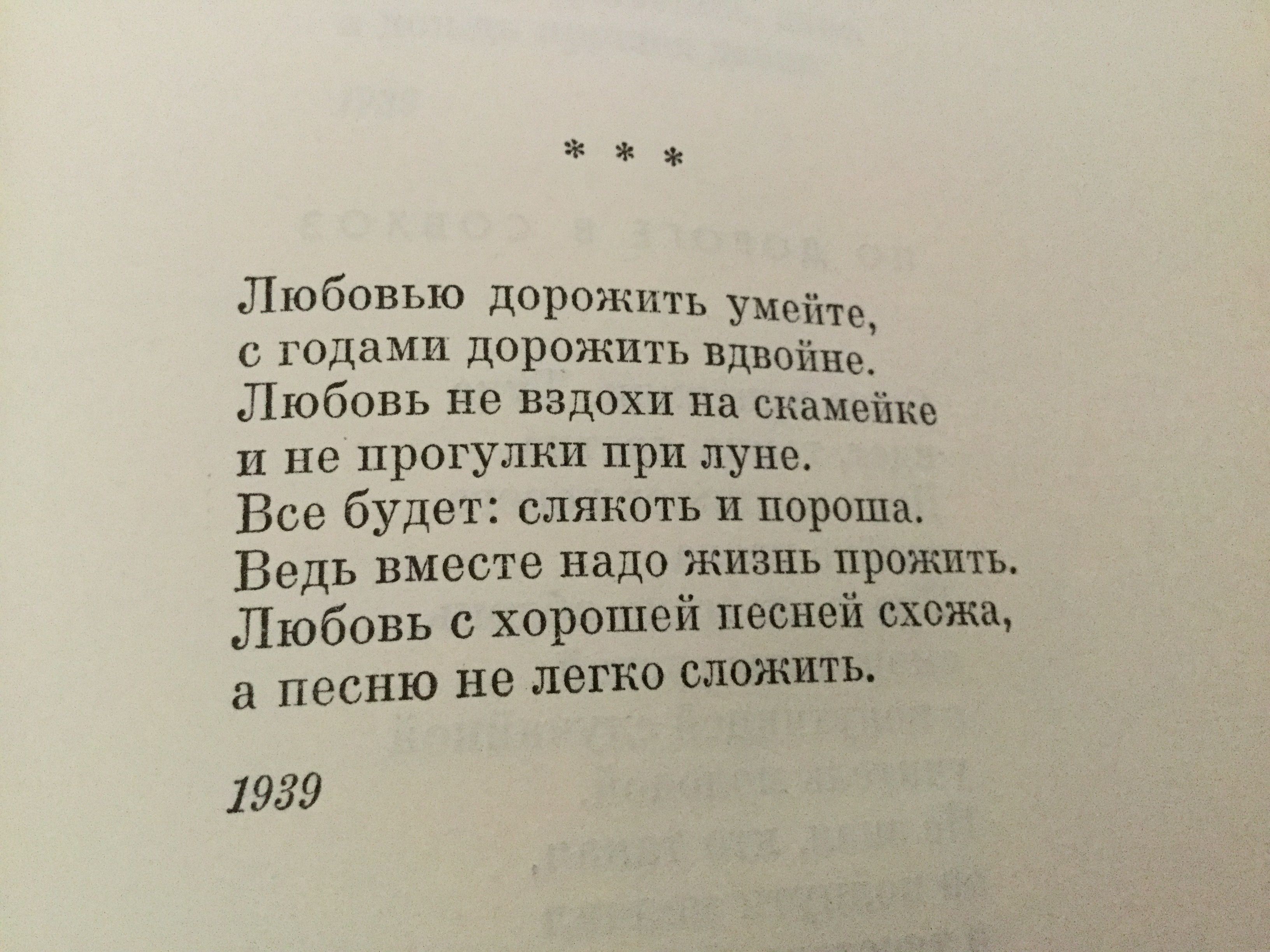 ..»? Вот где прощание с жизнью. Но это прощание — как в замечательном стихотворении Джона Донна, — прощание, запрещающее грусть. Это прощание, запрещающее отчаяние. А Бродский — это именно поэт отчаяния, обиды, одиночества, поэт преодоления жизни. Но жизнь не надо преодолевать, она и так очень уязвима, она очень холодна.
..»? Вот где прощание с жизнью. Но это прощание — как в замечательном стихотворении Джона Донна, — прощание, запрещающее грусть. Это прощание, запрещающее отчаяние. А Бродский — это именно поэт отчаяния, обиды, одиночества, поэт преодоления жизни. Но жизнь не надо преодолевать, она и так очень уязвима, она очень холодна.
Есть разные выходы из ситуации эмиграции. Я не большой фанат позднего Эдуарда Лимонова, но ранний Лимонов написал «Это я — Эдичка» — книгу, которая полна такой боли и такой обнажённой плоти (действительно не просто обнажённой, а плоти с содранной кожей), такой человечности! Это книга, полная самых горячих детских слёз, детской сентиментальности. Вспомните даже рассказ Лимонова «Mother’s Day» («Материнский день») или совершенно замечательную «Обыкновенную драку». Он не побоялся в Америке быть человеком. Он, конечно, всю кожу на этом ободрал, он на этом заледенел, но процесс этого оледенения у него описан с человеческой теплотой, горечью и тоской. И мне кажется, что «тёплый» — это вообще не ругательство применительно к литературе.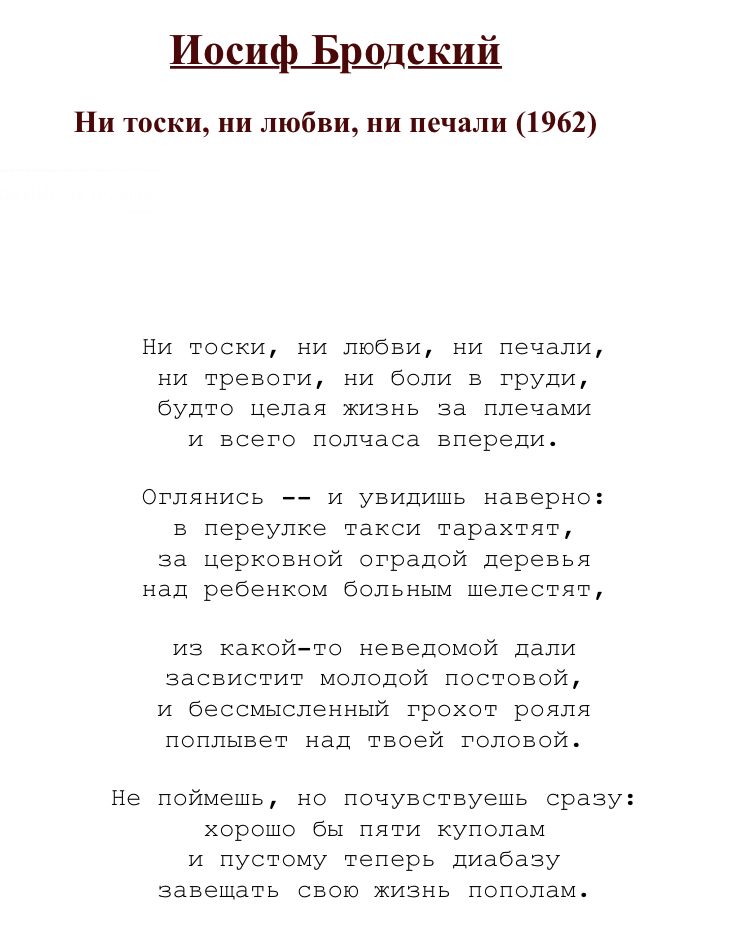
Холод Бродского представляется мне как бы таким температурным слиянием с окружающей средой — это в известном смысле конформизм. И обратите внимание, что популярность Бродского основана именно на том, что чаще всего он говорит вслух о вещах, которые нам приятно соиспытывать, которые нам приятно с ним разделить: это обида, ненависть, мстительность и по отношению к возлюбленной, и часто по отношению к Родине, и к бывшим друзьям; это попытки самоутешения «да, действительно я в одиночестве, но зато я ближе к Богу в этом состоянии». Например:
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю, как клубок,
на себя пустоту её, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.
Бог знает совершенно другие вещи! Понимаете? Наматывать на себя пустоту — это не значит стать Богом.
Тут уже шквал негодования на меня обрушивается:
— В чём глубокие истоки вашей нелюбви к Бродскому?
— Конечно, самое простое — сказать «в зависти». Ну, дурак тот, кто не завидует Нобелевской премии.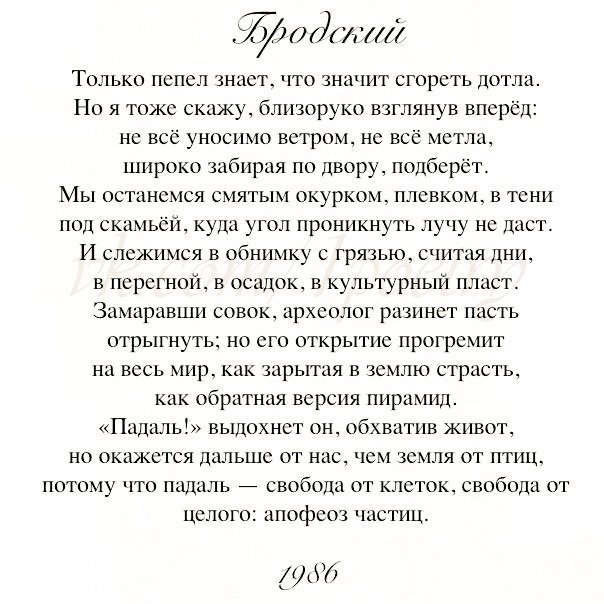 Но дело не в этом.
Но дело не в этом.
Я разделяю примерно всех людей — всех поэтов, всех писателей вообще — на тех, кто повышает ваше самоуважение, и тех, кто его понижает.
Так вот, Бродский — это поэт для повышения читательской самоидентификации, уважения читателя к себе, для повышения самомнения: «Я читаю Бродского, я читаю сложный текст — уже хорошо». Понимаете, это яркая, эффектная формулировка довольно банальных вещей. Вот это меня, собственно, и напрягает.
Если бы в его стихах были такие смысловые открытия, которые есть у Заболоцкого, если бы там были те парадоксы, которые есть у Слуцкого (а Слуцкий был одним из учителей для Бродского, Бродский к нему очень уважительно относился), если бы там были эмоционально новые, не описанные раньше состояния, которые есть у Самойлова… Ну, возьмите такие его стихи, как «Дезертир» (кстати, блестящий разбор Андрея Немзера этого стихотворения), возьмите «Полночь под Иван-Купала». В них Самойлов очень многие несуществующие вещи назвал. То есть не то что несуществующие, а не существовавшие до этого в литературе.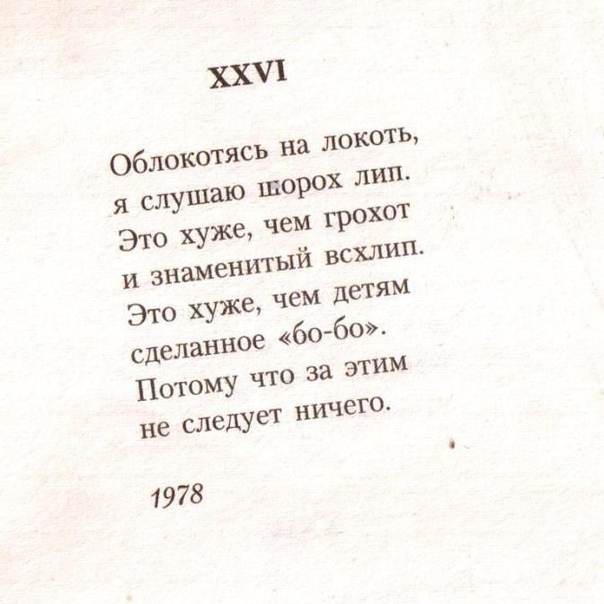 Возьмите его «Сербские песни», возьмите «Беатриче», где о любви, старческой любви, много такого сказано, о чём не принято было говорить.
Возьмите его «Сербские песни», возьмите «Беатриче», где о любви, старческой любви, много такого сказано, о чём не принято было говорить.
Я не могу найти у Бродского называния прежде не на- званных вещей. Я могу найти у него более эффектные, более яркие формулировки давно известных вещей. Как известно, патриоты вообще очень любят банальности, потому что интеллекта патриоты не любят (я говорю о наших специфических патриотах — ненавистниках всего живого), потому что очень трудно управлять человеком небанальным. А вот пышно сформулированные банальности — это главный элемент патриотического дискурса.
Всё это не значит, что у Бродского мало выдающихся стихотворений. У него есть абсолютно выдающиеся стихотворения, в которых формулируются вещи, на мой взгляд, не просто спорные, а противные. Но «На независимость Украины», которое многие называют ироническим стихотворением, пародией (конечно, никакой пародии там нет, всё очень серьёзно, на мой взгляд), — это тот довольно редкий у Бродского случай, когда бедность мысли оборачивается и бедностью формы.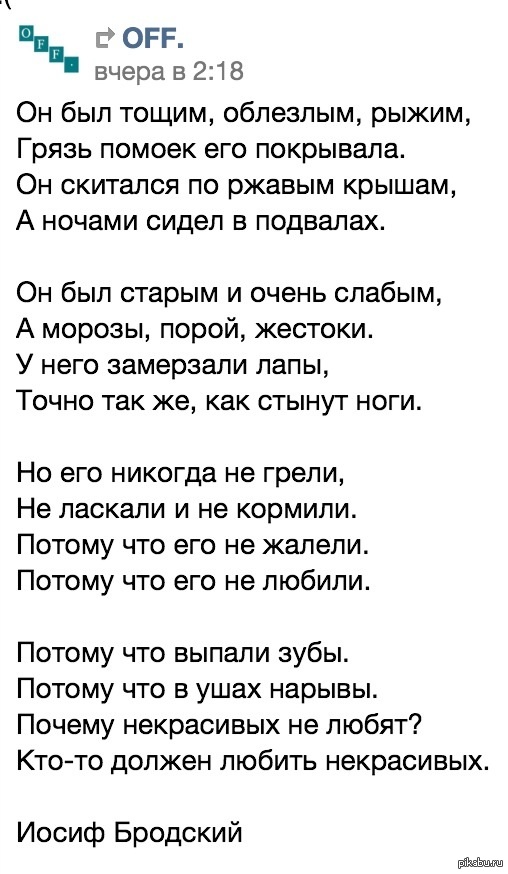 Форма этого стихотворения чрезвычайно тривиальная.
Форма этого стихотворения чрезвычайно тривиальная.
Возьмём, например… Господи, мало ли великих стихов о том же Карле XII. У Станислава Куняева (ужасную вещь сейчас скажу) стихотворение «А всё-таки нация чтит короля» — это великое стихотворение, при том что оно, как вы знаете, памяти Сталина вообще-то. Куняев об этом совершенно не скрывая заявил. Знаете, оно лучше, чем «Памяти Жукова», потому что оно, во-первых, проще, прозрачнее и, во-вторых, оно откровеннее, что ли. Это не значит, что Куняев лучше Бродского. Куняев гораздо хуже Бродского, но стихотворение лучше, чем «На независимость Украины».
А всё-таки нация чтит короля —
безумца, распутника, авантюриста,
за то, что во имя бесцельного риска
он вышел к Полтаве, тщеславьем горя.
За то, что он жизнь понимал, как игру,
за то, что он уровень жизни понизил,
за то, что он уровень славы повысил,
как равный, бросая перчатку Петру.
А всё-таки нация чтит короля
за то, что оставил страну разорённой,
за то, что, рискуя фамильной короной,
привёл гренадеров в чужие поля.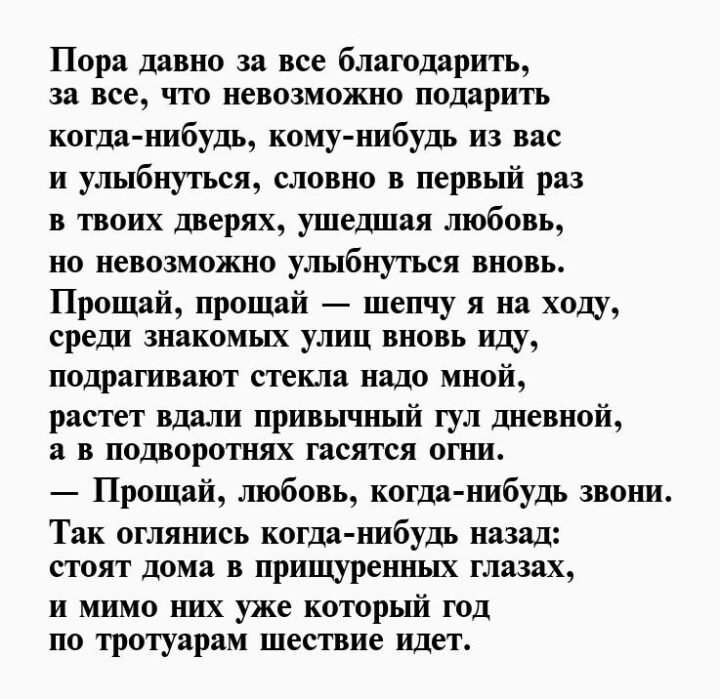
За то, что цвет нации он положил,
за то, что был в Швеции первою шпагой,
за то, что, весь мир удивляя отвагой,
погиб легкомысленно, так же, как жил.
За то, что для родины он ничего
не сделал, а может быть, и не старался.
За то, что на родине после него
два века никто на войну не собрался.
И уровень славы упал до нуля,
и уровень жизни взлетел до предела…
Разумные люди. У каждого — дело.
И всё-таки нация чтит короля!
Понимаете, это, может быть, и безнравственные стихи (хотя поэзия выше нравственности, как сказано у Пушкина), может быть, это не очень совершенные стихи, но в них нет самолюбования, в них нет желания абсолютной правоты, и мертвечины в них нет. Они не мёртвые, они — живые. Я ещё раз скажу: лучше плохие живые стихи, чем совершенные мёртвые.
Тут меня спрашивают, как я отношусь к книге Карабчиевского, на которую я сослался. В книге Карабчиевского есть один удивительный парадокс. Например, он говорит, что Бродского невозможно запомнить наизусть.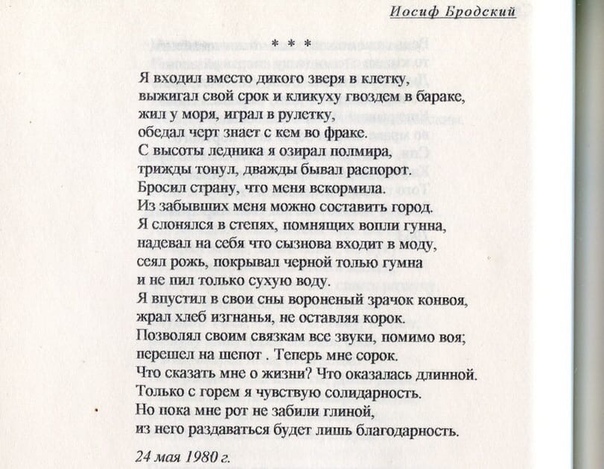 Как невозможно? Запоминаются с первого прочтения! Подите забудьте «Письма римскому другу». Это забыть гораздо труднее, чем запомнить.
Как невозможно? Запоминаются с первого прочтения! Подите забудьте «Письма римскому другу». Это забыть гораздо труднее, чем запомнить.
Но проблема-то есть. Проблема в том, что эти стихи, становясь частью вашей речи, входя в вашу речь, ничего не добавляют ни к вашему уму, ни к вашему сердцу, они не делают вас другим. Они дают лучший вид, лучший лоск, лучшую формулировку вам, а иногда — и самому отвратительному в вас. Наверное, я тоже говорю какие-то вещи очень уязвимые, они многим покажутся глупостью. Это естественно, потому что быть уязвимым — это одна из примет живого, а я всё-таки надеюсь оставаться живым.
Бродский именно потому так нравится двум категориям людей: блатным (у Юрия Милославского это хорошо обосновано в его «Из отрывков о Бродском»), и очень нравится — сейчас, во всяком случае — ура-патриотам. Нравится именно потому, что человечное для них подозрительно, а бесчеловечное им кажется лучше, выше. А мне кажется, что человека и так мало. Зачем же ещё уменьшать его количество?
БУНТ ЗА ЛЮБОВЬ, ИЛИ М.
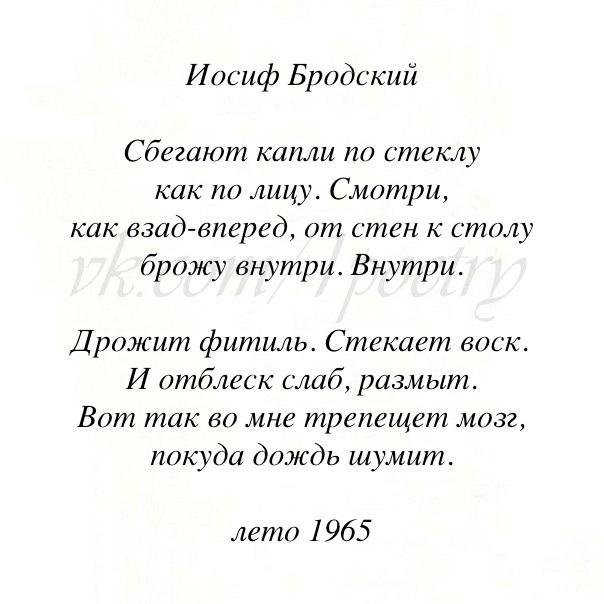 Б. Бродский: Русский поэт
Б. Бродский: Русский поэтБУНТ ЗА ЛЮБОВЬ, ИЛИ М. Б
С Мариной Басмановой Бродский познакомился 2 января 1962 года в гостях у композитора Бориса Тищенко. Первые стихи, посвященные любимой, написаны 2 февраля того же года — «Я обнял эти плечи и взглянул…». Дальше уже шло по нарастающей — и в жизни, и в чувствах, и в поэзии.
Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собою наподобье створок.
Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья?
Роман о их жизни, любви и разлуках, я думаю, еще будет написан. Но, мне кажется, и филологи, и историки литературы, и даже записные моралисты зря проходят мимо этой стержневой линии в жизни поэта. Многое, если не всё, в ней определялось именно этой безумной любовью. По касательной были и тюремные камеры, и пересылки, и шумные скандалы — гораздо важнее разлука с милой или же редкие моменты счастья с ней.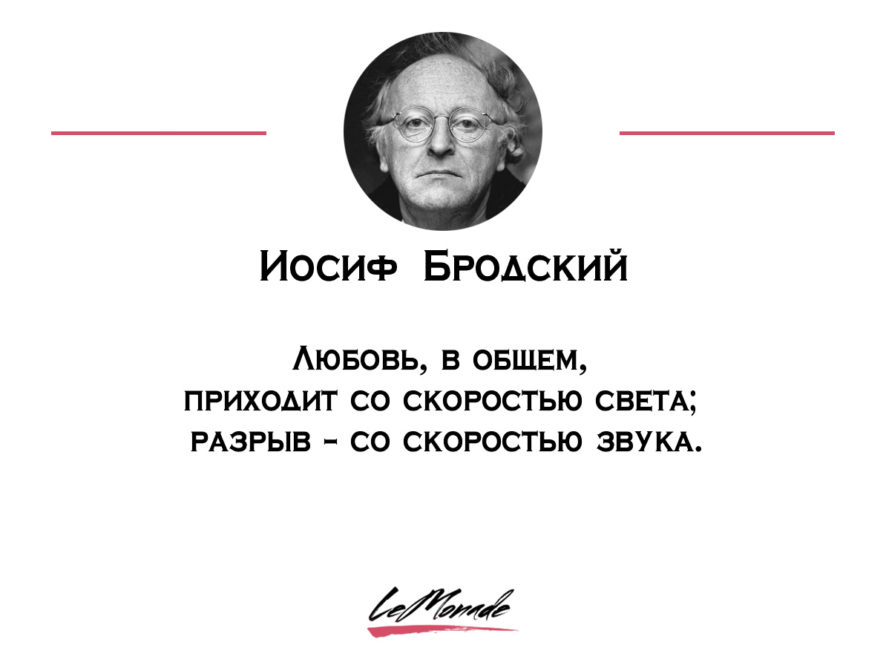 Мне хотелось бы написать статью исключительно о стихах, посвященных Марине Басмановой, ленинградской художнице, и впрямь околдовавшей во имя русской поэзии рыжего кочевника. О стихах, написанных в архангельской ссылке, поговорим позже. Там, в деревенской глуши, было всё — и высшие проявления страсти, счастья, и горькие, драматичные расставания.
Мне хотелось бы написать статью исключительно о стихах, посвященных Марине Басмановой, ленинградской художнице, и впрямь околдовавшей во имя русской поэзии рыжего кочевника. О стихах, написанных в архангельской ссылке, поговорим позже. Там, в деревенской глуши, было всё — и высшие проявления страсти, счастья, и горькие, драматичные расставания.
Но как-то глуховато, свысока,
тебя, ты слышишь, каждая строка
благодарит за то, что не погибла,
за то, что сны, обстав тебя стеной,
теперь бушуют за моей спиной
и поглощают конницу Египта.
Настал 1972 год, перед отъездом из России поэт последний раз встречается со своей любимой, и уже навсегда, казалось бы — всё кончено. Здравствуй, новая жизнь! Поэт переменил империю, живет на другом берегу океана, иные друзья, иные женщины. Но вновь и вновь, вплоть до 1989 года, мы находим у него лирические стихи, посвященные Марине. В целом — более тридцати посвящений, а сколько стихов и без посвящений пронизаны темой его любви! Иные его ревнивые друзья полагают, что эти посвящения случайны и необязательны, посвящены одной, а говорят о другой; что посвящения Басмановой — это пустой повод и т.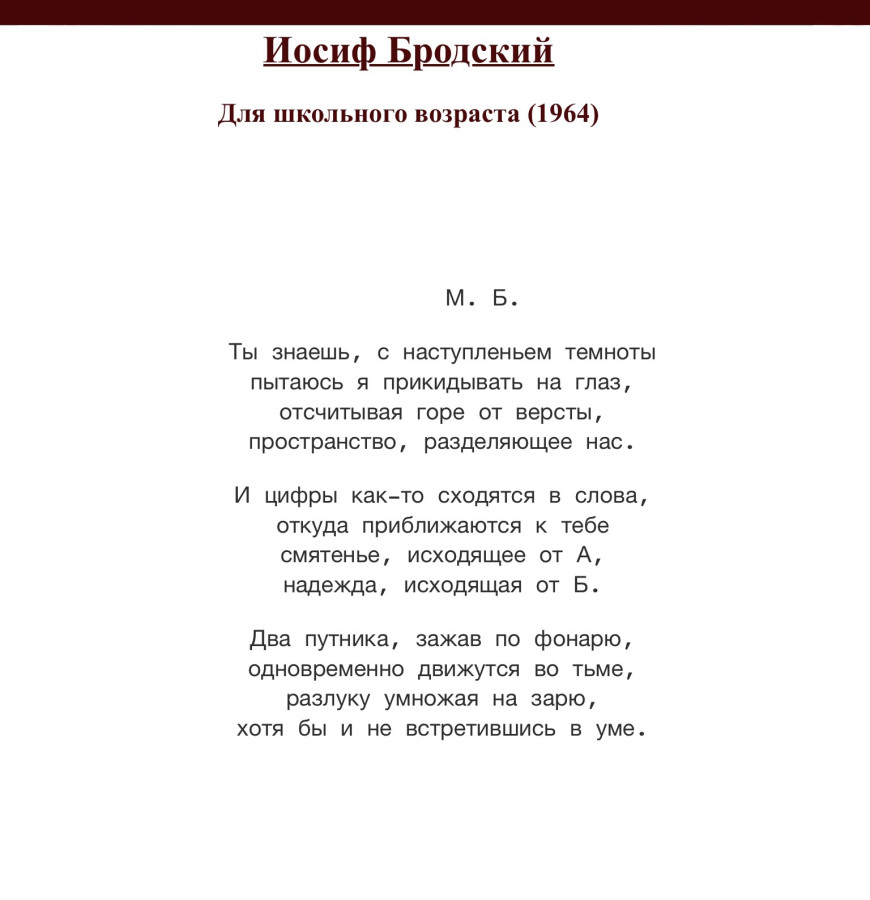 д. Полноте, ревнивцы! Вчитайтесь в тексты. Все та же конкретная почва предметной, осязаемой любви. И те же бухгалтерские перечисления предметов, коллекция необязательных впечатлений, так раздражающих и Наума Коржавина, и Эдуарда Лимонова, и даже Анатолия Наймана, как по волшебству преображаются, когда они подчинены всепоглощающей любви: детали обретают чувственность, предметы оживают, как в сказке Гофмана, холод нагроможденных строк преображается в пламень любовных признаний.
д. Полноте, ревнивцы! Вчитайтесь в тексты. Все та же конкретная почва предметной, осязаемой любви. И те же бухгалтерские перечисления предметов, коллекция необязательных впечатлений, так раздражающих и Наума Коржавина, и Эдуарда Лимонова, и даже Анатолия Наймана, как по волшебству преображаются, когда они подчинены всепоглощающей любви: детали обретают чувственность, предметы оживают, как в сказке Гофмана, холод нагроможденных строк преображается в пламень любовных признаний.
Вот, к примеру, уже идет 1982 год, минуло десять лет американской жизни. Поэт сидит у камина, весело горит огонь, и вдруг происходят волшебные превращения, пламя каминного огня колдовским образом преобразуется в страстное пламя любви — и небесной, платонически возвышенной, ностальгически отдаленной, и сугубо земной, откровенно сексуальной, беспредельно чувственной — одновременно:
Зимний вечер. Дрова,
Охваченные огнем, —
Как женская голова
Ветреным ясным днем.
<…>
пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя еще одной
зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
Твою
завивку. В конце концов —
раскаленность щипцов!
Ау, ревнивые «ахматовские сироты», вычеркивающие из памяти литературы все упоминания об этой большой любви — разве не конкретно Марине Басмановой адресованы все эти стихи? Пожалуй, один Евгений Рейн ведет себя порядочно и честно, не передергивая живую историю литературы. Все остальные питерские стихотворные неудачники, заслоненные в русской культуре яркой фигурой Бродского, снедаемые завистью к его Нобелевской премии, в своих нынешних мемуарах заполняют пространство вокруг него самими собой, присасываются к его памяти как пиявки. Они-то и создают переделанный, скукоженный по своему лилипутскому размеру облик поэта Бродского, якобы далекого и от России, и от ее истории, мученика и страдальца от российского государства. А Иосифа Бродского мучили совсем не допросы или отрицательные отзывы из советских литературных журналов (хотя, естественно, радости от них было мало), а вот это:
Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя — зола,
тусклые уголья…
С прямо-таки цветаевской неистовостью Иосиф Бродский загоняет в свои строфы никак не затихающую и не затухающую страсть.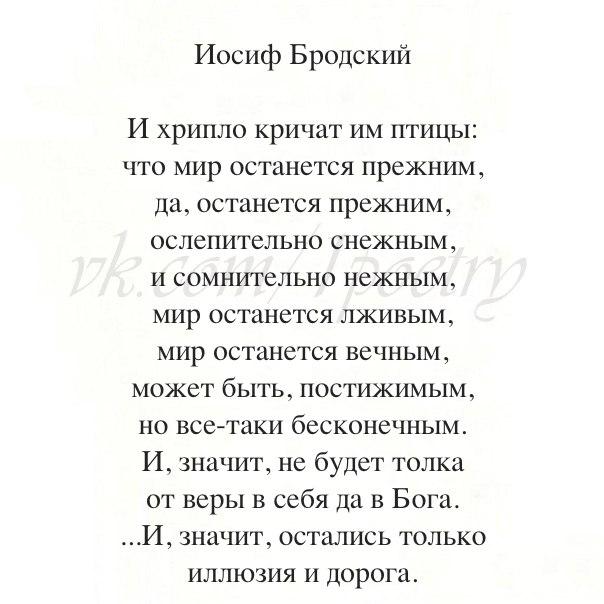 Боюсь, что и отказ от возвращения в Петербург, отказ даже от краткого приезда на родину отнюдь не связан ни с политикой властей, ни с отношением к самому любимому городу. Сгоревший дотла не хотел вновь приближаться кучкой пепла к огню былой любви, не имея ни малейшей надежды. Он боялся приехать в места, где был хоть изредка счастлив и любим. И еще он не хотел приезжать в город, где уже не было его родителей, где им было в последние годы жизни плохо и одиноко. Вот те две причины, которые отчетливо вижу я. И неправ был Александр Солженицын, когда писал: «А в годы, когда все пути были открыты и ленинградские почитатели ждали его: „Зачем возвращаться в Россию, если я могу вернуться в Анн-Арбор?“ Как мы знаем, Бродский не возвратился даже и на побывку, и тем отчетливо выразился». Нет, не вижу я в этом упорном нежелании приезда в Петербург отношения к России. Впрочем, со временем, думаю, и приехал бы поэт, но тут уже ранняя смерть не дала. Александр Солженицын тоже ведь поначалу не спешил возвращаться — уже все его эмигрантские друзья и враги, от Войновича до Максимова, побывали на родине, уже вернулись и Кублановский, и Лимонов, и Мамлеев, прежде чем писатель двинулся в путь.
Боюсь, что и отказ от возвращения в Петербург, отказ даже от краткого приезда на родину отнюдь не связан ни с политикой властей, ни с отношением к самому любимому городу. Сгоревший дотла не хотел вновь приближаться кучкой пепла к огню былой любви, не имея ни малейшей надежды. Он боялся приехать в места, где был хоть изредка счастлив и любим. И еще он не хотел приезжать в город, где уже не было его родителей, где им было в последние годы жизни плохо и одиноко. Вот те две причины, которые отчетливо вижу я. И неправ был Александр Солженицын, когда писал: «А в годы, когда все пути были открыты и ленинградские почитатели ждали его: „Зачем возвращаться в Россию, если я могу вернуться в Анн-Арбор?“ Как мы знаем, Бродский не возвратился даже и на побывку, и тем отчетливо выразился». Нет, не вижу я в этом упорном нежелании приезда в Петербург отношения к России. Впрочем, со временем, думаю, и приехал бы поэт, но тут уже ранняя смерть не дала. Александр Солженицын тоже ведь поначалу не спешил возвращаться — уже все его эмигрантские друзья и враги, от Войновича до Максимова, побывали на родине, уже вернулись и Кублановский, и Лимонов, и Мамлеев, прежде чем писатель двинулся в путь. Уверен, дозрел бы до приезда или переезда и Бродский, только по другим мотивам, чем Солженицын, хотя бы для восполнения русской языковой памяти, которой ему стало не хватать в последние годы.
Уверен, дозрел бы до приезда или переезда и Бродский, только по другим мотивам, чем Солженицын, хотя бы для восполнения русской языковой памяти, которой ему стало не хватать в последние годы.
И уже защищенный от незаживающей раны любви своей новой семьей: итальянкой с русскими корнями Марией и маленькой дочуркой Анной. (Кстати, и жена Мария, и дочь Анна тоже как-то выходят из круга бродсковедения, их почти нет в многочисленных воспоминаниях «ахматовских сирот». Не слышно, по крайней мере в России, и их самих.) А ведь, думаю я, окончательное решение о месте захоронения принимала Мария, и не было ли в нем кроме преклонения поэта перед Венецией еще и чисто женского нежелания отдать, вернуть сгоревший прах поэта в город его возлюбленной? Отдать его на захоронение в Питер — значило бы положить своего мужа рядом со все еще имеющей над ним некую мистическую власть соперницей, согласиться с его же стихами уже 1989 года:
Я рад бы лечь радом с тобою, но это — роскошь.
Если я лягу, то — с дерном заподлицо.
И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках
и сварит всмятку себе яйцо.
Будто вспомнил деревенскую избушку в деревне Норенской, где прожил 18 счастливых месяцев в ссылке, где встречал и провожал свою Марину.
Но с дерном заподлицо не получилось, осталось найти «укрывище» среди изгнанников на венецианском кладбище Сан-Микеле, да и там строгие ревнители всех религий не дали ему места ни на еврейском кладбище, ни на католическом, лишь за чертой, на более доступном протестантском участке, там, где хоронят самоубийц и актеров, грешников с поломанной судьбой.
Нам же остается только поражаться деталировке его любовных стихов, посвященных Марине Басмановой: ничего абстрактного, никаких туманных Лаур или блоковских незнакомок, одна конкретная деталь дополняет или развивает, уточняет другую, один предмет заменяется другим. Если на то пошло — это опись чувственного фетишизма. И, может быть, прав Эдуард Лимонов: эта «бухгалтерская опись» была бы скучна и затянута, если бы не та живая страсть, с которой поэтом фетишизируются все эти предметы поклонения.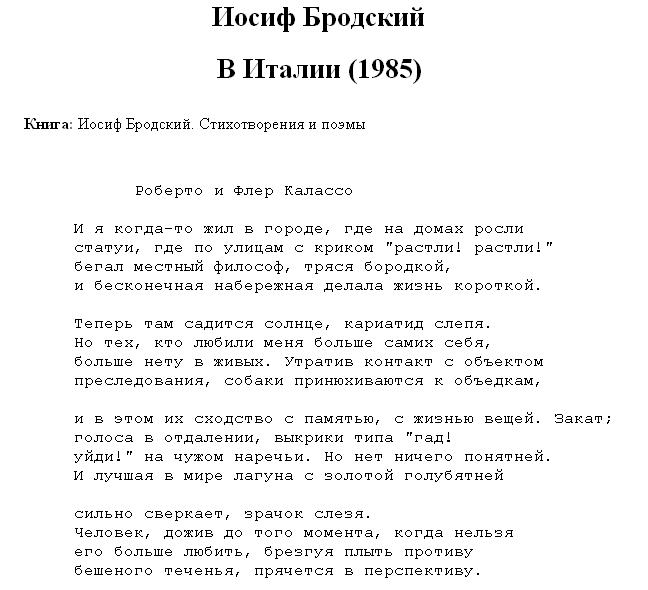 Иосиф Бродский уже забывает все свое раннее русское прошлое, уходит в мир английской культуры, уже не находит иной раз удачного синонима на родном языке, русский словарный запас явно оскудевает или дополняется мусорным эмигрантским суржиком; он пристрастился, как многие эмигранты, к русским словарям, к Далю и Ушакову, но мир его любви все так же заселен конкретикой пусть уже и полусгоревшей страсти.
Иосиф Бродский уже забывает все свое раннее русское прошлое, уходит в мир английской культуры, уже не находит иной раз удачного синонима на родном языке, русский словарный запас явно оскудевает или дополняется мусорным эмигрантским суржиком; он пристрастился, как многие эмигранты, к русским словарям, к Далю и Ушакову, но мир его любви все так же заселен конкретикой пусть уже и полусгоревшей страсти.
Первые стихи из басмановского цикла — 1962 год, последние — 1989 год. А вскоре, 1 сентября 1990 года женитьба в Швеции на доброй и верной Марии Соццани, а 9 июня 1993 года родилась маленькая Анна Мария Александра, и уже нет стихов о былой любви. Может быть, они по-прежнему пишутся, но уже шифруются, а из уважения к молодой супруге и маленькой дочурке публикуются без посвящений? Эта страстная любовь изменила всю жизнь поэта; может быть, он и уехал из Питера (не так уж насильно его и гнали, отказывались же иные от навязываемых КГБ израильских виз — и ничего, творили дальше), прежде всего желая оказаться подальше от колдовского омута любви, надеясь в американской глухомани излечиться от него, но омут памяти остался до конца его дней, рождая всё новые волшебные строки:
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.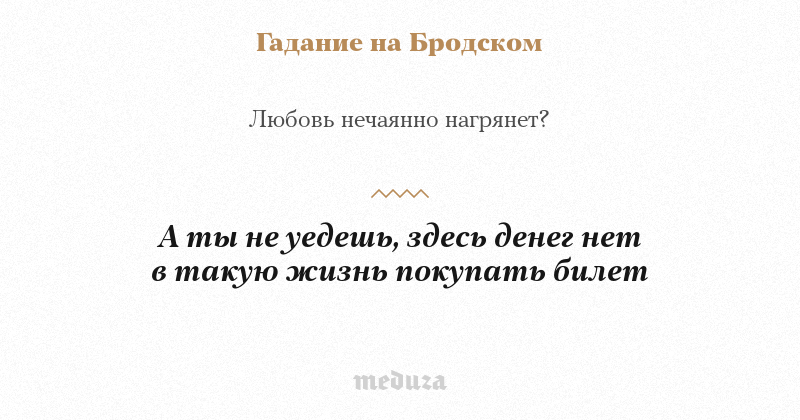
Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.
Может быть, двадцать семь или более лет трагической любви Иосифа Бродского и испортили его характер, его судьбу больше, чем все судебные и ссыльные перипетии, может быть, они и создали впечатление затянувшейся жизни больше, чем все инфаркты и операции на сердце, но этот долгий любовный роман явно способствовал созданию многих поэтических шедевров. А начиналось всё когда-то в веселые молодые годы, когда поэт был уверен и в себе, и в своих чувствах, и в будущем счастье, и в праве на пророчества:
Да, сердце рвется все сильней к тебе,
и оттого — оно все дальше.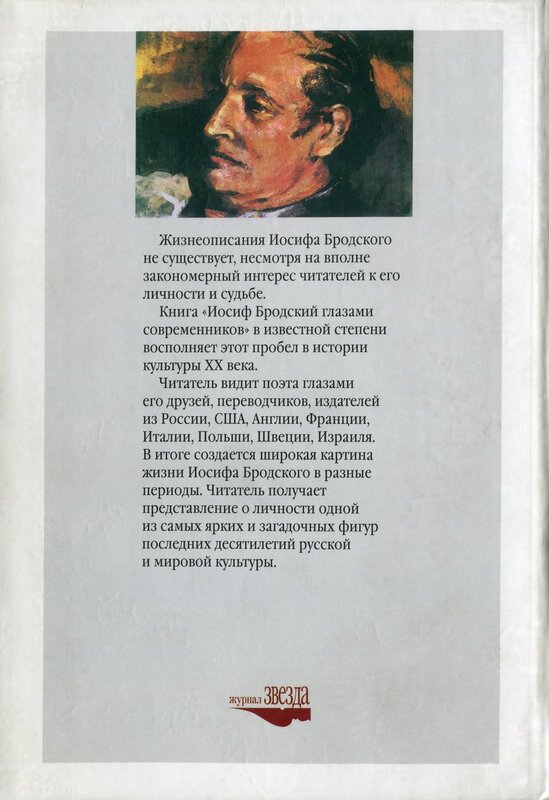
И в голосе моем все больше фальши,
но ты ее сочти за долг судьбе,
за долг судьбе, не требующей крови
и жалящей иглой тупой.
А если ты улыбку ждешь — постой!
Я улыбнусь. Улыбка над собой
могильной долговечней кровли
и легче дыма над печной трубой.
Иосиф Бродский не был большим любителем составлять свои книжки. Максимум — это было редактирование и вычеркивание из присланной издателем рукописи его стихов тех, что казались ему слабыми и ненужными. «Книжку куда интереснее читать, чем составлять», — считал поэт. «Было время, когда я думал, что уж не составлю в своей жизни ни одной книжки… Просто не доживу. Поскольку, чем старше становишься — тем труднее этим заниматься. Но один сборничек я все же составил… Это сборник стихов за двадцать лет с одним, более или менее, адресатом. И до известной степени это главное дело моей жизни. Когда я об этом думал, то решил так: даже самые лучшие руки этого касаться не должны, так что лучше уж это сделаю я сам…» Вот и читайте, истинные любители русской поэзии, этот сборник «Новые стансы к Августе», к которому нет претензий ни у Александра Солженицына, ни у Наума Коржавина, двух самых яростных и доказательных ниспровергателей таланта Бродского.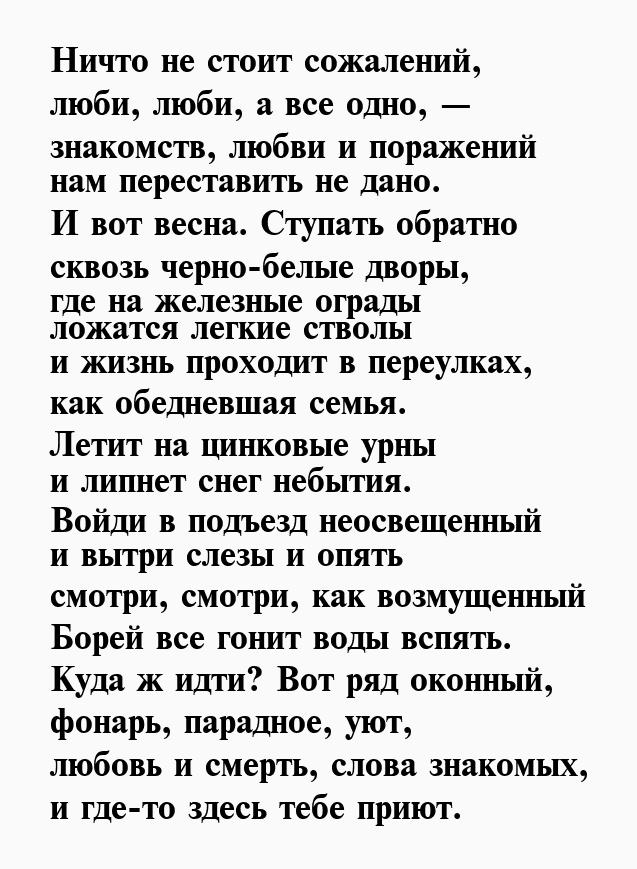
Солженицын пишет: «Отдельно заметно выделяется лишь рассеянный по годам цикл стихов, посвященных М. Б. В исключение ото всего остального корпуса стихов Бродского в этом цикле… проявляется несомненная устойчивая привязанность… Тоска по этой женщине прорезала поэта на много, много лет. Тут — прекрасные (и уже не длинные и уже отчетливее написанные, без синтаксических увязаний) стихи…» Или спустя страницы вновь: «Однако во всех возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна. Немало таких среди стихов, обращенных к М. Б….»
Так ведь, Александр Исаевич, поэт же сам признается, что «это главное дело моей жизни». Вот и судите его за главное дело. Дай бог любому поэту хоть строкой войти в мировую поэзию, а здесь — целый немаленький цикл стихов…
У раздраженного и требовательного Наума Коржавина, не принимающего у Бродского «стиль опережающей гениальности», к циклу стихов, посвященных Марине Басмановой, тоже нет никаких претензий, скорее — наоборот: «Стихотворение это было „Ты забыла деревню, затерянную в болотах…“ — к моему удивлению, оказалось очень хорошим… Я впервые осознал, что он не только не бездарен, но очень талантлив… Стихотворение обладало всеми особенностями Бродского, с той лишь разницей, что они были на месте и к месту.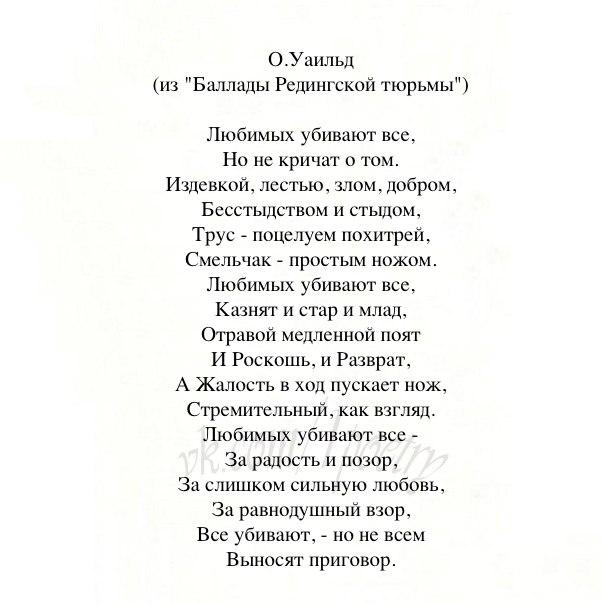 Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, „зверские“, — все было задано импульсом, то есть замыслом…
Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, „зверские“, — все было задано импульсом, то есть замыслом…
…А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили…
…Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг любовной боли, а говорится о деревне. Но при этом их ни по теме, ни по сути не отнесешь к „гражданской лирике“ — это просто лирика, притом любовная… Мы приобщаемся к внутреннему миру человека, способного чувствовать жизнь и людей, а это внутреннее богатство — одно из условий эстетического наслаждения. И приобщаемся в момент обострения всех его чувств, вобравших в себя весь этот мир вместе с этой деревней… „Пустое место, где мы любили“ — полость, которая щемит, напоминает о любви, о том высоком, что редко воплощается в жизни, но все равно в нас живет, существует…»
В момент обострения любви, в момент накала чувств поэта — ему становится всё — родным и близким, понятным и дорогим: даже чучела на огородах, которых нет, даже деревня, затерянная в болотах. Через свою любовь он приобщается ко всей жизни, к той самой народной жизни, о которой мы нынче не любим говорить. И начиналось это всё с того же изумительного, любовного «Пророчества», посвященного Марине Басмановой, пророчества, полного надежд на самое счастливое будущее. О какой мучительной ссылке можно говорить читателю или исследователю его стихов, погруженному в чуть ли не былинные, фольклорные строки:
Через свою любовь он приобщается ко всей жизни, к той самой народной жизни, о которой мы нынче не любим говорить. И начиналось это всё с того же изумительного, любовного «Пророчества», посвященного Марине Басмановой, пророчества, полного надежд на самое счастливое будущее. О какой мучительной ссылке можно говорить читателю или исследователю его стихов, погруженному в чуть ли не былинные, фольклорные строки:
Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента, в небольшом кругу,
сооруженном самодельной лампой.
Мы будем в карты воевать с тобой
и слушать, как безумствует прибой,
покашливать, вздыхая неприметно,
при слишком сильных дуновеньях ветра.
Я буду стар, а ты — ты молода…
Пусть сейчас все мемуаристы стараются как-то принизить значимость Марины Басмановой в жизни поэта. Она стала той судьбой, от которой его окончательно смогла отделить только смерть. Но пророчество поэта о счастливой сказочной жизни до старости с любимой женщиной (как пишут в сказках: и умерли в один день…), увы, не сбылось.
Лишь часть, хотя и немалая, этого северного поморского пророчества состоялась, лишь в одном подчинилась ему судьба (или любимая женщина, что часто означает одно и то же):
Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной.
Чтоб к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит…
Рожденный Мариной Басмановой в октябре 1967 года от Бродского сын был назван ею Андреем. Лишь в этом она пошла навстречу пророчеству своего отвергнутого возлюбленного. Сколько ни вчитываюсь во все версии любовных перипетий, в историю ее измены с бывшим другом Бродского Дмитрием Бобышевым, не понимаю истинной причины разрыва. Впрочем, это всегда тайна двоих и никого более. Тем более историю с Бобышевым поэт своей любимой полностью простил (естественно, порвав все отношения с самим Бобышевым). Лучшие дни их с Мариной любви остались в северной поморской ссылке. А дальше лишь нарастало чувство обреченности и катастрофичности в творчестве Бродского, так и не сумевшего отделить себя от своей любимой.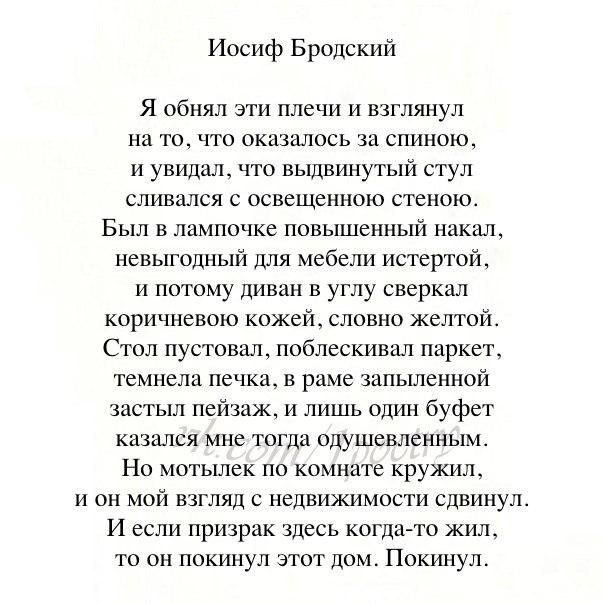 Банальная, но вечная история любви. Его старая знакомая Людмила Штерн вспоминает: «Мне кажется, что, несмотря на состоявшееся примирение и попытки наладить общую жизнь, несмотря на приезд Марины в Норенскую и рождение сына Андрея, этот союз был обречен… Для Марины Иосиф был труден, чересчур интенсивен и невротичен, и его „вольтаж“ был ей просто не по силам… Постоянной напряженности между ними способствовало также крайне отрицательное отношение родителей с обеих сторон. Иосиф не раз жаловался, что Маринины родители его терпеть не могут и на порог не пускают. Он называл их „потомственными антисемитами“…» Впрочем, повторюсь, каждый выбирает свою судьбу сам, но предопределяется это свыше.
Банальная, но вечная история любви. Его старая знакомая Людмила Штерн вспоминает: «Мне кажется, что, несмотря на состоявшееся примирение и попытки наладить общую жизнь, несмотря на приезд Марины в Норенскую и рождение сына Андрея, этот союз был обречен… Для Марины Иосиф был труден, чересчур интенсивен и невротичен, и его „вольтаж“ был ей просто не по силам… Постоянной напряженности между ними способствовало также крайне отрицательное отношение родителей с обеих сторон. Иосиф не раз жаловался, что Маринины родители его терпеть не могут и на порог не пускают. Он называл их „потомственными антисемитами“…» Впрочем, повторюсь, каждый выбирает свою судьбу сам, но предопределяется это свыше.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесо чём это на самом деле
Лекманов: Я хотел бы несколько рискованных слов прибавить к тому, что сейчас Лена сказала. Наверное, буду проклят всеми любителями Бродского, ну и ладно, пускай. Мне кажется, что относительно всего этого «пасть разевая», «милка», которая всё-таки попала в одну из публикаций, — дело не только в идиомах. Это то, что я больше всего как раз у Бродского не люблю… Я скажу, наверное, чудовищную вещь: не была ли это попытка мальчика из центра заговорить на языке улицы, который, конечно, для него совсем чужим не был, но и родным, по-моему, тоже не стал? У Бродского довольно часто это встречается, все эти «вчерась» в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» и тому подобное. Это вкусовое, конечно. Возможно, это была такая почти всегда не очень удачная (ненаучно выражаясь) попытка Бродского освоить блатную феню. Я именно за это, в отличие от Лены, не очень люблю поэму «Представление». Потому что там это достигает у Бродского края, предела.
Наверное, буду проклят всеми любителями Бродского, ну и ладно, пускай. Мне кажется, что относительно всего этого «пасть разевая», «милка», которая всё-таки попала в одну из публикаций, — дело не только в идиомах. Это то, что я больше всего как раз у Бродского не люблю… Я скажу, наверное, чудовищную вещь: не была ли это попытка мальчика из центра заговорить на языке улицы, который, конечно, для него совсем чужим не был, но и родным, по-моему, тоже не стал? У Бродского довольно часто это встречается, все эти «вчерась» в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» и тому подобное. Это вкусовое, конечно. Возможно, это была такая почти всегда не очень удачная (ненаучно выражаясь) попытка Бродского освоить блатную феню. Я именно за это, в отличие от Лены, не очень люблю поэму «Представление». Потому что там это достигает у Бродского края, предела.
Фанайлова: Я выражала не любовь свою к этой поэме, она не относится к числу моих любимых. Я о приёме.
Лекманов: Уже после Бродского одним из главных своих приёмов это сделал Борис Рыжий, который тоже был вполне себе интеллигентным мальчиком, а в стихах изображал блатного пацана с Вторчермета.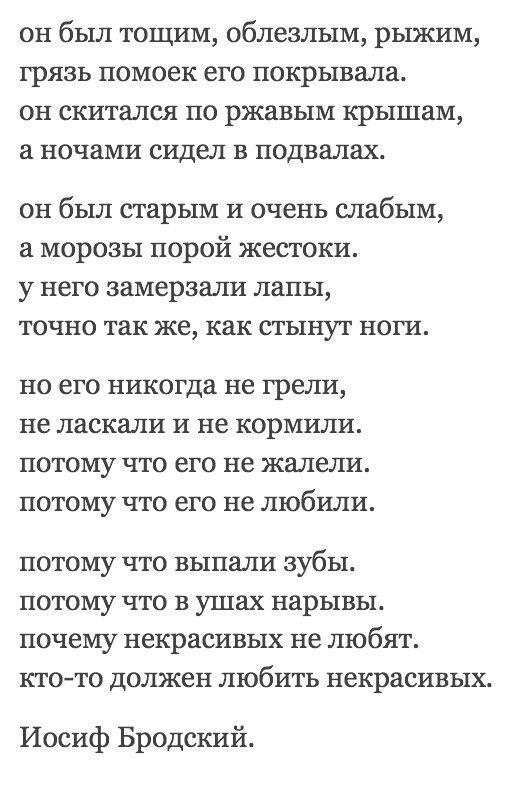
Кузнецов: Понятно, что Бродский был «интеллигентным мальчиком», но давайте всё-таки не будем забывать, что он в 15 лет пошёл на завод работать и в отличие, я думаю, от всех присутствующих имел довольно большой опыт работы с живым рабочим классом. Я могу вспомнить много таких примеров, мне кажется, Селин — близкий ему автор в этом смысле. Когда из Бродского начинала лезть социально окрашенная мизантропия, он начинал говорить именно этим языком. В этом смысле «Представление» — ещё куда ни шло, а «Лесная идиллия», примерно в этом же жанре исполненная, — совсем яркий пример. Я помню, когда я впервые познакомился в машинописи с «Лесной идиллией», мой однокурсник посмотрел на это и сказал: «Очень не хотелось бы сесть за чтение плохо написанных антисоветских стихов». В смысле за то, что мы обычно читаем, включая остального Бродского, — нормально, а вот за это не хотелось бы.
То есть это сознательный способ не просто поматериться, как это делает интеллигентный мальчик, не просто расширения языка (чего у Бродского всегда было очень много), а это формат «давайте я на понятном вам языке скажу, как я вас ненавижу, презираю и за какое говно я вас держу». В этом смысле, даже если убрать из этих строчек «милку», они, конечно, очень неприятные, в них, как и в «Представлении», и в «Лесной идиллии», в целом довольно зашкаливающая степень презрения к людям. Ну это было у Бродского, чего уж там.
В этом смысле, даже если убрать из этих строчек «милку», они, конечно, очень неприятные, в них, как и в «Представлении», и в «Лесной идиллии», в целом довольно зашкаливающая степень презрения к людям. Ну это было у Бродского, чего уж там.
Василий Рогов: «Не выходи из комнаты», по крайней мере отдельными своими идиоматическими кусками, сейчас действительно живёт в интернете. Я думаю, что у Бродского есть несколько разных граней, которые делают его настолько популярным в последнее десятилетие. И одна из них — игры, жонглирование стилями, разные обращения к обсценной тематике и остроумные способы о ней говорить. В этом есть очень правильный градус эпатажности — правильный в маркетинговом смысле. Тут, мне кажется, есть какая-то притягательность для широкого читателя. Мне кажется, сейчас это стихотворение читается совсем иначе, ушёл контекст социального конфликта, интересен скорее конфликт поэтический.
В самом начале Эдуард Львович Безносов привёл противопоставление центробежной и центростремительной структуры стихотворения.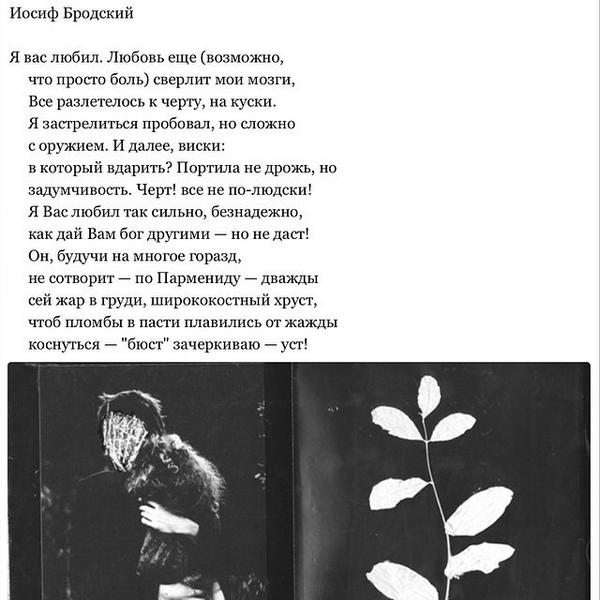 Мне кажется, что в некотором смысле это одно и то же. У Бродского есть такая центрифужная структура стихотворения: во-первых, некоторая непрерывность поэтической мысли, а во-вторых, некое возвращение к одной и той же точке. Эта точка может быть формально обозначена, например, каким-то рефреном или обращением напрямую — как в структурированных послания типа «Писем римскому другу» или «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» — или может на каком-то неуловимом смысловом уровне существовать. Как бы то ни было, есть два принципа, которые определяют механизм очень многих стихов Бродского: непрерывное движение и постоянное вращение. И мне кажется, как раз в «Не выходи из комнаты» этот механизм даёт сбой. Он не работает, на мой взгляд, именно в той части, которая связана с непрерывностью движения. Действительно, здесь есть одна точка, в которую всё время происходит возвращение, но в отличие, например, от «Элегии Джону Донну», где есть известная, понятная траектория движения, расширение масштаба, — здесь с этой траекторией движения происходит какая-то каша.
Мне кажется, что в некотором смысле это одно и то же. У Бродского есть такая центрифужная структура стихотворения: во-первых, некоторая непрерывность поэтической мысли, а во-вторых, некое возвращение к одной и той же точке. Эта точка может быть формально обозначена, например, каким-то рефреном или обращением напрямую — как в структурированных послания типа «Писем римскому другу» или «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» — или может на каком-то неуловимом смысловом уровне существовать. Как бы то ни было, есть два принципа, которые определяют механизм очень многих стихов Бродского: непрерывное движение и постоянное вращение. И мне кажется, как раз в «Не выходи из комнаты» этот механизм даёт сбой. Он не работает, на мой взгляд, именно в той части, которая связана с непрерывностью движения. Действительно, здесь есть одна точка, в которую всё время происходит возвращение, но в отличие, например, от «Элегии Джону Донну», где есть известная, понятная траектория движения, расширение масштаба, — здесь с этой траекторией движения происходит какая-то каша. Первый пример — простой: как было отмечено, здесь очень точно нарисована коммунальная квартира — уборная, прихожая, счётчик, — но если мы посмотрим по тексту, они раскиданы между строфами. То мы снова возвращаемся к этому масштабу коммунальной квартиры, то говорим про Францию или про улицу… Второй пример, на котором, мне кажется, это ещё лучше видно, — в самом начале. В начале сказано: «Только в уборную — и сразу же возвращайся». Неважно, автореференция это или он обращается к кому-то другому, но есть тот, кто это говорит, и есть тот, к кому это обращено. Так вот, в начале он ему говорит «только в уборную — и сразу же возвращайся», а в следующей строфе он говорит «не вызывай мотора». В результате психологизм отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому это обращено, совершенно рушится. Потому что это такие, на первый взгляд, деспотические отношения. Это отношения, в которых находятся, например, ученики в школе с учителем: «Марьиванна, можно выйти?» А дальше оказывается — ему уже сказали, что можно выйти в уборную и сразу же возвращаться, это очень серьёзное ограничение личных свобод, прямо скажем, — а тот, к кому обращаются, собирается вызывать такси.
Первый пример — простой: как было отмечено, здесь очень точно нарисована коммунальная квартира — уборная, прихожая, счётчик, — но если мы посмотрим по тексту, они раскиданы между строфами. То мы снова возвращаемся к этому масштабу коммунальной квартиры, то говорим про Францию или про улицу… Второй пример, на котором, мне кажется, это ещё лучше видно, — в самом начале. В начале сказано: «Только в уборную — и сразу же возвращайся». Неважно, автореференция это или он обращается к кому-то другому, но есть тот, кто это говорит, и есть тот, к кому это обращено. Так вот, в начале он ему говорит «только в уборную — и сразу же возвращайся», а в следующей строфе он говорит «не вызывай мотора». В результате психологизм отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому это обращено, совершенно рушится. Потому что это такие, на первый взгляд, деспотические отношения. Это отношения, в которых находятся, например, ученики в школе с учителем: «Марьиванна, можно выйти?» А дальше оказывается — ему уже сказали, что можно выйти в уборную и сразу же возвращаться, это очень серьёзное ограничение личных свобод, прямо скажем, — а тот, к кому обращаются, собирается вызывать такси.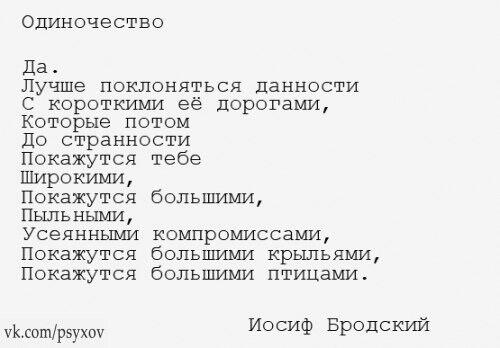 Это означает, что не подействовал предыдущий жёсткий запрет выходить не дальше уборной; а если запрет до такой степени не действует, значит, тот, кто его ставит, находится в очень слабой позиции, он теряет свою власть. Но дальше по тексту стихотворения не складывается ощущение, что кто-то кого-то упрашивает, не происходит никакого развития отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому обращены эти стихи. Поэтому эти стихи в целом какое-то такое общее впечатление каши оставляют, как будто это обрывочные наработки на полях.
Это означает, что не подействовал предыдущий жёсткий запрет выходить не дальше уборной; а если запрет до такой степени не действует, значит, тот, кто его ставит, находится в очень слабой позиции, он теряет свою власть. Но дальше по тексту стихотворения не складывается ощущение, что кто-то кого-то упрашивает, не происходит никакого развития отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому обращены эти стихи. Поэтому эти стихи в целом какое-то такое общее впечатление каши оставляют, как будто это обрывочные наработки на полях.
И если предположить, что эта очень характерная для Бродского структура центрифужного движения — одна из визитных карточек, — делает его сильным или популярным автором, то получается, что из этого текста вынули такой сложный компонент — компонент непрерывности мысли — и оставили компонент, который работает… не знаю, может быть, во фрейдистских терминах можно про него говорить: компонент такого навязчивого повторения. И это моментально делает стихотворение чудовищно популярным.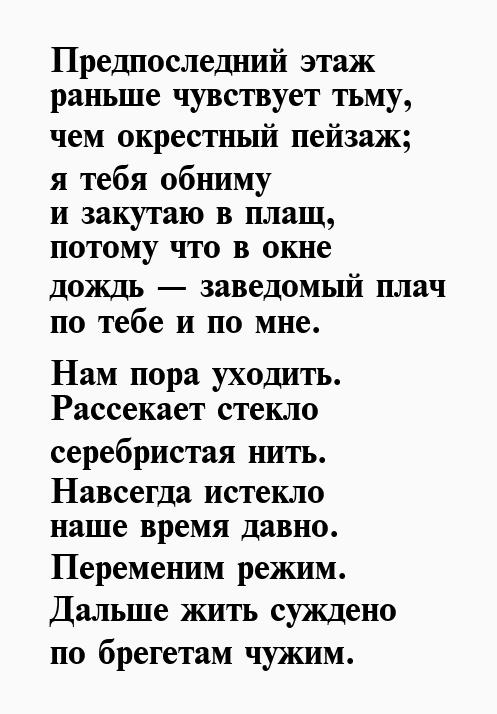 Оно проще, чем другие стихотворения Бродского, построенные на том же приёме, но в нём остаётся какое-то такое интригующее постоянное возвращение. Это моя попытка объяснить, почему мне не нравится это стихотворение, с замахом на объяснение того, почему оно всем нравится.
Оно проще, чем другие стихотворения Бродского, построенные на том же приёме, но в нём остаётся какое-то такое интригующее постоянное возвращение. Это моя попытка объяснить, почему мне не нравится это стихотворение, с замахом на объяснение того, почему оно всем нравится.
«Поклониться тени». Дочери Бродского пишут стихи своему отцу
Сегодня Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. Сам поэт не планировал дожить до юбилейной даты. В 1989 году он написал стихотворение Fin de siecle, которое начинается такими строками:
Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее – влиянье небытия на бытие.
Охотника, так сказать, на дичь –
будь то сердечная мышца или кирпич.
Чутье у Бродского было гениальным, и не только по отношению к собственной судьбе. За 25 лет, прошедших после смерти поэта-лауреата, его стихи уже не раз попадали в нерв эпохи. Во время «русской весны» 2014 года совершенно по-новому прозвучало стихотворение «На независимость Украины», в котором поэт прощается с «незалежными хохлами» холодным тоном сторонника империи:
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой….
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса
И в нынешнем юбилейном году Бродский опять «выстрелил». Стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» стало настоящим гимном коронавирусного фольклора:
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
Его влияние на поэтов-современников было огромным. Философское презрение к смерти, насмешки над тиранами и пошлостью политических реалий, гипнотическая интонация мудреца, медитирующего над бренностью мира, – всё это оказалось настолько заразительным, что породило в конце прошлого века целое поколение эпигонов, сочинявших «под Бродского».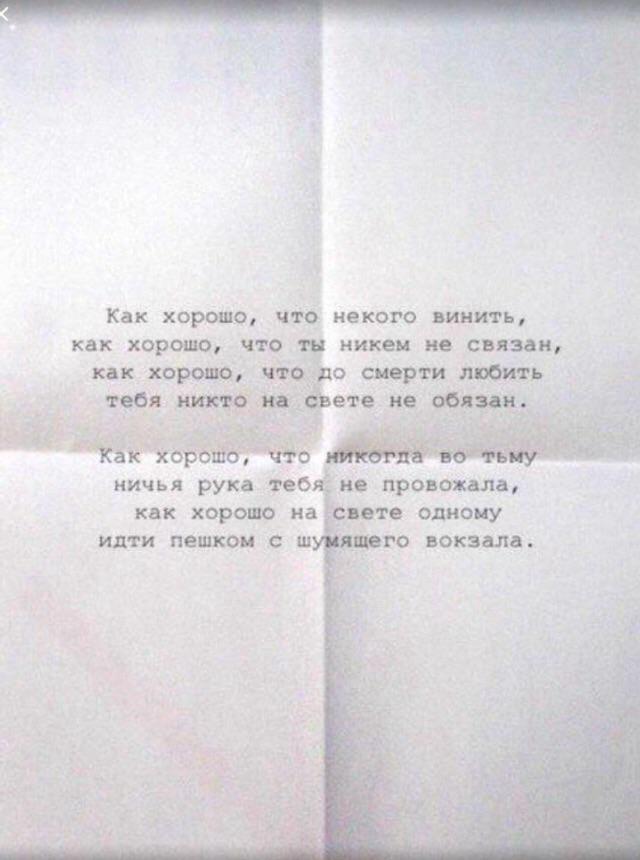
«Дети, слова и ученики – то, что остаётся от великих поэтов«, – написал друг поэта Михаил Барышников в аннотации к сборнику «Поклониться тени», выпущенному на днях издательством «Русский Гулливер». Совершенно неожиданно этот проект оказался очень «сибирским». Руководитель «Русского Гулливера» поэт и прозаик Вадим Месяц родился в Томске, в семье Геннадия Месяца, будущего академика и одного из основателей томского Академгородка. Там же, в Томске, живет Андрей Олеар, переводчик и составитель сборника «Поклониться тени». Валентина Полухина, друг Иосифа Бродского, литературовед и автор предисловия к книге, родилась в Кемеровской области, в семье ссыльных.
«С Иосифом Александровичем мы познакомились в 1977 году в Лондоне, а в 1980-м я полгода посещала его лекции и семинары в Мичиганском университете в Анн-Арборе. Дважды организовывала его выступления в Англии: в марте 78-го и в апреле – мае 85-го.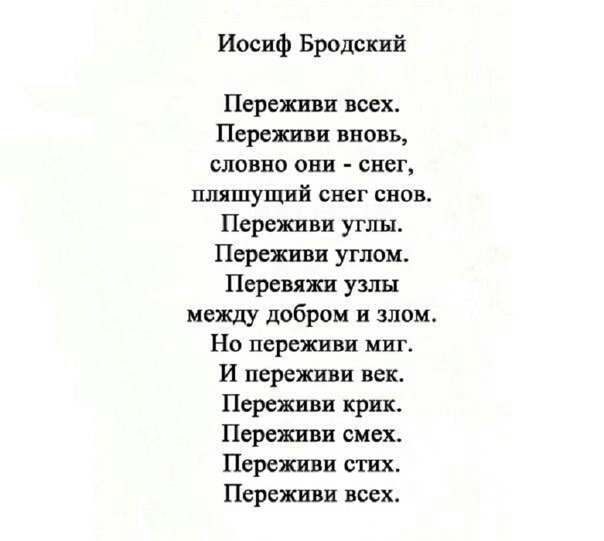 Последний раз мы виделись в Хельсинки в августе 1995 года,– вспоминает в предисловии Валентина Полухина.
Последний раз мы виделись в Хельсинки в августе 1995 года,– вспоминает в предисловии Валентина Полухина.
В книгу вошли подборки стихов дочерей Иосифа Бродского – Анастасии Кузнецовой, которая родилась в Ленинграде за два месяца до эмиграции Бродского и никогда не видела своего отца, и Анны-Марии Бродской, родившейся в Нью-Йорке в 1993 году и пишущей по-английски.
«С Анастасией Кузнецовой мы встретились впервые в Санкт-Петербурге в 1997-м. В последующие годы она несколько раз приезжала ко мне в Лондон, а в 2016-м приняла активное участие в совместной поездке по городам Израиля с презентацией нашей общей работы – антологии «Из не забывших меня», посвящённой 75-летию её отца.
Анастасия Кузнецова. Фото: Екатерина СкачевскаяАнастасия – человек сильный, харизматичный и благородный. Родилась 31 марта 1972 года, за два месяца до эмиграции отца, которого так никогда и не видела. Но она унаследовала от него любовь к Языку», – пишет Валентина Полухина.
В интервью сайту Сибирь.Реалии Анастасия Кузнецова рассказала, что значит быть дочерью Бродского.
– Вас не называют Анастасией Иосифовной?
– Только друзья, и то – в шутку. По паспорту я Андреевна. Мой отчим усыновил меня в свое время и дал свое отчество.
– По профессии вы переводчик, окончили Институт имени Герцена, а что вы переводите – стихи, прозу?
– В основном, фэнтези и фантастику для издательства «Эксмо». Из того, что
на слуху, книжки Крессиды Коуэлл, по которым был снят мультфильм «Как приручить дракона».
– При этом вы уже много лет занимаетесь рок-музыкой. Я знаю, что у вас есть своя группа, в которой вы исполняете песни на свои стихи. Это «для души»?
– Конечно.
– Как часто у вас бывают концерты в Питере или других городах?
– Очень редко мы куда-то выползаем на гастроли, потому что команду из пяти человек очень трудно вывезти – это для всех хобби, и все где-то работают. До наступления карантина мы обычно раз в месяц играли в Питере. Здесь есть дружественное кафе «Африка», где мы в основном это делаем, но выступаем и на других площадках.
До наступления карантина мы обычно раз в месяц играли в Питере. Здесь есть дружественное кафе «Африка», где мы в основном это делаем, но выступаем и на других площадках.
– О том, что Иосиф Александрович – ваш отец, вы узнали, когда вам было уже двадцать с небольшим лет. А стихи вы начали писать раньше?
– Да, раньше.
– Как повлияло это известие на ваше творчество?
– Я бы не сказала, что сильно повлияло. Это факт биографии, к сочинительству отношения не имеющий. Да и творчество – слишком громкое слово.
– Поэзия Бродского не относится к числу ваших влияний?
– Это скорее камертон и заданная планка.
– Очень высокая.
– Не то слово. Но она относится не к тому, что появляется из моей головы, а к тому, что я читаю. Не стану утверждать, что способна однозначно отличить хорошие стихи от плохих, настоящие от ненастоящих, вот это все, но какое-то чувство, какой-то внутренний камертон у меня есть, и я думаю, что в первую очередь это благодаря Иосифу Александровичу.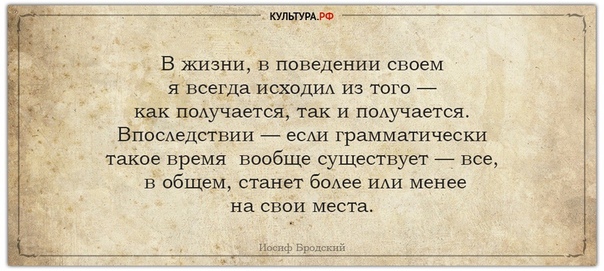
– Какое у вас любимое стихотворение Бродского о любви?
– Неожиданный вопрос. Я никогда не делила поэзию отца по темам. Наверное, если считать «Я любил немногих, однако сильно» стихами о любви, то оно, хотя это в принципе мое любимое стихотворение Бродского.
– Это стихотворение заканчивается строфой:
«Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи».
– Вот этот «опыт борьбы с удушьем» можно прочесть и как политическое высказывание о жизни в условиях несвободы. В 1970–80-х годах все знали и цитировали строчку: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря…» Как вы считаете, Иосиф Бродский был антиимперским поэтом или ему просто не нравилась советская империя, в которой выпало родиться?
– Я, хвала богам, не литературовед, но мне он представляется человеком
имперского сознания. Если брать чисто географически и исторически, он в 1972 году сменил советскую империю на американскую. Но идеальной империей для Бродского, на мой взгляд, был античный Рим, образ которого сложился в литературе, истории.
Если брать чисто географически и исторически, он в 1972 году сменил советскую империю на американскую. Но идеальной империей для Бродского, на мой взгляд, был античный Рим, образ которого сложился в литературе, истории.
– И в творчестве Бродского мы чувствуем тоску по этой идеальной империи, которую он противопоставляет пошлым реалиям современности.
– Не думаю, что это была тоска. Мне кажется, он вполне серьезно ощущал себя гражданином именно этой метафизической империи, а не какой-то реально существующей, советской или американской.
В 21-м веке он перестал быть поэтом для избранных… вошел в медийное пространство и стал необходимым фактом культуры даже для тех, кто знает поэзию только по школьной программе
– В чем идея книги «Поклониться тени»? Туда включены ваши стихи, стихи младшей дочери Бродского – Анны и переводы английского стихов самого Бродского, который сделал Андрей Олеар?
– Идея как раз принадлежит Олеару, за что ему честь и хвала. Изначально книга задумывалась даже более масштабно, мы рассчитывали, что там будут не только наши с Анной стихи, но и фотографии Андрея Басманова, сына Бродского от первого брака. Андрей неплохой фотограф, но он по каким-то личным причинам отказался участвовать в этом проекте.
Изначально книга задумывалась даже более масштабно, мы рассчитывали, что там будут не только наши с Анной стихи, но и фотографии Андрея Басманова, сына Бродского от первого брака. Андрей неплохой фотограф, но он по каким-то личным причинам отказался участвовать в этом проекте.
– Я знаю, что вы общаетесь с Анной и с Андреем. Это можно назвать дружбой?
– Ну, я бы это так не назвала, все-таки мы общаемся слишком редко.
– Расскажите о ваших отношениях с Анной, как вы познакомились?
Анна-Мария Бродская– Познакомила нас Валентина Полухина, за что ей поклон земной, – это она подарила мне младшую сестру. Старшая у меня есть, а вот младшей не было. Наше знакомство произошло на праздновании 75-летия Бродского, когда в Петербурге открылся его музей-квартира на Литейном. Анна приехала из Ирландии, и мы впервые увидели друг друга. Она очень славная. Сейчас уже вполне себе взрослая дама, а тогда была двадцатилетней безбашенной девчонкой, как и положено в этом возрасте.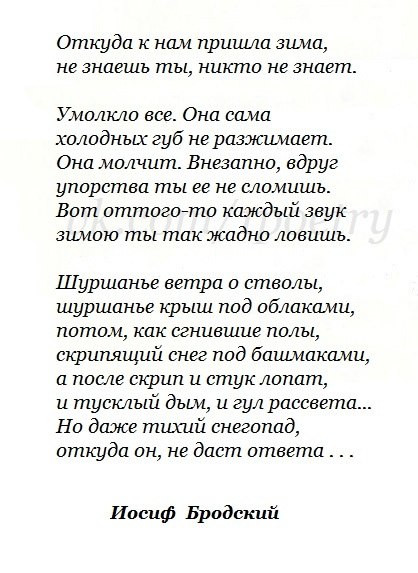 Мне она очень понравилась, и мы моментально нашли общий язык.
Мне она очень понравилась, и мы моментально нашли общий язык.
– С тех пор вы с ней встречались?
– Мы иногда переписываемся. Она не говорит по-русски, я, слава богу, говорю по-английски. Но мы не обсуждаем какие-то сложные метафизические материи, в основном общаемся о своем, о девичьем, благо нам есть что обсудить.
– Фонд Бродского официально признает вас как дочь Иосифа Бродского и его наследницу?
– Официального признания не было, но, честно скажу, мне это глубоко безразлично, если формулировать вежливо.
– Как бы вы оценили влияние поэзии Бродского на современность? Насколько в наши дни актуален Бродский, его стихи?
– На данный момент, конечно, мегаактуально его стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» Естественно, существует очень много подражателей Бродскому, но я не считаю, что это плохо. А если смотреть с точки зрения темы, содержания и вообще отношения к поэзии, то, безусловно, влияние Бродского огромно. В 21-м веке он перестал быть поэтом для избранных. Наверное, по большому счету его стихи и сейчас понимают немногие, но то, что он вошел в медийное пространство и стал необходимым фактом культуры даже для тех, кто знает поэзию только по школьной программе, вот это, я считаю, огромный плюс в развитии нашего общества, – говорит Анастасия Кузнецова.
В 21-м веке он перестал быть поэтом для избранных. Наверное, по большому счету его стихи и сейчас понимают немногие, но то, что он вошел в медийное пространство и стал необходимым фактом культуры даже для тех, кто знает поэзию только по школьной программе, вот это, я считаю, огромный плюс в развитии нашего общества, – говорит Анастасия Кузнецова.
Переводчик Андрей Олеар, придумавший соединить под одной обложкой стихи дочерей Иосифа Бродского, считает этот проект уникальным экспериментом:
– Идея возникла при содействии любимой и удивительной леди русской поэзии – Валентины Платоновны Полухиной, профессора Килского университета и самого крупного из ныне живущих специалистов по творчеству Иосифа Бродского. О личности и творчестве Бродского ею написана 21 книга. Мы познакомились с Валентиной Платоновной лет 15 назад, и с тех пор в моей жизни появилось много людей, связанных с Бродским. В том числе обе его дочери, его возлюбленная Марианна Басманова, его друзья – Михаил Барышников, Юз Алешковский и Яков Гордин.
– Я знаю, что вы организовывали концерт Анастасии Кузнецовой в Томске в 2015 году.
– Да, это было посвящено 75-летию мэтра. В актовом зале университета собралось около 400 человек. Мы представляли книжку под названием «Из не забывших меня»: 200 имен мировой культуры, поэты и прозаики, артисты и ученые, друзья и даже недруги, вспоминающие Иосифа Александровича. Там стихи, фрагменты лирической, мемуарной прозы. Проиллюстрирована книжка авторскими рисунками самого Иосифа Александровича.
– Андрей, в чем, на ваш взгляд, оригинальность вашего проекта «Поклониться тени»? О Бродском сказано и написано уже очень много.
– Это очень эмоциональная история. Касаясь содержания книги «Поклониться тени», я хочу обратить внимание на очень симпатичную деталь. В 1994 году Иосиф Бродский написал по-английски стихотворение «TO MY DAUGHTER / МОЕЙ ДОЧЕРИ”, которое я перевел на русский язык. В 2015 году Анна-Мария, тоже по-английски, написала стихотворный ответ «TO MY FATHER / МОЕМУ ОТЦУ». Это стихотворение, в свою очередь, мы перевели совместно с Настей Кузнецовой. Получился такой эмоционально трепетный сюжет – в одном тексте обе дочери. Ну, я тоже в этом деле поучаствовал, как некое связующее звено.
В 2015 году Анна-Мария, тоже по-английски, написала стихотворный ответ «TO MY FATHER / МОЕМУ ОТЦУ». Это стихотворение, в свою очередь, мы перевели совместно с Настей Кузнецовой. Получился такой эмоционально трепетный сюжет – в одном тексте обе дочери. Ну, я тоже в этом деле поучаствовал, как некое связующее звено.
TO MY DAUGHTER / МОЕЙ ДОЧЕРИ
Дай мне другую жизнь — и я буду петь
в кафе «Рафаэлла». Или просто сидеть
там же. Хоть шкафом в углу торчать до поры,
если жизнь и Создатель будут не столь щедры.
Всё же, поскольку веку не обойтись
без джаза и кофеина, я принимаю мысль
стоять рассохшись, лет двадцать сквозь пыль и лак
щурясь на свет, расцвет твой и на твои дела.
В общем, учти – я буду рядом. Возможно, это
часть моего отцовства – стать для тебя предметом,
в особенности когда предметы старше тебя и больше,
строгие и молчат: это помнится дольше.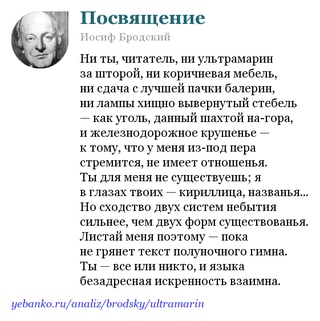
Так что люби их, даже зная о них немного, –
пусть призраком-силуэтом, вещью, что можно трогать,
вместе с никчёмным скарбом, что оставляю здесь я
на языке, нам общем, в сих неуклюжих песнях.
Иосиф Бродский, 1994
Перевод Андрея Олеара
TO MY FATHER / МОЕМУ ОТЦУ
Касаюсь запотевшего стекла,
и тень в ночи за краткий миг тепла
вдруг сделается ближе, дрогнет нить…
Воображенье? Может быть…
Ты поплотнее запахнул пальто,
бренча в кармане рифмами, зато
покой обрёл на дальних берегах.
Как там дышать? Там страшно? Этот страх
неведом мне сейчас, раз жизнь — дары,
паденья, взлёты, правила игры,
но с той, застывшей, стороны стекла
ты ждёшь, я чувствую. И я к тебе пришла.
Вся память – голоса внутри и вне –
тобою откликается во мне.
Звонок последний в колледже звенит,
но ты не здесь, ты там, где твой гранит.
Тоски, любви и голоса во мгле
мне никогда не хватит на земле.
Анна-Мария Бродская, 2015
Перевод Анастасии Кузнецовой и Андрея Олеара.
Иосиф Бродский и Вадим Месяц. Вашингтон, 1991 г. Фото: Татьяны БейлинойВ 1991 году Вадим Месяц, начинающий никому не известный поэт, приехал из Екатеринбурга в Вашингтон, чтобы встретиться с Иосифом Бродским, который в том году был признан поэтом-лауреатом США и имел рабочий кабинет в Библиотеке Конгресса. Воспоминания об этой встречи стали эпизодом романа «Дядя Джо», опубликованного издательством «Русский Гулливер» весной 2020 года.
«Дядя Джо», роман с Бродским. Вадим Месяц– Бродский был человеком очень любопытствующим, – вспоминает Вадим Месяц. – Он мог расспрашивать, как работает в России водопровод, стреляют или не стреляют на улицах Екатеринбурга, что продают в магазинах… какие-то совершенно житейские вещи его интересовали. Ну, и про стихи мы довольно много говорили – он любил объяснять, рассказывать, особенно про американскую поэзию, в которой я тогда мало понимал. У меня была такая выигрышная позиция «человека с мороза», который расспрашивает другого человека, который здесь уже отогрелся. Иосиф Александрович в то время преподавал в колледже в Массачусетсе, и, когда у него случалось время после занятий, он с удовольствием закуривал сигарету и обучал младшего товарища.
Ну, и про стихи мы довольно много говорили – он любил объяснять, рассказывать, особенно про американскую поэзию, в которой я тогда мало понимал. У меня была такая выигрышная позиция «человека с мороза», который расспрашивает другого человека, который здесь уже отогрелся. Иосиф Александрович в то время преподавал в колледже в Массачусетсе, и, когда у него случалось время после занятий, он с удовольствием закуривал сигарету и обучал младшего товарища.
– Чему он вас обучил?
– Я бы сказал, настойчивости в том, что касается самого важного: собственной интонации. Настойчивости, вплоть до самодурства, когда человек говорит – вот так будет, и так должно быть, потому что я так чувствую! На это было интересно смотреть, и я понимал, что, в общем, те какие-то законы стихотворщины, которые существовали в то время, их можно нарушать довольно серьезным образом, если ты чувствуешь свою правоту.
– В вашем романе «Дядюшка Джо» есть несколько эпизодов, где вы встречаетесь с Бродским.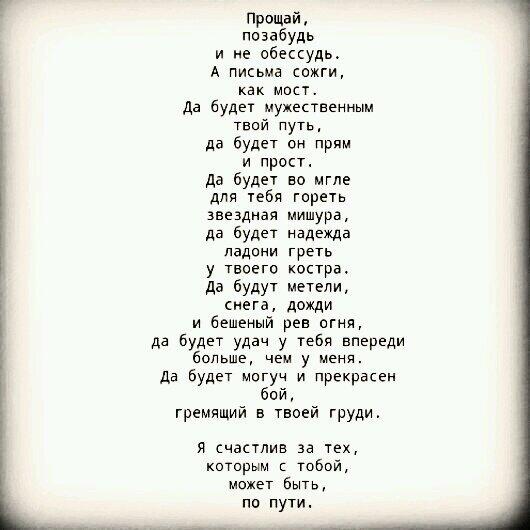 Какая из этих встреч вам особенно дорога, чем она запомнилась?
Какая из этих встреч вам особенно дорога, чем она запомнилась?
– Конечно, первая встреча. Я приехал со своей подругой, которая постеснялась пойти вместе со мной. Бродский меня за то, что я оставил девушку за порогом, как-то эмоционально обозвал, подлецом или что-то такое. Потом мы вышли из библиотеки на улицу и отправились в кафе, он много внимания уделял моей барышне. При этом у нас был очень насыщенный разговор, мы как-то начали скакать галопом по Европам – от философии до политики. Я привез с собой верстку своей книжки, Бродский по ходу делал свои замечания. Вспоминал, как сам впервые оказался в Нью-Йорке.
– Когда Бродский умер, вы жили в Америке?
– Да. Хорошо помню этот день. Я вернулся в Нью-Йорк из Солт-Лейк-Сити, и узнал, что умер Бродский. Незадолго до этого я ему звонил, мы говорили про стихи, я отправлял ему стихи для своей последней книжки, она называлась «Выход к морю». Ну, в общем, ничто не предвещало его ухода. Мы поехали на панихиду, где повстречали Евтушенко в ярко-красном мохеровом шарфе.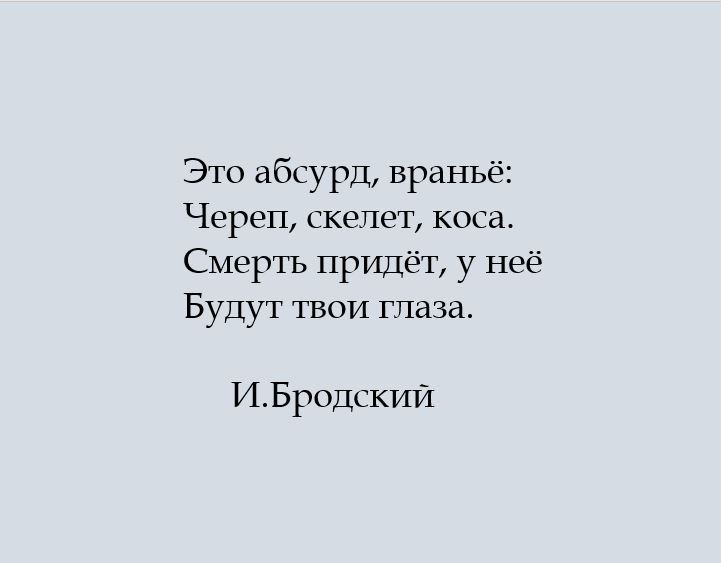 Я запомнил его каким-то светофором. Был Петр Вайль, который прилетел из Праги и позвал всех в какой-то ресторанчик, где подавали шпикачки. В общем, несмотря на мрачность происходящего, это был день с характером Бродского, который всю свою жизнь людей знакомил и сближал.
Я запомнил его каким-то светофором. Был Петр Вайль, который прилетел из Праги и позвал всех в какой-то ресторанчик, где подавали шпикачки. В общем, несмотря на мрачность происходящего, это был день с характером Бродского, который всю свою жизнь людей знакомил и сближал.
– И вот, к 80-летию Бродского, вы выпустили книгу «Поклониться тени». Для вас, как издателя, чем интересна эта идея?
– Один из друзей Бродского сказал, что Иосиф Александрович был бы увеселен этой книгой со стихами своих дочерей. В этом есть какой-то полет фантазии, изобретательность. По-моему, это интересный поворот сюжета.
Нобелевка, психбольницы, ресторан «Самовар» и котики – The City, 23.05.2020
24 мая 1940 года родился Иосиф Бродский – русский и американский поэт, писатель и переводчик. В 2020 году ему могло бы исполниться 80 лет. Специально ко дню рождения автора мы попробовали уложить его выдающуюся личность в русский алфавит – и это было, признаемся честно, ох как непросто. В свое время Ахматова, узнав о суде Бродского, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». Но едва ли можно найти пиарщика лучше, чем сама судьба. Бродский не окончил школу, но при этом преподавал в престижных американских университетах, он был гоним на родине – и получил Нобелевскую премию по литературе. Мы разделили его жизнь на важные исторические этапы, любопытные факты, любимые места и людей, без которых Бродский был бы совсем другим.
В свое время Ахматова, узнав о суде Бродского, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». Но едва ли можно найти пиарщика лучше, чем сама судьба. Бродский не окончил школу, но при этом преподавал в престижных американских университетах, он был гоним на родине – и получил Нобелевскую премию по литературе. Мы разделили его жизнь на важные исторические этапы, любопытные факты, любимые места и людей, без которых Бродский был бы совсем другим.
А – Александр Бродский
Всю свою жизнь отец Иосифа Бродского Александр Иванович посвятил фотографии. Со своей Leica он побывал сразу на трех войнах: советско-финской, Великой Отечественной и японской. В мирное время снимал флотскую жизнь Ленинграда сразу для нескольких изданий, работал заведующим фотолабораторией в Центральном военно-морском музее. Иосиф любил ходить к отцу на работу, интересовался его профессией корреспондента и позднее сам увлекся фотографией. В одном из своих эссе он сравнивал этот процесс с поэзией: «Хорошее стихотворение – это своего рода фотография, на которой метафизические свойства сюжета даны резко в фокусе, соответственно, хороший поэт – это тот, кому такие вещи даются почти как фотоаппарату, вполне бессознательно, едва ли не вопреки самому себе».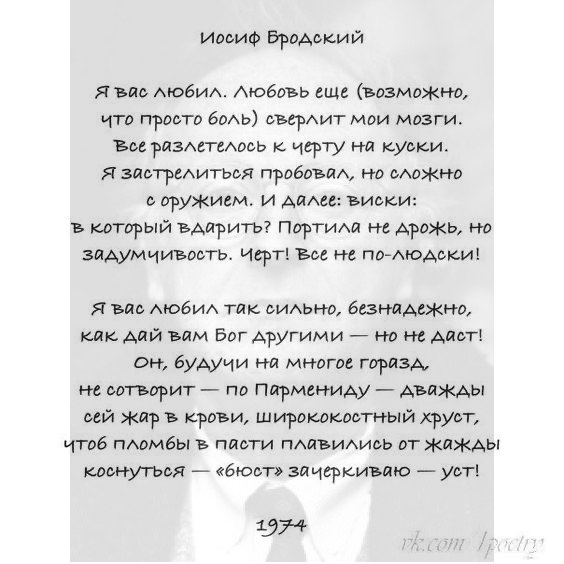 После вынужденной эмиграции Бродский больше никогда не видел своих родителей.
После вынужденной эмиграции Бродский больше никогда не видел своих родителей.
Б – блокада
Но родился Бродский в Ленинграде – за год до Великой Отечественной войны. Несмотря на то что уже в 1942 году он вместе с матерью Марией Вольперт смог уехать в эвакуацию в Череповец, память сохранила образы блокадного города. В 1995 году он писал: «…Прожектора были неотъемлемой частью моего детства, более того, это самое раннее мое воспоминание». Возвращение в истощенный Ленинград случилось в 1944 году, но его отец вернулся только через четыре года. Фотографии, сделанные в годы блокады, Бродский считал лучшими из когда-либо им виденных.
В – Венеция
Венеция – один из трех важнейших городов в жизни Иосифа Бродского (другие два – Нью-Йорк и Ленинград). Впервые он оказался на вокзале Санта-Лючия в 1972 году на рождественских каникулах и с тех пор почти каждую зиму проводил здесь. Он всегда любил Италию – колыбель цивилизации, восхищался географическим расположением и красотой Венеции, с которой ничто в этом мире не могло сравниться.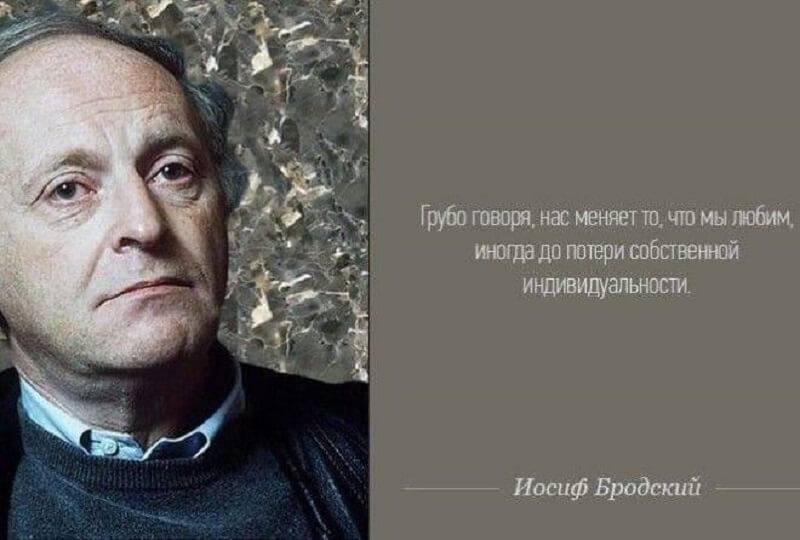 Да, в 1996 году Бродский умер в своей бруклинской квартире, но похоронили его на венецианском кладбище Сан-Микеле. В могилу положили бутылку виски и пачку любимых сигарет. Почитатели творчества писателя, навещая его на кладбище, оставляют на могиле стихи, карандаши, камешки и сигареты Camel.
Да, в 1996 году Бродский умер в своей бруклинской квартире, но похоронили его на венецианском кладбище Сан-Микеле. В могилу положили бутылку виски и пачку любимых сигарет. Почитатели творчества писателя, навещая его на кладбище, оставляют на могиле стихи, карандаши, камешки и сигареты Camel.
Д – деревня Норинская
Полтора года ссылки в Архангельской области Бродский называл едва ли не лучшим периодом своей жизни. В бедной деревеньке, обвиненный в тунеядстве, он должен был прожить ближайшие пять лет (срок скостили в том числе благодаря активности коллег-писателей и письмам Жан-Поля Сартра). В Норинской Иосиф устроился разнорабочим в совхоз, параллельно учил английский язык, много ездил на велосипеде и писал стихи. Здесь были созданы «Шум ливня воскрешает по углам…», «Зимняя почта», «Песня», «Одной поэтессе».
Е – Евгений Рейн
В 1959 году молодой Иосиф Бродский познакомился с поэтом и сценаристом Евгением Рейном. Они вместе оказались на новоселье у общего приятеля – тот с порога начал жаловаться на Бродского, который всех порядком утомил своими стихами.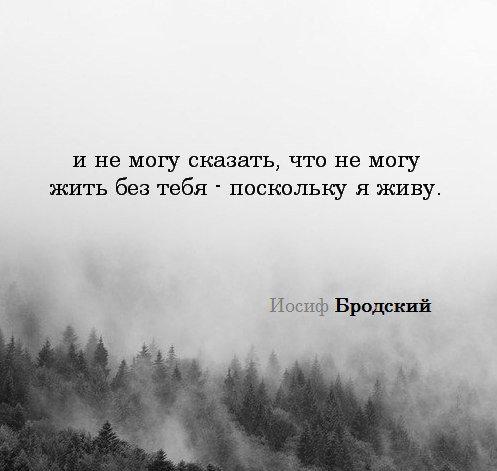 Они Рейну тогда не понравились, но их многолетней крепкой дружбе это никак не помешало. В 1961 году Рейн познакомил Бродского с важным для его поэтической инициации человеком – Анной Ахматовой. При первой встрече Бродский признался, что думал, что та умерла еще до революции. Однако вскоре вместе с двумя другими поэтами Дмитрием Бобышевым и Анатолием Найманом они стали «ахматовскими сиротами» – поэтами из ее близкого окружения, творчество которых Ахматова высоко ценила и всегда была готова помочь советом.
Они Рейну тогда не понравились, но их многолетней крепкой дружбе это никак не помешало. В 1961 году Рейн познакомил Бродского с важным для его поэтической инициации человеком – Анной Ахматовой. При первой встрече Бродский признался, что думал, что та умерла еще до революции. Однако вскоре вместе с двумя другими поэтами Дмитрием Бобышевым и Анатолием Найманом они стали «ахматовскими сиротами» – поэтами из ее близкого окружения, творчество которых Ахматова высоко ценила и всегда была готова помочь советом.
З – завод
До 1960 года Бродский как поэт публично о себе не заявлял. После седьмого класса он безуспешно пытался поступить в морское училище, в 15 лет бросил школу и устроился на завод «Арсенал» фрезеровщиком. Потом будущий нобелевский лауреат работал помощником прозектора в морге, кочегаром, фотографом, смотрителем маяка и участвовал в геологических экспедициях. При таком тяжелом графике он не забывал про самообразование – самостоятельно учил иностранные языки и много читал. Свои стихотворения на суд публики он представил в начале 1960-х годов на поэтическом турнире в ДК имени Горького.
Свои стихотворения на суд публики он представил в начале 1960-х годов на поэтическом турнире в ДК имени Горького.
К – котики
Фотографии Бродского с котами на руках неминуемо получают сотни лайков в соцсетях. Оська, Кошка в Белых Сапожках, Большой Рыжий, Самсон – каких только питомцев у него не было. Он посвящал им стихи, а иногда даже рисовал. По его рисункам режиссер и художник-мультипликатор Андрей Хржановский снял в 2003 году фильм «Полтора кота». Название появилось благодаря Анне Ахматовой, которая так однажды назвала соседского здоровенного рыжего котяру. Она же заметила схожесть зверя с Бродским. Сам поэт признавался, что если кем-нибудь он и хочет стать в следующей жизни, то только усатым и хвостатым котом. Миссисипи, последний кот, пережил своего хозяина. Есть расхожая байка, что особого внимания среди гостей Бродского заслуживал тот, для кого он предлагал разбудить своего кота. Питерский художник Дюран даже сделал ироничный рисунок, где Миссисипи принимает у себя двух кошек, говоря им: «А хотите я разбужу для вас Бродского?»
Л – ливерпульская четверка
По просьбе редакции пионерского журнала «Костер» (того самого, где было опубликовано его первое стихотворение) Иосиф Бродский перевел текст песни Yellow Submarine группы The Beatles.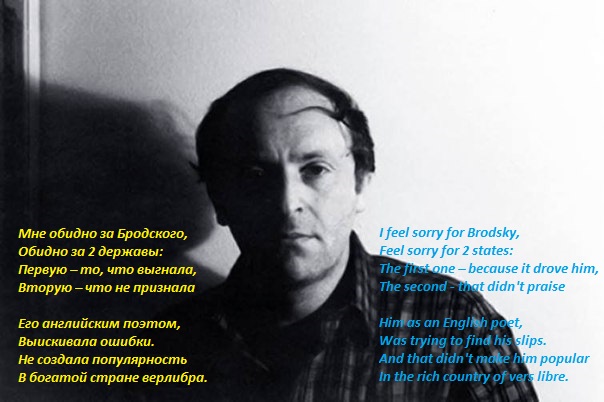 Так все битломаны получили эквиритмичный перевод «Желтой подлодки» – такой текст, по которому можно было подпевать. Также в интервью с Соломоном Волковым, опубликованном в книге «Диалоги с Бродским», поэт признавался, что «тексты, написанные Джоном Ленноном и Полом Маккартни, совершенно замечательные».
Так все битломаны получили эквиритмичный перевод «Желтой подлодки» – такой текст, по которому можно было подпевать. Также в интервью с Соломоном Волковым, опубликованном в книге «Диалоги с Бродским», поэт признавался, что «тексты, написанные Джоном Ленноном и Полом Маккартни, совершенно замечательные».
М – М. Б. и другие М.
Если вы когда-нибудь читали стихи Бродского о любви, с большой вероятностью они были написаны им о Марианне Басмановой, его первой большой любви. Они познакомились в 1962 году, молодому поэту тогда было всего 22 года. Он влюбился в застенчивую девушку с первого взгляда, но их десятилетние отношения закончились тяжелым для Бродского разрывом. Он эмигрировал в США один, возлюбленная отказалась выходить за него замуж и решила одна воспитывать их сына Андрея. Стихи с посвящением «М. Б.» начали появляться уже в первый год знакомства, а последнее датировано 1989-м – к тому моменту бывшие возлюбленные не виделись уже 17 лет. Его другую любовь тоже звали на М – Мария Кузнецова была балериной и родила от писателя дочь Анастасию. Правда, девушка узнала о том, кто ее отец, лишь в 23 года. Единственной женой Иосифа стала Мария Соццани (да-да, тоже на М!) – они встретились на его лекции в Сорбонне. Мария была на 30 лет младше Бродского, но это не помешало им провести вместе последние пять лет его жизни. В 1993 году у них родилась дочь Анна. Сейчас она живет в тихой английской деревушке с дочкой и мужем.
Правда, девушка узнала о том, кто ее отец, лишь в 23 года. Единственной женой Иосифа стала Мария Соццани (да-да, тоже на М!) – они встретились на его лекции в Сорбонне. Мария была на 30 лет младше Бродского, но это не помешало им провести вместе последние пять лет его жизни. В 1993 году у них родилась дочь Анна. Сейчас она живет в тихой английской деревушке с дочкой и мужем.
Н – Нью-Йорк
В 1972 году поэта вызвали в ОВИР и принудили к немедленной эмиграции. Буквально через месяц он покинул страну, увозя с собой один чемодан, пишущую машинку, две бутылки водки в качестве сувенира и сборник стихов. Приютил опального поэта город творцов – Нью-Йорк. На протяжении 17 лет Иосиф снимал квартиру в Гринвич-Виллидже по адресу Мортон-стрит, 44 (этот дом появляется в короткометражке Звягинцева «Апокриф»). А в 1993 году он купил себе апартаменты с тремя спальнями на Пьерпонт-стрит, 22. Так, Бруклин-Хайтс стал его последним адресом – в этой же квартире писатель умер от сердечного приступа в возрасте 55 лет.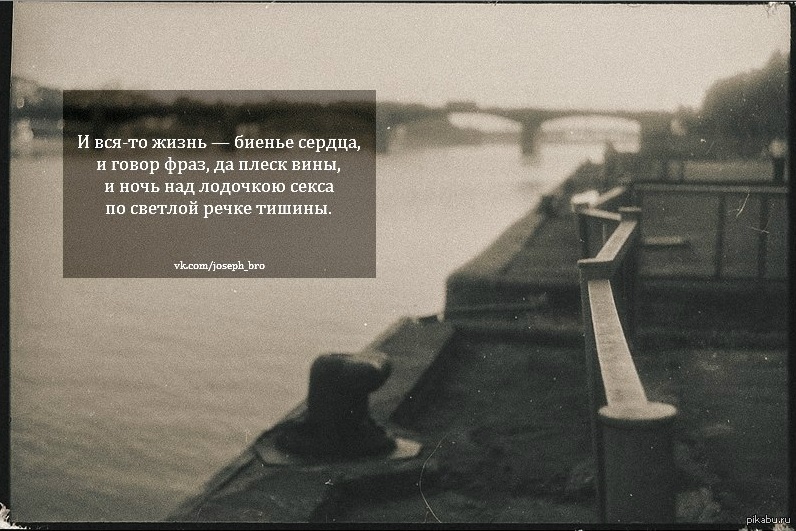 Поминальная служба была буквально за углом – в ближайшей к дому Грейс-черч.
Поминальная служба была буквально за углом – в ближайшей к дому Грейс-черч.
О – очки
Самое популярное изображение Бродского – седой, полулысый человек в белоснежной рубашке, галстуке, в очках и с сигаретой.
П – премия
В Советском Союзе Бродский почти не публиковался – он зарабатывал на жизнь детскими стихами и переводами. В 1960-х опубликовали четыре его поэмы, а вот на Западе его хорошо знали – там его книги издавали на русском, английском, польском и итальянском языках. В 1987 году Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию по литературе за «всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». На балу после вручения престижной награды Бродский даже танцевал со шведской королевой. В родной литературный мир Бродский вернулся с началом перестройки. Первый сборник сочинений «Назидание» увидел свет в 1990 году, затем появилось и четырехтомное собрание сочинений.
Р – ресторан
Легендарный русский ресторан «Самовар» в свое время был культовым местом: здесь бывали многие знаменитости от Лайзы Миннелли и Сьюзен Сонтаг до Жерара Депардье.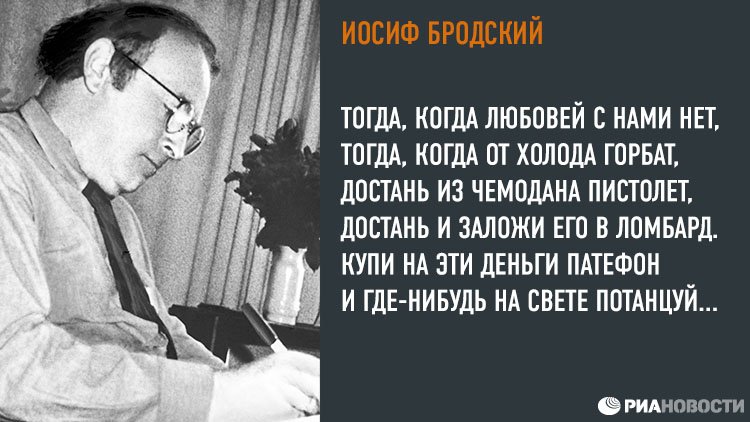 Они пили русские настойки, любовались коллекцией самоваров и ждали, когда Фрэнк Синатра, который жил прямо над заведением, забежит на огонек. Об этом месте, в принципе, можно написать отдельную статью. Заведение открылось летом 1986 года в самом сердце Манхэттена. Его основателем был Роман Каплан, а совладельцами – легендарный танцовщик Михаил Барышников (один из лучших друзей Бродского) и, собственно, сам Бродский. По слухам, инвестиция в это место стоила поэту части его Нобелевской премии. Попасть в ресторан сегодня, увы, не получится – заведение обанкротилось в 2018 году.
Они пили русские настойки, любовались коллекцией самоваров и ждали, когда Фрэнк Синатра, который жил прямо над заведением, забежит на огонек. Об этом месте, в принципе, можно написать отдельную статью. Заведение открылось летом 1986 года в самом сердце Манхэттена. Его основателем был Роман Каплан, а совладельцами – легендарный танцовщик Михаил Барышников (один из лучших друзей Бродского) и, собственно, сам Бродский. По слухам, инвестиция в это место стоила поэту части его Нобелевской премии. Попасть в ресторан сегодня, увы, не получится – заведение обанкротилось в 2018 году.
С – суд
В марте 1964 года суд обвинил Иосифа Бродского в тунеядстве. На его стихи, что регулярно печатали в детских журналах, и заказы на переводы судья не обратила никакого внимания. Оплачиваемым литературным трудом она это не считала. К тому же целых шесть свидетелей обвинения, среди которых никто не читал стихи Бродского, уверяли, что его творчество «отрывает молодежь от труда, от мира и жизни». Приговор вынесли быстро: виновен, срок наказания максимальный – пять лет принудительного труда в отдаленной местности. О подробностях абсурдного процесса в стиле произведений Кафки узнала не только вся ленинградская интеллигенция, но и позже – весь мир. Все благодаря московской журналистке Фриде Вигдоровой, которая присутствовала в зале суда и записала все происходящее в обыкновенный зеленый блокнот с проволочкой. Записи ходили по рукам, попали на Запад, но впервые их опубликовали в журнале «Огонек» только в 1988 году.
Приговор вынесли быстро: виновен, срок наказания максимальный – пять лет принудительного труда в отдаленной местности. О подробностях абсурдного процесса в стиле произведений Кафки узнала не только вся ленинградская интеллигенция, но и позже – весь мир. Все благодаря московской журналистке Фриде Вигдоровой, которая присутствовала в зале суда и записала все происходящее в обыкновенный зеленый блокнот с проволочкой. Записи ходили по рукам, попали на Запад, но впервые их опубликовали в журнале «Огонек» только в 1988 году.
Т – травля
Преследования Иосифа Бродского как антисоветского поэта начались со статьи в газете «Вечерний Ленинград» под названием «Окололитературный трутень». Текст полностью отвечал законам времени, в которое был написан. В 1963 году по указу Никиты Хрущева среди молодежи начали выискивать бездельников (на самом деле – инакомыслящих). Официально нетрудоустроенный Бродский стал легкой мишенью. В вину ему ставились «декадентщина» его стихов, «сон допоздна» и «паразитический образ жизни».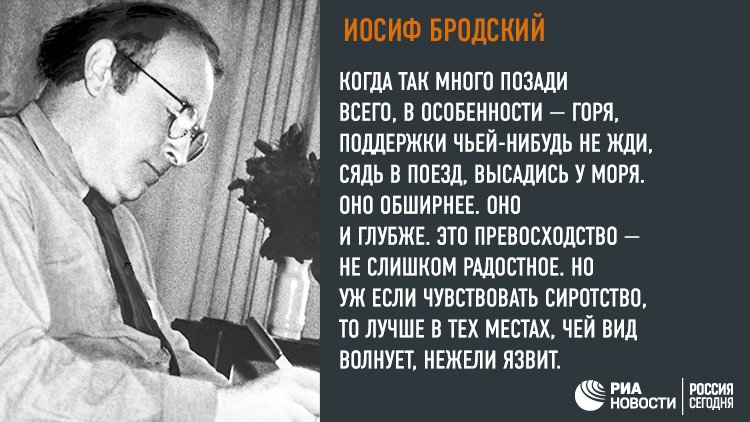 Авторы советовали ему поскорее взяться за ум и идти работать. К ним присоединились и читатели, по крайней мере, в газете вышло несколько писем от лица тех, кто требовал наказать «тунеядца Бродского».
Авторы советовали ему поскорее взяться за ум и идти работать. К ним присоединились и читатели, по крайней мере, в газете вышло несколько писем от лица тех, кто требовал наказать «тунеядца Бродского».
У – университеты
Первым местом работы Бродского в Штатах стал Мичиганский университет в небольшом городе Энн-Арборе. Он был «приглашенным поэтом» без специального образования – действовал по наитию, как сам считал нужным. У него не было строгого учебного плана, на занятиях он рассказывал о любимых писателях и поэтах, часто курил и пил кофе, иногда не стоял возле учительского стола, а лежал на нем. На одном из своих первых занятий он передал студентам список книг, которые нужно было прочитать, чтобы поддерживать базовую интеллектуальную беседу. Туда вошли «Фауст» Гете, «Бесы» Достоевского, пьесы Еврипида, «Дон Кихот» Сервантеса – всего около 100 произведений. Так не окончивший и восьми классов Иосиф Бродский начал свою профессорскую карьеру. После Мичиганского университета он преподавал историю русской литературы, русскую и мировую поэзию и теорию стиха в аудиториях многих известных американских и британских университетов, в том числе в Колумбийском и Нью-Йоркском.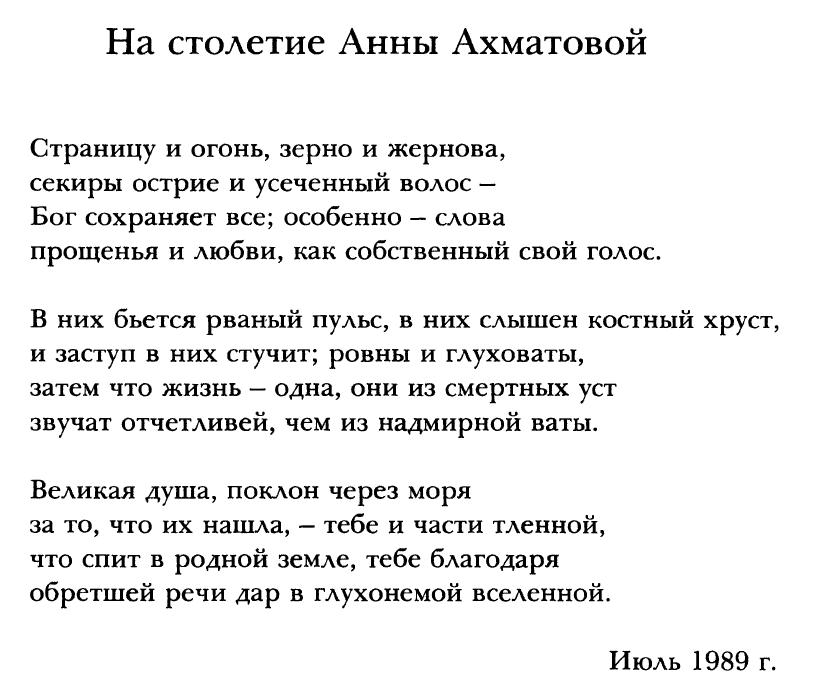
Ф – философия
У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы.
Ш – шизоидное расстройство личности
Бродский страдал невротическими проблемами с детства. С 1962 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В конце декабря 1963-го друзья поэта устроили его в психиатрическую больницу имени Кащенко, надеясь, что диагноз поможет избежать уголовного наказания. Но 2 января поэт попросил вызволить его оттуда: испугался, что сойдет с ума. При выписке у него диагностировали «шизоидное расстройство личности». Примерно в это же время он переживает расставание с первой важной любовью и режет вены. Второй раз Бродский загремел в лечебницу в 1964 году по решению суда. Там его три недели практически пытали, а в заключении написали «психопатические черты характера в наличии, но трудоспособен». Так Бродский получил полный срок. «Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дурдом лучше, чем тюрьма», – говорил он позже.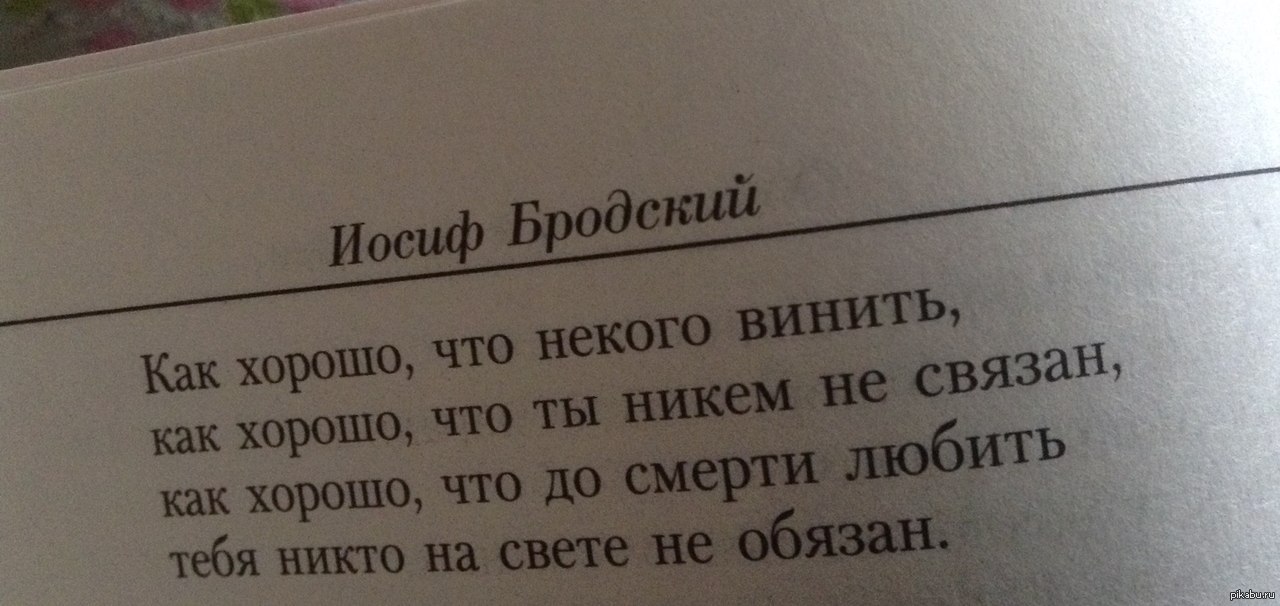 А свой опыт пребывания в лечебницах он вложил в поэму «Горбунов и Горчаков» – ее действие как раз происходит в психбольнице.
А свой опыт пребывания в лечебницах он вложил в поэму «Горбунов и Горчаков» – ее действие как раз происходит в психбольнице.
Э – эмиграция
После возвращения из ссылки надежд на активную творческую жизнь на родине почти не было. На Западе высоко оценили талант Бродского, иностранные журналисты записывали с ним интервью – это не могло не раздражать. В мае 1972 года от него потребовали покинуть страну, в случае отказа пообещали продолжить преследования. В кратчайшие сроки он получил визу и улетел в Вену. Оттуда его путь лежал в США, где ему предложил работу американский литературовед и переводчик Карл Проффер. Родители, друзья, бывшая возлюбленная Марианна Басманова и их сын – все остались в Ленинграде.
Я – январь
Первый сердечный приступ Бродский пережил еще в тюрьме в 1964 году, после было еще несколько инфарктов. Через 14 лет, уже в Нью-Йорке, он перенес операцию на открытом сердце, после нее нуждался в покое и уходе, но его родителям, не раз пытавшимся попасть к сыну, было отказано в выездной визе. Они больше так и не увиделись. Последний инфаркт случился в ночь на 28 января 1996 года – Бродского не стало за несколько месяцев до его 56-летия. Тело поэта в его кабинете обнаружила его жена Мария Соццани. Он читал книгу греческих эпиграмм.
Они больше так и не увиделись. Последний инфаркт случился в ночь на 28 января 1996 года – Бродского не стало за несколько месяцев до его 56-летия. Тело поэта в его кабинете обнаружила его жена Мария Соццани. Он читал книгу греческих эпиграмм.
Фото: Ulf Andersen/Getty, архив ТАСС, East News, «Википедия»
Анализ стихотворения Бродского “Любовь” 👍
Одной из самых таинственных возлюбленных Иосифа Бродского считается художница Марина Басманова, которую поэт даже считал своей невестой. Однако судьба распорядилась так, что пара рассталась – Марина ушла к другу Бродского, Дмитрию Бобышеву в новогоднюю ночь. В то время поэт скрывался в Москве, однако, узнав об измене, срочно вернулся в Ленинград, где спустя несколько дней и был арестован. Отношения Бобышева и Басмановой практически все друзья из окружения поэта восприняли, как предательство.
Тем не менее, эта девушка оставила в душе
поэта настолько глубокий след, что даже спустя 7 лет, в 1971 году, он посвятил ей стихотворение “Любовь”.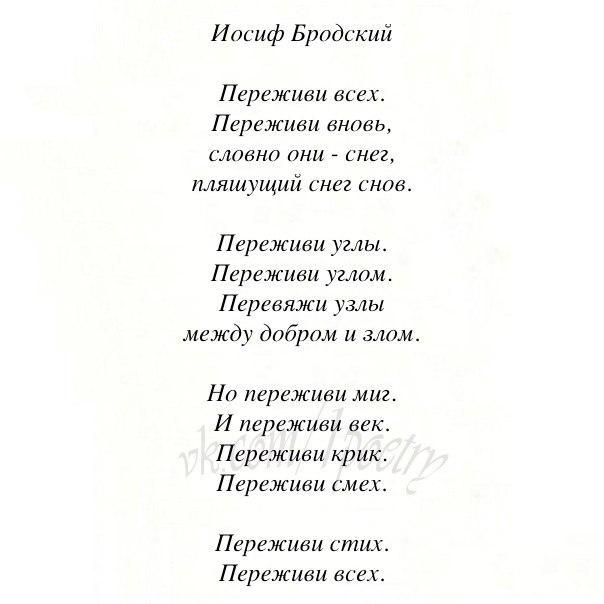
“Я дважды пробуждался этой ночью и брел к окну”, – первая строчка этого произведения отнюдь не настраивает на романтический лад. Вскоре подобное несоответствие объясняет сам поэт, так как из контекста произведения ясно, что речь идет о неразделенной любви. Точнее сказать, Бродский не знает, что именно испытывает к нему та, которую он считал своей невестой.
Однако поэт понимает, что если разрыв отношений произошел столь нелепым образом, то в этом виноваты оба.
Во сне Бродский видит свою
возлюбленную беременной, что вызвало у него весьма противоречивые чувства. “Проживши столько лет с тобой в разлуке. Я чувствовал вину свою”, – отмечает автор. Трудно понять, за что именно он винит самого себя. Вероятно, за то, что не смог сохранить эти отношения, которые до сих пор окутаны романтической тайной.Пытаясь прикоснуться во сне к любимой, поэт неизменно просыпается и бредет к окну. Ому горько оттого, что его возлюбленная осталась где-то там, во тьме его снов и иллюзий. На самом же деле у этого чувства горечи есть вполне осязаемая подоплека, так как Бродского вынудили уехать их Советского Союза, где он оставил своих родных, друзей и – Марину Басманову, которая после этого фактически превратилась в затворницу.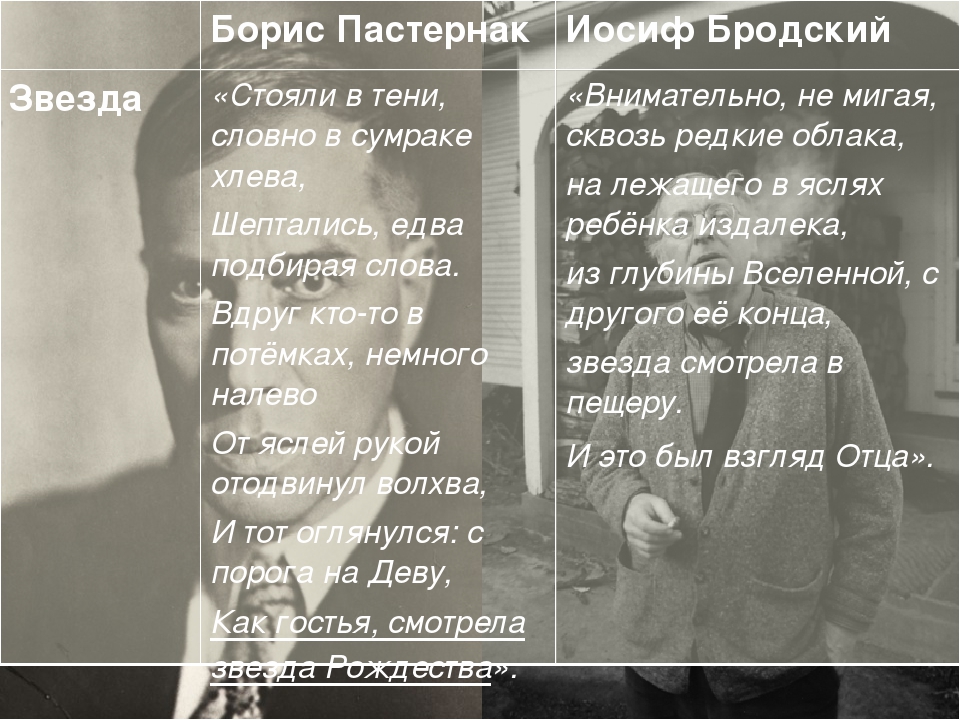
Однако во сне Бродский видит совсем иное, отмечая: “Мы там женаты, венчаны, мы те двуспинные чудовища, и дети лишь оправданье нашей наготе”. Поэт не сомневается, что в тяжелых и наполненных болью сновидениях, которые, тем не менее, дарят ему ощущение бесконечного счастья, Марина носит под сердцем его ребенка. И однажды настанет тот момент, когда во сне он увидит этого младенца, а затем примет решение навсегда остаться в “царстве теней” чтобы больше никогда не расставаться с теми, кто ему бесконечно дорог.
«На независимость Украины» как главное стихотворение Бродского
Стихотворение «На независимость Украины» — уже привычный аргумент в русско-украинских политических спорах. При этом все участники споров делают из Бродского удобную куклу для манипуляций. То его распекают, как провинившегося ученика выпускного класса русской литературы (в котором, конечно, мы-то все преподаем, а писатели нам сдают экзамены, волнуются, наверное), за то, что написал важную контрольную на двойку.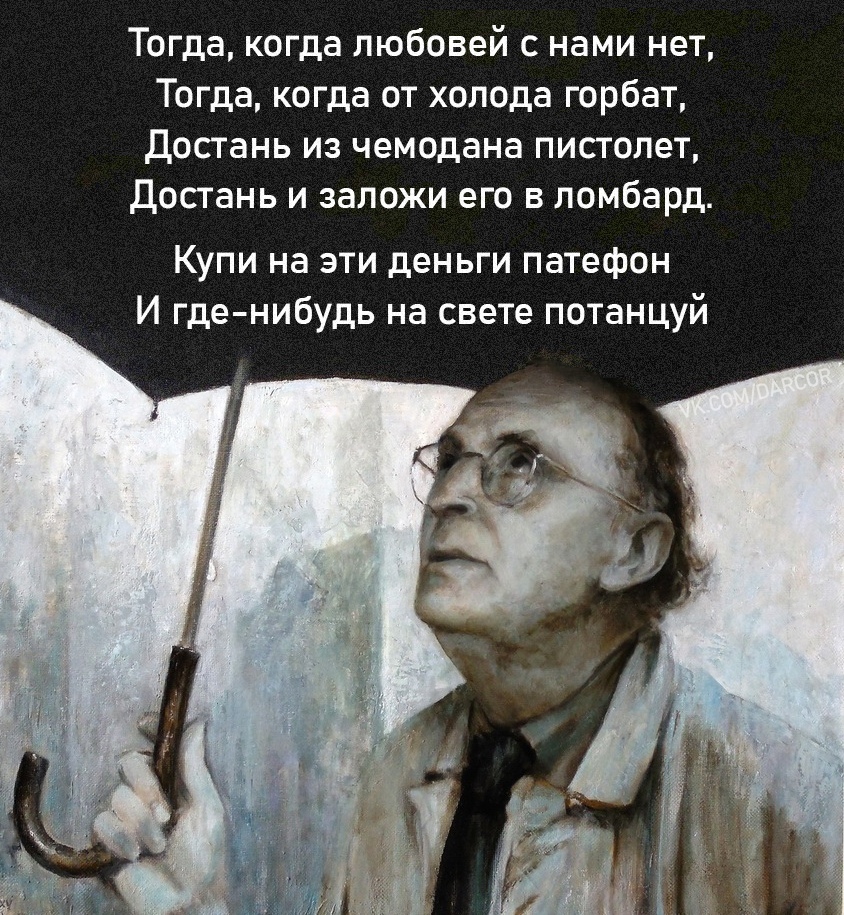 То его наряжают в русского империалиста, всегда подавлявшего в себе любовь к империи — но вот наконец-то высказавшегося на радость русским людям. Это довольно странно: перед нами все-таки поэтический текст, читать который как политическую статью, конечно, никто не возбраняет, но, вообще говоря, читать стихотворения как статьи — это все равно что рассматривать движения дирижера симфонического оркестра с точки зрения фехтовального искусства. Даже когда в какой-то полемической статье предпринимается попытка «поэтического анализа», она часто делается впроговорку и для отвода глаз, ибо все тут взрослые люди и понимают: поэзия тут не главное. Вообще, какая к черту поэзия, когда речь идет о важных политических вопросах и рушится империя?
То его наряжают в русского империалиста, всегда подавлявшего в себе любовь к империи — но вот наконец-то высказавшегося на радость русским людям. Это довольно странно: перед нами все-таки поэтический текст, читать который как политическую статью, конечно, никто не возбраняет, но, вообще говоря, читать стихотворения как статьи — это все равно что рассматривать движения дирижера симфонического оркестра с точки зрения фехтовального искусства. Даже когда в какой-то полемической статье предпринимается попытка «поэтического анализа», она часто делается впроговорку и для отвода глаз, ибо все тут взрослые люди и понимают: поэзия тут не главное. Вообще, какая к черту поэзия, когда речь идет о важных политических вопросах и рушится империя?
Понятно, что в последний год с небольшим из-за трагической войны на Украине (за которую наша страна все-таки несет львиную долю ответственности, и за развязывание, и за продолжение) воспринимать это стихотворение в отрыве от политической ситуации невозможно. И тем не менее — именно имея в виду скорейшее прекращение этой войны хотя бы в информационном, словесном поле — стоит обратить внимание на то, что обычно упускают, говоря об этом стихотворении. Это все-таки именно стихотворение, написать которое Бродского побудила (как он сказал 28 февраля 1994 года, прочитав его в Куинс-колледже), «печаль по поводу этого раскола» (sadness on behalf of that split). И — как поэтический текст — оно заслуживает несколько иного прочтения и отношения, чем политическое заявление или публицистическая статья.
И тем не менее — именно имея в виду скорейшее прекращение этой войны хотя бы в информационном, словесном поле — стоит обратить внимание на то, что обычно упускают, говоря об этом стихотворении. Это все-таки именно стихотворение, написать которое Бродского побудила (как он сказал 28 февраля 1994 года, прочитав его в Куинс-колледже), «печаль по поводу этого раскола» (sadness on behalf of that split). И — как поэтический текст — оно заслуживает несколько иного прочтения и отношения, чем политическое заявление или публицистическая статья.
Из общеизвестного: стихотворение «На независимость Украины» было написано, по всей видимости, в 1992 году. Это если иметь в виду дату 30 октября 1992 года, когда оно было публично прочитано в Пало-Альто и записано на видео. Это видео, впервые опубликованное в «Фейсбуке» Бориса Владимирского 8 апреля 2015 года, представляет собой, как следует из авторского описания, «отрывок из видеозаписи вечера Бродского в зале пало-альтовского Еврейского центра 30 октября 1992 года, где он читает “На независимость Украины” в присутствии почти тысячи слушателей».
Бродский, прекрасно осознавая «рискованный» (как он сам выразился перед тем чтением 1992 года) характер этого стихотворения, никогда и нигде его не печатал. Однако очевидно, что он считал его достаточно важным и несколько раз читал в разных русскоязычных аудиториях (известно о трех таких чтениях, в 1992, 1993 и 1994 годах). И оно, по вполне понятной причине, получило достаточно широкое распространение. Сначала стала известна аудиозапись авторского чтения 1994 года в Куинс-колледже, с которой были сделаны письменные расшифровки, в том числе с довольно сильными (из-за неважного качества записи) искажениями текста. Затем последовал период самиздатского существования этих расшифровок, затем публикации в периодике (украинской и российской), неизбежно неточные и в подавляющем количестве случаев посвященные, конечно, богатым и разнообразным русско-украинским отношениям и взаимным счетам.
Среди любителей Бродского тогда же возникла, условно говоря, партия тех, кто считает, что «лучше бы он этого стихотворения никому не читал, а еще лучше — вообще бы не писал» (были и те, кто сначала вообще отрицал его авторство).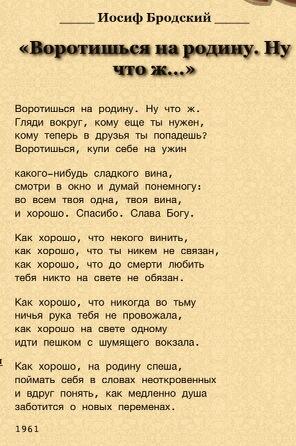 По их мнению, Бродский, написав это стихотворение, нарушил сразу множество очевидных табу: не только оскорбил украинцев, обозвав их разными обидными словами (что недопустимо для русского поэта и вообще приличного человека), но и солидаризировался с великодержавными шовинистами (которые воспользуются и т.д.). А кроме того, чуть ли не опроверг собственную биографию, ибо не от этих ли самых великодержавных империалистов (тогда — советских, но суть-то та же самая) он сам когда-то уехал? В таком восприятии есть не просто избирательная эстетическая глухота («ах, он назвал украинцев хохлами!» — это говорится так, будто Бродский стоял на улице и кричал всем проходящим украинцам: «хохлы!»), но и ставшая уже почти аксиомой застарелая ошибка восприятия текста и вообще литературы через непременную политическую оптику. О неединственности и необязательности такого восприятия и хочется сказать несколько слов.
По их мнению, Бродский, написав это стихотворение, нарушил сразу множество очевидных табу: не только оскорбил украинцев, обозвав их разными обидными словами (что недопустимо для русского поэта и вообще приличного человека), но и солидаризировался с великодержавными шовинистами (которые воспользуются и т.д.). А кроме того, чуть ли не опроверг собственную биографию, ибо не от этих ли самых великодержавных империалистов (тогда — советских, но суть-то та же самая) он сам когда-то уехал? В таком восприятии есть не просто избирательная эстетическая глухота («ах, он назвал украинцев хохлами!» — это говорится так, будто Бродский стоял на улице и кричал всем проходящим украинцам: «хохлы!»), но и ставшая уже почти аксиомой застарелая ошибка восприятия текста и вообще литературы через непременную политическую оптику. О неединственности и необязательности такого восприятия и хочется сказать несколько слов.
Любое стихотворение, имеющее своим предметом что угодно, — это, конечно, прежде всего автопортрет, оно всегда прежде всего говорит о поэте и лишь в самую последнюю очередь — обо всем остальном. Пушкин, написавший «Клеветникам России» и попавший под светскую обструкцию и под осуждение многих своих друзей и знакомых, был между тем совершенно искренним. И неслучайно ни с кем из осуждавших его близких людей не поссорился. Он действительно полагал необходимым подавление польского восстания, и тем, кто сегодня читает этот его текст, остается только принять это к сведению: да, Пушкин был таким («варваром», как писал Александр Тургенев своему брату Николаю, ощутившим какой-то внутренний подъем от совпадения своего отношения к происходящим событиям с позицией царя и правительства). В его отношениях с царем и двором бывали разные страницы, была и такая. И если воспринимать его жизнь не как череду правильных и неправильных поступков (за которые мы, конечно же, всегда готовы поставить ему оценку по поведению), а как нечто цельное, как жизнь человека, жившего в постоянном поиске согласия и диалога между своим внутренним ощущением правильности слов и поступков и мнениями окружающих его и дорогих ему людей, Пушкин был в написании этого текста совершенно равен себе.
Пушкин, написавший «Клеветникам России» и попавший под светскую обструкцию и под осуждение многих своих друзей и знакомых, был между тем совершенно искренним. И неслучайно ни с кем из осуждавших его близких людей не поссорился. Он действительно полагал необходимым подавление польского восстания, и тем, кто сегодня читает этот его текст, остается только принять это к сведению: да, Пушкин был таким («варваром», как писал Александр Тургенев своему брату Николаю, ощутившим какой-то внутренний подъем от совпадения своего отношения к происходящим событиям с позицией царя и правительства). В его отношениях с царем и двором бывали разные страницы, была и такая. И если воспринимать его жизнь не как череду правильных и неправильных поступков (за которые мы, конечно же, всегда готовы поставить ему оценку по поведению), а как нечто цельное, как жизнь человека, жившего в постоянном поиске согласия и диалога между своим внутренним ощущением правильности слов и поступков и мнениями окружающих его и дорогих ему людей, Пушкин был в написании этого текста совершенно равен себе.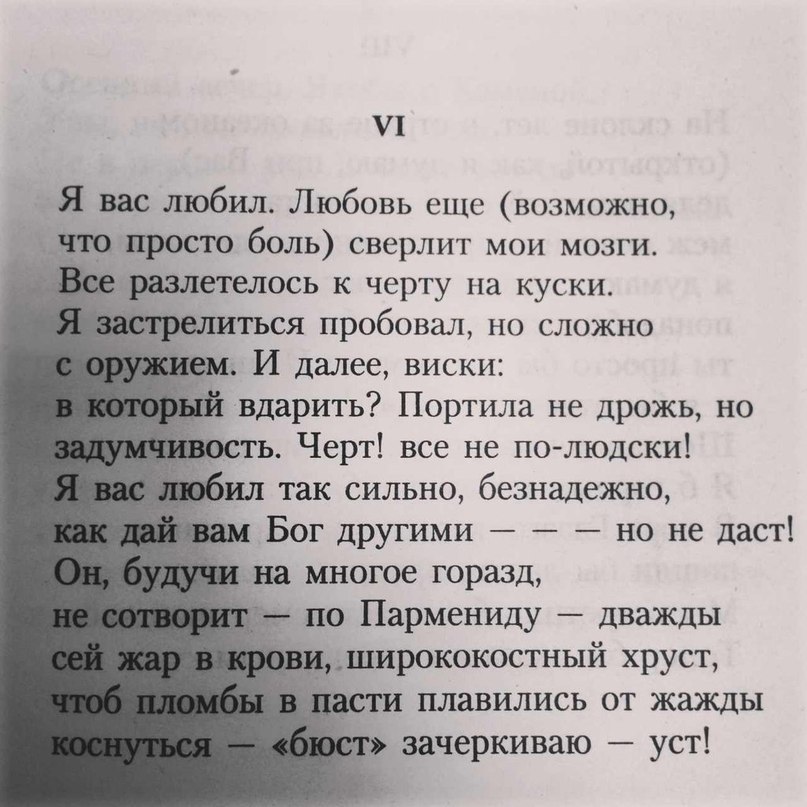 И в биографии Пушкина эти стихи — это еще одна страница, прожитая им в живом диалоге с собой и с миром, не более и не менее. Мицкевич, конечно, был оскорблен — и были написаны обидные строки про Пушкина, и Пушкин даже набрасывал ответ…
И в биографии Пушкина эти стихи — это еще одна страница, прожитая им в живом диалоге с собой и с миром, не более и не менее. Мицкевич, конечно, был оскорблен — и были написаны обидные строки про Пушкина, и Пушкин даже набрасывал ответ…
В «Клеветниках России», кстати, Пушкин говорит «мы»: «Так посылайте к нам, витии…» Что там имел в виду Пушкин под этим «мы» (и почему Чаадаев назвал его после этого стихотворения в письме «народным поэтом»), наверное, уже разобрали пушкинисты. Но показательно, что и Бродский в «На независимость Украины» тоже говорит не «я», а «мы». Стихотворения, написанные от лица вот такого «мы», у Бродского были и раньше: вот, навскидку, например «Песня невинности, она же — опыта». Высказывание от такого коллективного «мы» — это замечательный опыт литературной игры, когда поэт как бы перестает быть субъектом высказывания, уступая место этому «мы», но при этом сохраняет в этом высказывании свое присутствие. Причем не столько как «выразитель высказанных мнений», сколько как человек, для которого эти выраженные мнения являются частью его внутреннего мира, пережитые им в какой-то момент как свои, но не ставшие своими.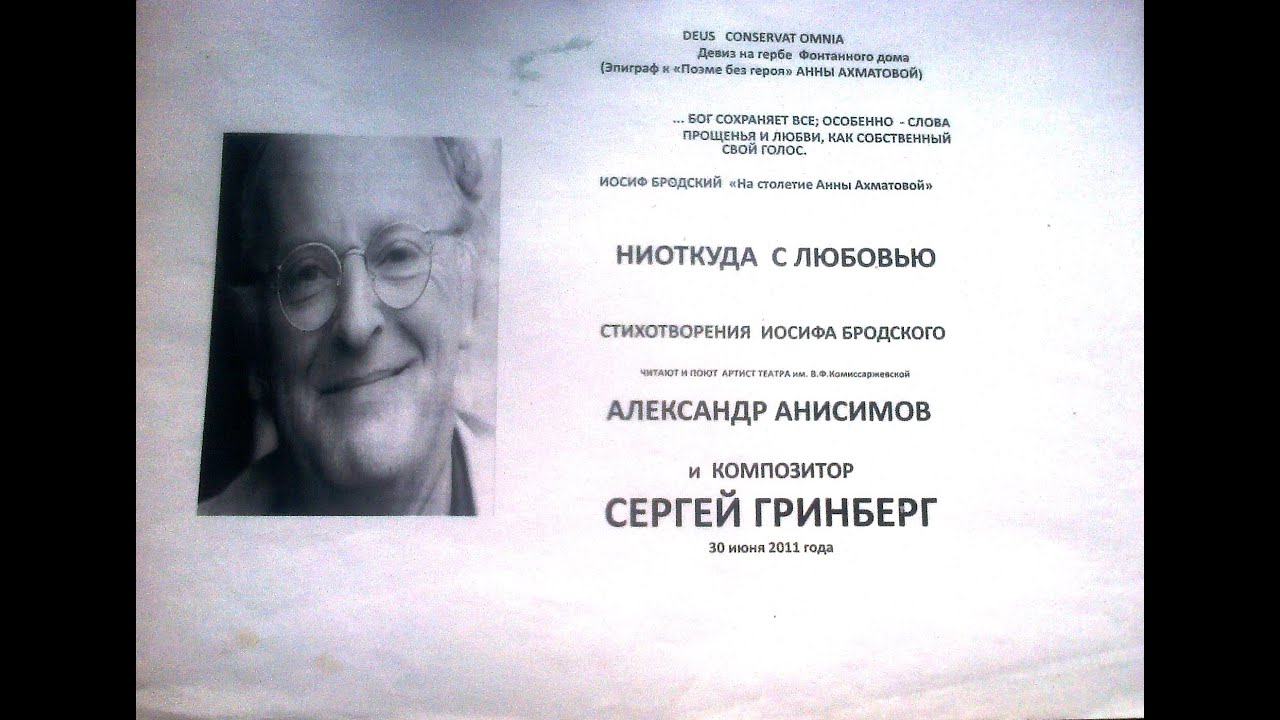 Смысловое и стилистическое соотношение этого «мы» с авторским «я» — предмет отдельного разговора, но важно отметить, что здесь нет полного тождества, а есть то самое артистическое переживание и вживание, без которого невозможна литература. Я клоню к тому, что именно в этом ключе надо воспринимать все те резкости, которые адресованы Бродским украинцам и которые старательно выписывают столбиком в протокол люди без поэтического слуха. Сниженная лексика и базарная интонация — это как раз и есть, простите за каламбур, та самая высокая литературная игра.
Смысловое и стилистическое соотношение этого «мы» с авторским «я» — предмет отдельного разговора, но важно отметить, что здесь нет полного тождества, а есть то самое артистическое переживание и вживание, без которого невозможна литература. Я клоню к тому, что именно в этом ключе надо воспринимать все те резкости, которые адресованы Бродским украинцам и которые старательно выписывают столбиком в протокол люди без поэтического слуха. Сниженная лексика и базарная интонация — это как раз и есть, простите за каламбур, та самая высокая литературная игра.
Кроме того, картину оскорбительных инвектив в адрес украинцев вполне гармонично дополняют убийственные слова Бродского в свой («наш») адрес: «Не нам, кацапам, их упрекать в измене» — и дальше там много поучительного о нас, кацапах, почитайте. Так что не только на литературном, а даже на рыночном уровне («а я ему, а он мне») в стихотворении отсутствует столь милая сердцу любителей поразмахивать этим стихотворением, как дубинкой, односторонность. Оно и про нас тоже.
Оно и про нас тоже.
Не стоит забывать еще и о том, что уход Украины был для Бродского (который считал Галицию своей родиной, говоря в разговорах с друзьями о «Бродских — то есть родом из Брод») еще и личным потрясением. Вместе с Украиной из общего дома, объединенного языком, историей и, наконец, его собственным культурным опытом, уходила и Галиция. То есть та огромная страна, которую он не только покинул, но и культурное отражение которой в каком-то смысле выстроил внутри себя (и увез с собой), на его глазах перестала существовать. Можно сказать, что вместо одной родины у него в этом смысле — после разделения Украины и России — оказалось даже не две родины, а не осталось ни одной. Отсюда и острота переживания «этого раскола». То есть распад единого государства России и Украины был для него проблемой абсолютно личной.
Наконец, невозможно не поймать себя на сходстве этого стихотворения — прежде всего в интонационном отношении и в том, что называется «отношением автора», — со многими стихотворениями, посвященными женщинам и написанными Бродским после разрыва с ними. Есть и забавные текстуальные переклички (ироническое «он ставит Микелину раком» из «Пьяцца Маттеи» тут же приходит в голову, когда читаешь в «На независимость Украины» про «…на четыре кости, поганцы», и так далее). Но главное — это, конечно, та самая «послеразрывная» интонация. Все, кто читал стихотворения, адресованные, например, «МБ», наверняка услышали эту интонацию и в «На независимость Украины». Бродский довольно неожиданно воспроизвел в этом, казалось бы, совсем не личном стихотворении именно эту очень личную интонацию (что еще раз подтверждает то, что было сказано выше о Галиции). И в этом смысле стихотворение «На независимость Украины» является — со всеми своими грубостями, несправедливостями, почти площадной бранью «в спину» уходящей из общего дома исторической родине — фактически любовным стихотворением, в каком-то смысле даже объяснением в любви Украине. «И, судя по письмам, чудовищно поглупела» — это ведь тоже объяснение в любви, пусть в форме почти оскорбительной.
Есть и забавные текстуальные переклички (ироническое «он ставит Микелину раком» из «Пьяцца Маттеи» тут же приходит в голову, когда читаешь в «На независимость Украины» про «…на четыре кости, поганцы», и так далее). Но главное — это, конечно, та самая «послеразрывная» интонация. Все, кто читал стихотворения, адресованные, например, «МБ», наверняка услышали эту интонацию и в «На независимость Украины». Бродский довольно неожиданно воспроизвел в этом, казалось бы, совсем не личном стихотворении именно эту очень личную интонацию (что еще раз подтверждает то, что было сказано выше о Галиции). И в этом смысле стихотворение «На независимость Украины» является — со всеми своими грубостями, несправедливостями, почти площадной бранью «в спину» уходящей из общего дома исторической родине — фактически любовным стихотворением, в каком-то смысле даже объяснением в любви Украине. «И, судя по письмам, чудовищно поглупела» — это ведь тоже объяснение в любви, пусть в форме почти оскорбительной.
Но многолетняя полемика вокруг стихотворения настолько осложнила возможность его спокойного, вне политики, восприятия, что даже, например, сделала невозможной публикацию этого текста в недавнем капитальном двухтомнике Бродского в «Библиотеке поэта» под редакцией Л. Лосева (2011). На исключении этого стихотворения настоял Фонд по управлению наследственным имуществом Бродского (Estate of Joseph Brodsky). Осталось только упоминание в примечаниях, что само по себе, конечно, явление исключительное, если не сказать абсурдное.
Лосева (2011). На исключении этого стихотворения настоял Фонд по управлению наследственным имуществом Бродского (Estate of Joseph Brodsky). Осталось только упоминание в примечаниях, что само по себе, конечно, явление исключительное, если не сказать абсурдное.
И это исключение из состава двухтомника «Библиотеки поэта» окончательно поставило стихотворение «На независимость Украины» в совершенно особое положение в общем собрании текстов Бродского. Во-первых, на сегодня это, кажется, единственное действительно значительное стихотворение поэта, которое до сих пор, в строгом смысле слова, «не опубликовано». Нет ни одной книги Бродского, в котором имелся бы выверенный и откомментированный его текст. Бродский и его наследники, сами того совершенно не желая, оказались жертвами собственных благих намерений и сделали максимум возможного, чтобы «На независимость Украины» воспринималось совершенно обособленно от всего им написанного. Стихотворению сегодня навязана (во многом искусственно) настолько одномерная трактовка, что его существование сейчас возможно только в режиме «полупризнания», если перенести политический термин в плоскость литературы: вроде бы оно и есть, это стихотворение, но в то же время его как бы и нет — по крайней мере нет ни в одной книге.
Непубликация стихотворения, по мысли наследников, видимо, была призвана уменьшить ответственность Бродского за этот текст, а заодно и каким-то образом понизить статус этого стихотворения путем накладывания на него печати «продолженного осуждения» от имени умершего почти 20 лет назад автора, который и сегодня — руками наследников — продолжает отказываться от его публикации. Все эти строгие меры, безусловно, служат чему-то важному и скучному (прежде всего уверенности наследников и душеприказчиков в правильном понимании ими своего долга), но при этом именно они активно способствуют тому, что это стихотворение становится на наших глазах одним из главных стихотворений Бродского.
Этим стихотворением Бродский как раз не столько «опроверг», сколько в каком-то смысле подтвердил свою биографию эмигранта. «На независимость Украины» — это и есть стихотворение-эмигрант, сбежавшее из поэтической империи автора, покинувшее уютные и мертвоватые академические полки с его авторизованными изданиями и отправившееся в плавание — сначала по волнам самиздата, как полагается, — к своей незаконной известности. Это стихотворение еще долго будет незакрытой форточкой в его поэзию, через которую в нее всегда будут проникать сквозняки неакадемического интереса. Думаю, когда-нибудь это хаотичное, растрепанное и уязвимое для критики, но великолепное, мощное и страстное стихотворение будет издано отдельной книгой — с подробным комментарием, в котором будут разобраны все переклички с другими стихами и поэмами Бродского. Со статьями, в которых будет по достоинству оценена его попытка оставить за поэзией право судить о политике, не становясь политикой. Мне кажется, именно по этой величественной прощальной любовной антиоде и будут судить в будущем, насколько близки были когда-то Украина и Россия. Но ни нам, ныне живущим кацапам, ни им, ныне живущим хохлам, до такого восприятия, видимо, не дожить.
Это стихотворение еще долго будет незакрытой форточкой в его поэзию, через которую в нее всегда будут проникать сквозняки неакадемического интереса. Думаю, когда-нибудь это хаотичное, растрепанное и уязвимое для критики, но великолепное, мощное и страстное стихотворение будет издано отдельной книгой — с подробным комментарием, в котором будут разобраны все переклички с другими стихами и поэмами Бродского. Со статьями, в которых будет по достоинству оценена его попытка оставить за поэзией право судить о политике, не становясь политикой. Мне кажется, именно по этой величественной прощальной любовной антиоде и будут судить в будущем, насколько близки были когда-то Украина и Россия. Но ни нам, ныне живущим кацапам, ни им, ныне живущим хохлам, до такого восприятия, видимо, не дожить.
Иосиф Бродский | Фонд Поэзии
Иосиф Александрович Бродский был оскорблен и преследован официальными лицами в его родном Советском Союзе, но западный литературный истеблишмент превозносил его как одного из лучших поэтов этой страны.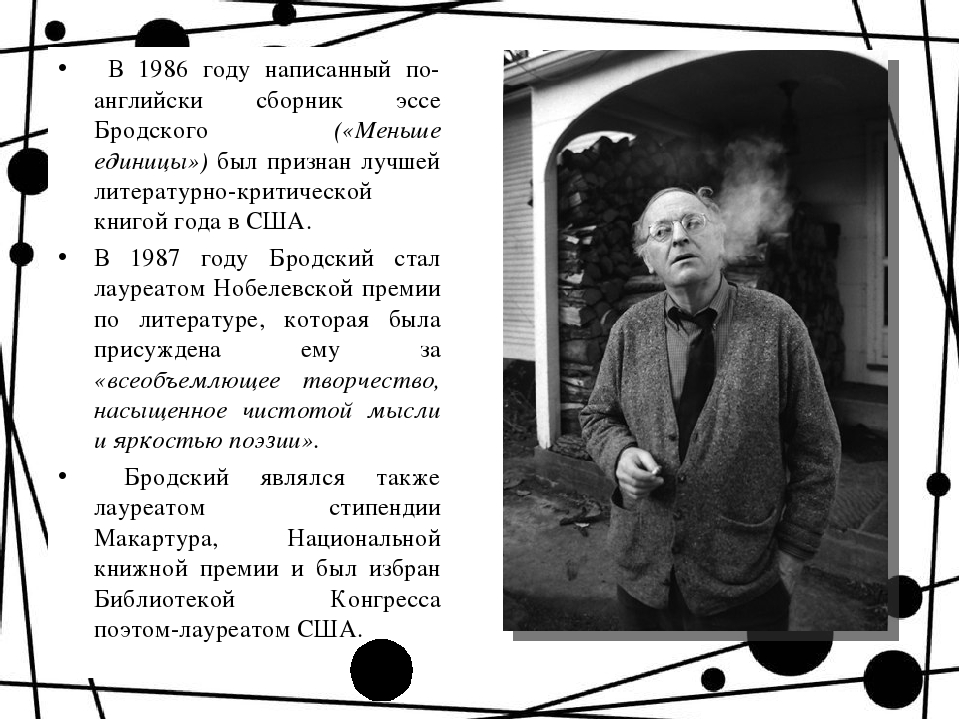 Стихи его отличались ироническим остроумием и духом огненной независимости. С того момента, как он начал их публиковать — как под своим именем, так и под именем Иосиф Бродский, — он вызвал гнев советских властей.Его также преследовали за то, что он был евреем. Его привлекли к суду за «тунеядство», и тайная запись этого процесса помогла привлечь внимание Запада, поскольку он отвечал своим следователям смелым и четко выраженным идеализмом. Бродский был отправлен в советскую психиатрическую лечебницу, а затем провел пять лет в Архангельске, арктическом лагере. Общественный резонанс со стороны американских и европейских интеллектуалов помог добиться его досрочного освобождения. Вынужденный эмигрировать, он переехал в Мичиган в 1972 году, где с помощью поэта У.Х. Оден, он поселился в Мичиганском университете в Анн-Арборе как поэт. Затем он преподавал в нескольких университетах, включая Queens College в Нью-Йорке и Mount Holyoke College в Массачусетсе. Он продолжал писать стихи, часто писал на русском языке и переводил свои работы на английский, и в конечном итоге получил Нобелевскую премию за свою работу.
Стихи его отличались ироническим остроумием и духом огненной независимости. С того момента, как он начал их публиковать — как под своим именем, так и под именем Иосиф Бродский, — он вызвал гнев советских властей.Его также преследовали за то, что он был евреем. Его привлекли к суду за «тунеядство», и тайная запись этого процесса помогла привлечь внимание Запада, поскольку он отвечал своим следователям смелым и четко выраженным идеализмом. Бродский был отправлен в советскую психиатрическую лечебницу, а затем провел пять лет в Архангельске, арктическом лагере. Общественный резонанс со стороны американских и европейских интеллектуалов помог добиться его досрочного освобождения. Вынужденный эмигрировать, он переехал в Мичиган в 1972 году, где с помощью поэта У.Х. Оден, он поселился в Мичиганском университете в Анн-Арборе как поэт. Затем он преподавал в нескольких университетах, включая Queens College в Нью-Йорке и Mount Holyoke College в Массачусетсе. Он продолжал писать стихи, часто писал на русском языке и переводил свои работы на английский, и в конечном итоге получил Нобелевскую премию за свою работу. Его преобладающими темами были изгнание и потеря, и его широко хвалили за его запоминающийся красноречивый стиль.
Его преобладающими темами были изгнание и потеря, и его широко хвалили за его запоминающийся красноречивый стиль.
Во многом Бродский до отъезда на родину жил в ссылке.Его отец потерял звание в российском флоте, потому что был евреем, а семья жила в бедности. Пытаясь избежать постоянно присутствующих образов Ленина, Бродский бросил школу и начал самостоятельное обучение, читая классику литературы и работая на различных необычных работах, в том числе помогая коронеру и геологу в Средней Азии. Он выучил английский и польский, чтобы переводить стихи Джона Донна и Чеслава Милоша. Его собственная поэзия выражала его независимый характер с оригинальностью, которой восхищались такие поэты, как Анна Ахматова.
По мнению обозревателя Times Literary Supplement , поэзия Бродского «религиозна, интимна, депрессивна, иногда сбита с толку, иногда мученически сознательна, иногда элитарна в своих взглядах, но она не является нападением на советское общество или идеологию, если только не отказаться и изоляция сознательно истолковываются как нападение: конечно, они могут быть и, очевидно, были ».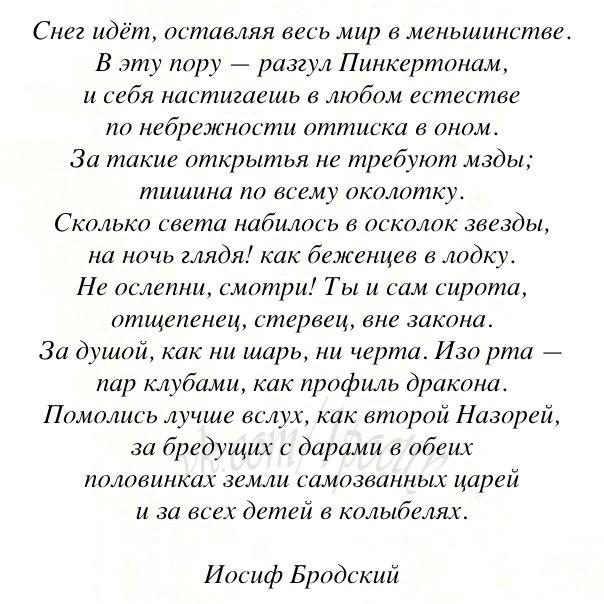 По мнению обозревателя журнала « Time», изгнание поэта из России было «кульминацией необъяснимой вендетты тайной полиции против него, которая продолжается уже более десяти лет.Бродский сказал: «Меня просто выгнали из моей страны, используя еврейский вопрос как предлог». Впервые эта вендетта достигла апогея на ленинградском процессе в 1964 году, когда Бродскому было предъявлено обвинение в написании «тарабарщины» вместо честной работы; он был приговорен к пяти годам каторжных работ. Протесты художников и писателей помогли добиться его освобождения через 18 месяцев, но его стихи по-прежнему были запрещены. Израиль пригласил его иммигрировать, и правительство поощряло его уехать; Бродский, однако, отказался, объяснив это тем, что не идентифицирует себя с еврейским государством.В конце концов, российские чиновники настояли на том, чтобы он покинул страну. Несмотря на давление, Бродский, как сообщается, написал Леониду Брежневу перед отъездом из Москвы с просьбой о «возможности продолжать существовать в русской литературе и на российской земле».
По мнению обозревателя журнала « Time», изгнание поэта из России было «кульминацией необъяснимой вендетты тайной полиции против него, которая продолжается уже более десяти лет.Бродский сказал: «Меня просто выгнали из моей страны, используя еврейский вопрос как предлог». Впервые эта вендетта достигла апогея на ленинградском процессе в 1964 году, когда Бродскому было предъявлено обвинение в написании «тарабарщины» вместо честной работы; он был приговорен к пяти годам каторжных работ. Протесты художников и писателей помогли добиться его освобождения через 18 месяцев, но его стихи по-прежнему были запрещены. Израиль пригласил его иммигрировать, и правительство поощряло его уехать; Бродский, однако, отказался, объяснив это тем, что не идентифицирует себя с еврейским государством.В конце концов, российские чиновники настояли на том, чтобы он покинул страну. Несмотря на давление, Бродский, как сообщается, написал Леониду Брежневу перед отъездом из Москвы с просьбой о «возможности продолжать существовать в русской литературе и на российской земле».
Поэзия Бродского несет на себе следы его противостояния с российскими властями. «Бродский — это тот, кто пробовал чрезвычайно горький хлеб, — писал Стивен Спендер в« New Statesman, », — и его стихи кажутся стиснутыми в зубах.… Не следует думать, что он либерал или даже социалист. Он имеет дело с неприятными, враждебными истинами и является реалистом наименее утешительного и удобного. Все хорошее, что вы хотели бы, чтобы он думал, он не думает. Но он предельно правдив, глубоко религиозен, бесстрашен и чист. Любить, а также ненавидеть ».
Хотя можно было ожидать, что стихи Бродского носят политический характер, это не так. «Повторяющиеся темы Бродского — это традиционные, действительно вневременные заботы лирических поэтов: человек и природа, любовь и смерть, неотвратимость страданий, хрупкость человеческих достижений и привязанностей, драгоценность привилегированного момента,« неповторимость ».«Суть его поэзии не столько аполитична, сколько антиполитична, — писал Виктор Эрлих. «Его осажденным грехом было не« инакомыслие »в собственном смысле этого слова, а полное и в целом незаметно демонстративное отчуждение от советского этоса».
«Его осажденным грехом было не« инакомыслие »в собственном смысле этого слова, а полное и в целом незаметно демонстративное отчуждение от советского этоса».
Бродский подробно остановился на взаимосвязи между поэзией и политикой в своей Нобелевской лекции «Необычный облик», опубликованной в журнале Poets & Writers . По его словам, искусство учит писателя «уединенности человеческого состояния.Будучи самой древней и самой буквальной формой частного предпринимательства, она воспитывает в человеке … чувство своей уникальности, индивидуальности или обособленности, превращая его из социального животного в автономное «я» … искусства, особенно литературы, и стихотворения, в частности, обращается к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые — свободные от каких-либо посредников — отношения ».
Кроме того, литература указывает на опыт, выходящий за рамки политических ограничений. Бродский заметил: «Язык и, по-видимому, литература — вещи более древние и неизбежные, более прочные, чем любая форма социальной организации. Отвращение, ирония или безразличие, часто выражаемое в литературе по отношению к государству, по сути является реакцией постоянного — а еще лучше бесконечного — против временного, против конечного. … Реальная опасность для писателя заключается не столько в возможности (а часто и в уверенности) преследований со стороны государства, сколько в возможности оказаться загипнотизированным чертами государства, которые, будь то чудовищные или претерпевающие изменения для лучше, всегда временны ».
Отвращение, ирония или безразличие, часто выражаемое в литературе по отношению к государству, по сути является реакцией постоянного — а еще лучше бесконечного — против временного, против конечного. … Реальная опасность для писателя заключается не столько в возможности (а часто и в уверенности) преследований со стороны государства, сколько в возможности оказаться загипнотизированным чертами государства, которые, будь то чудовищные или претерпевающие изменения для лучше, всегда временны ».
Бродский продолжил, что творческое письмо является важным упражнением для индивидуальной свободы, поскольку писатель должен делать множество эстетических суждений и выборов в процессе композиции.Он указал: «Именно в этом… смысле мы должны понимать замечание Достоевского о том, что красота спасет мир, или веру Мэтью Арнольда в то, что мы будем спасены поэзией. Возможно, для мира уже слишком поздно, но для отдельного человека всегда остается шанс. … Если то, что отличает нас от других представителей животного царства, — это речь, тогда литература — и, в частности, поэзия, являющаяся высшей формой речи — это, грубо говоря, цель нашего вида ».
Еще более убедительными, чем связь между поэзией и политикой, являются отношения между писателем и его языком, заявил Бродский.Он объяснил, что первое переживание писателя, когда он берет перо, чтобы писать, «это … ощущение немедленного попадания в зависимость от языка, от всего, что уже было сказано, написано и сделано на нем». Но прошлые достижения языка затрагивают писателя не больше, чем ощущение его огромного потенциала. Бродский добавил: «Бывают моменты, когда с помощью одного слова, единственной рифмы писателю стихотворения удается найти себя там, где никто никогда не был до него, возможно, дальше, чем он сам хотел бы.… Один раз испытав это ускорение… один попадает в зависимость от этого процесса, как другие попадают в зависимость от наркотиков или алкоголя ».
В соответствии с этими взглядами поэзия Бродского известна своей оригинальностью. Артур С. Джейкобс в « Jewish Quarterly » отмечал, что Бродский «совершенно не похож на то, что принято считать основным течением русского стиха». Критик в New Leader писал: «Шумная разглагольствования и установочная риторика по поводу общественных проблем излишни для морального видения Бродского и противоречат его ремеслу.Как и все великие лирики, Бродский обращает внимание на непосредственное, конкретное, на то, что он внутренне знал и чувствовал, на ясность наблюдения, усиленную и определяемую мыслью ».
Критик в New Leader писал: «Шумная разглагольствования и установочная риторика по поводу общественных проблем излишни для морального видения Бродского и противоречат его ремеслу.Как и все великие лирики, Бродский обращает внимание на непосредственное, конкретное, на то, что он внутренне знал и чувствовал, на ясность наблюдения, усиленную и определяемую мыслью ».
Хотя многие критики соглашались, что Бродский был одним из лучших современных русских поэтов, некоторые считали, что английские переводы его стихов менее впечатляют. Комментируя перевод Джорджа Л. Клайна « избранных стихотворений», Джозеф Бродский, Стивен Спендер писал: «Эти стихотворения впечатляют на английском языке, хотя остается только представить себе техническую виртуозность блестящих рифм в оригиналах.… Никогда нельзя полностью забывать, что он читает подержанную версию ». В A Part of Speech, Бродский собрал работы нескольких переводчиков и внес поправки в некоторые английские версии, пытаясь восстановить характер оригиналов. Личный стиль Бродского остается несколько неуловимым в этой коллекции из-за тонких эффектов, которые он достигает в оригинальном русском языке, как заметил Том Симмонс в Christian Science Monitor. Бродский, по его словам, «поэт драматического, но тонкого видения, человек с чувством все более затемненной высоты человеческой жизни.Но ни при каких обстоятельствах его поэзия не бывает тупо-эфирной. … Он может с такой же ясностью изобразить яркий момент или время, казалось бы, бессмысленных страданий ».
Личный стиль Бродского остается несколько неуловимым в этой коллекции из-за тонких эффектов, которые он достигает в оригинальном русском языке, как заметил Том Симмонс в Christian Science Monitor. Бродский, по его словам, «поэт драматического, но тонкого видения, человек с чувством все более затемненной высоты человеческой жизни.Но ни при каких обстоятельствах его поэзия не бывает тупо-эфирной. … Он может с такой же ясностью изобразить яркий момент или время, казалось бы, бессмысленных страданий ».
Эрлих также считал, что некоторые из строк в Избранных стихотворениях «натянутые или мутные», но что Бродский в своих лучших проявлениях обладал «оригинальностью, остротой, глубиной и формальным мастерством, которые присущи крупному поэту». Чеслав Милош чувствовал, что биография Бродского позволяет ему вносить жизненно важный вклад в литературу. В New York Review of Books, Милош писал: «За поэзией Бродского стоит опыт политического террора, опыт унижения человека и роста тоталитарной империи. … Мне интересно читать его стихи как часть его более крупного предприятия, которое является не менее чем попыткой укрепить место человека в угрожающем мире ». Это предприятие связывало Бродского с литературными традициями других времен и культур. Эрлих пришел к выводу, что «богатство и многогранность его дарований, живость и энергия его интеллекта, а также его все более тесная связь с англо-американской литературной традицией служат хорошим предзнаменованием для его выживания в изгнании и даже для его дальнейшего творческого роста.
… Мне интересно читать его стихи как часть его более крупного предприятия, которое является не менее чем попыткой укрепить место человека в угрожающем мире ». Это предприятие связывало Бродского с литературными традициями других времен и культур. Эрлих пришел к выводу, что «богатство и многогранность его дарований, живость и энергия его интеллекта, а также его все более тесная связь с англо-американской литературной традицией служат хорошим предзнаменованием для его выживания в изгнании и даже для его дальнейшего творческого роста.
Ссылка всегда давалась Бродскому тяжело. В одном стихотворении он описал изгнанного писателя как человека, «который выживает, как рыба в песке». Несмотря на эти чувства, Бродского в основном не трогали радикальные политические изменения, сопровождавшие распад Советского Союза. Он сказал Дэвиду Ремнику, тогда работавшему в Washington Post , что эти изменения «лишены автобиографического интереса» для него и что он верен своему языку. В Detroit Free Press, Боб МакКелви процитировал заявление Бродского из письма: «Я принадлежу к русской культуре. Я чувствую себя частью этого, его составляющей, и никакая смена места не может повлиять на конечные последствия этого. Язык — вещь гораздо более древняя и неизбежная, чем государство. Я принадлежу к русскому языку ».
Я чувствую себя частью этого, его составляющей, и никакая смена места не может повлиять на конечные последствия этого. Язык — вещь гораздо более древняя и неизбежная, чем государство. Я принадлежу к русскому языку ».
Незадолго до своей смерти в 1996 году Бродский завершил So Forth, сборник стихов, которые он написал на английском языке или сам перевел стихи, которые он написал на русском языке. So Forth был оценен ниже лучших работ Бродского несколькими критиками, в том числе Майклом Гловером, который в New Statesman охарактеризовал сборник как «больше неудач, чем успеха.Гловер чувствовал, что слишком часто Бродский «впадает в своего рода отважный сленг, своего рода грубую мускулатуру, которая, в худшем случае, читается как смущающий собачонок». Третьи сочли So Forth мощным, например обозреватель Publishers Weekly , который назвал его «удивительным сборником писателя, способного смешать интеллектуальное и чувственное, политическое и интимное, элегическое и комическое. … Смерть Бродского — потеря для литературы; его последний сборник стихов — лучшее утешение, о котором мы только могли мечтать.”
… Смерть Бродского — потеря для литературы; его последний сборник стихов — лучшее утешение, о котором мы только могли мечтать.”
Сборник стихов на английском языке, опубликовано посмертно, представляет собой исчерпывающий сборник переведенных произведений Бродского и его оригинальных произведений на английском языке. Это «драматично и иронично, меланхолично и блаженно», — написала Донна Симан в Книжном списке . Она утверждала, что этот том «станет одним из главных событий двадцатого века». Сборник стихов на английском языке — это «высококлассная, искусная и увлекательная книга, в которой есть талант к использованию богатства языка и глубокая печаль», по оценке Джуди Кларенс в журнале Library Journal. Согласно Свену Биркертсу в New York Review of Books, он отражает характерное для Бродского чувство «отойти в сторону и с недоумением всматриваться» в жизнь. Биркертс заключил: «Бродский бросился на мир со всей силой и превратил свое восприятие в линии, которые довольно вибрируют от того, что его просят удерживать.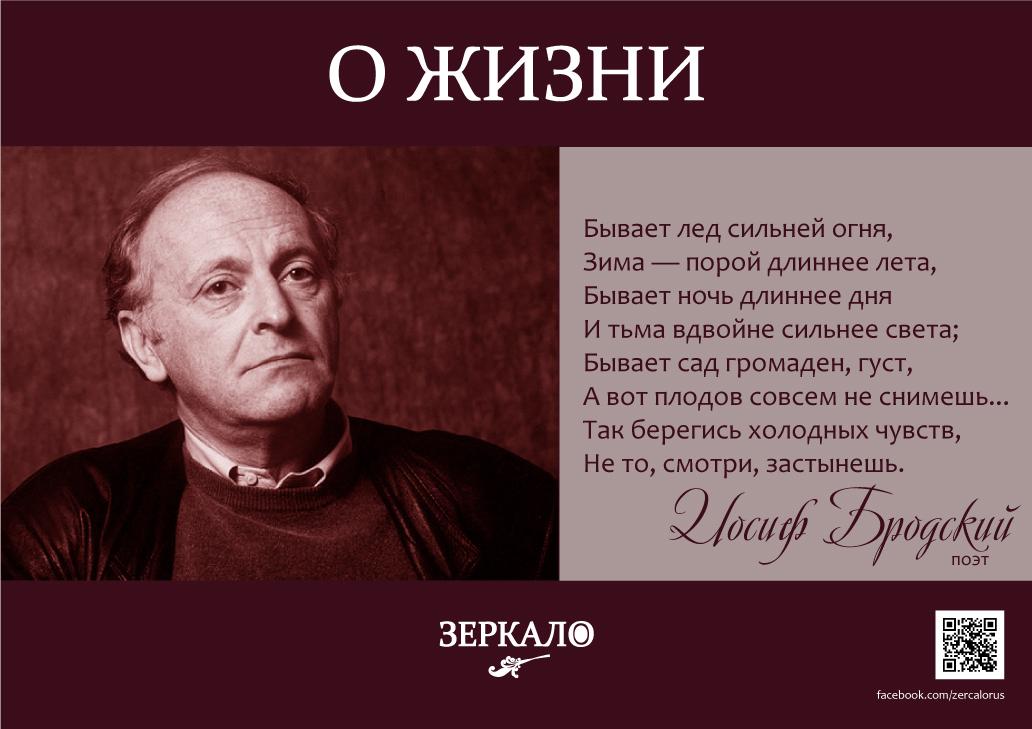 Нет ни голоса, ни видения, хотя бы отдаленно.
Нет ни голоса, ни видения, хотя бы отдаленно.
Подарок | The New Yorker
Осенью 1963 года в Ленинграде, на территории бывшего тогда Союза Советских Социалистических Республик, молодой поэт Дмитрий Бобышев похитил девушку молодого поэта Иосифа Бродского.Это было не круто. Бобышев и Бродский были близкими друзьями. Они часто появлялись в алфавитном порядке на публичных чтениях в Ленинграде. Бобышеву было двадцать семь, и он недавно расстался с женой; Бродскому было двадцать три года, и он работал с перерывами. Вместе с двумя другими многообещающими молодыми поэтами их друг и наставник Анна Ахматова окрестила их «волшебным хором», считая, что они представляют собой возрождение русской поэтической традиции после лет мрака при Сталине.Когда Ахматову спросили, кем из молодых поэтов она больше всего восхищается, она назвала сразу двоих: Бобышева и Бродского.
Бродский, как говорят русские, на собственной шкуре испытал на себе всю борьбу своего поколения. Его ссылка не была исключением. Фотография сделана Ирвингом Пенном в 1980 году. Фотография © 1980 Condé Nast Publications, Inc.
Его ссылка не была исключением. Фотография сделана Ирвингом Пенном в 1980 году. Фотография © 1980 Condé Nast Publications, Inc.Молодые советские люди чувствовали шестидесятые еще глубже, чем их американские и французские коллеги, потому что, в то время как депрессия и оккупация были плохими, сталинизм был еще хуже. .После смерти Сталина Советский Союз снова начал медленно приближаться к миру. Запрет на джаз снят. Был опубликован Эрнест Хемингуэй; В ГМИИ в Москве прошла выставка работ Пикассо. В 1959 году в Москве открылась выставка американских товаров народного потребления, и мой отец, тоже представитель этого поколения, впервые попробовал Pepsi.
Либидо высвободилось, но куда оно должно было деваться? Люди жили со своими родителями. Их родители, в свою очередь, жили с другими родителями в так называемых коммунальных квартирах.«У нас никогда не было собственной комнаты, чтобы заманить в нее наших девочек, и у наших девочек не было комнат», — писал позже Бродский из своего американского изгнания. У него была половина комнаты, отделенная от комнаты родителей книжными полками и занавесками. «Наши любовные связи в основном были прогулками и разговорами; если бы с нас взимали плату за километраж, это было бы астрономической суммой ». Женщина, с которой Бродский гулял и разговаривал два года, та женщина, которая разорвала волшебный хор, была Марина Басманова, молодой художник. Современники описывают ее как завораживающе тихую и красивую.Бродский посвятил ей одни из самых сильных любовных стихов в русском языке. «Я был всего лишь тем, к чему ты прикоснулся ладонью, — писал он, — над чем в глухой, черной как ворон / ночи ты склонил голову. . . . / Я был практически слеп. / Ты, то появляясь, то прячусь, / научил меня видеть ».
У него была половина комнаты, отделенная от комнаты родителей книжными полками и занавесками. «Наши любовные связи в основном были прогулками и разговорами; если бы с нас взимали плату за километраж, это было бы астрономической суммой ». Женщина, с которой Бродский гулял и разговаривал два года, та женщина, которая разорвала волшебный хор, была Марина Басманова, молодой художник. Современники описывают ее как завораживающе тихую и красивую.Бродский посвятил ей одни из самых сильных любовных стихов в русском языке. «Я был всего лишь тем, к чему ты прикоснулся ладонью, — писал он, — над чем в глухой, черной как ворон / ночи ты склонил голову. . . . / Я был практически слеп. / Ты, то появляясь, то прячусь, / научил меня видеть ».
Почти единогласно люди из их круга осудили Бобышева. Не из-за романа — у кого не было романов? — а потому, что, как только Бобышев начал преследовать Басманову, Бродский стал преследоваться властями.В ноябре 1963 года в местной газете появилась статья, оскорбляющая Бродского, его брюки, его рыжие волосы, его литературные претензии и его стихи, хотя из семи цитат, предложенных в качестве примеров поэзии Бродского, три были написаны Бобышевым. Все признали такую статью прелюдией к аресту, и друзья Бродского настояли на том, чтобы он поехал в Москву переждать ситуацию. Они также настояли на том, чтобы он отправился в психиатрическую больницу на случай, если определение какой-либо формы психоза может помочь ему отстаивать свое дело.Новый год Бродский встретил в больнице, потом выпросил. Выйдя из дома, он узнал, что Бобышев и Басманова вместе встретили Новый год на даче друга. Бродский занял двенадцать рублей на проезд в поезде и помчался в Ленинград. Он выступил против Бобышева. Он выступил против Басмановой. Прежде чем он смог продвинуться дальше, его бросили в тюрьму. Последующий судебный процесс положил начало советскому правозащитному движению, превратил Бродского во всемирно известную фигуру и, в конечном итоге, привел к его изгнанию из У.С.С.Р.
Все признали такую статью прелюдией к аресту, и друзья Бродского настояли на том, чтобы он поехал в Москву переждать ситуацию. Они также настояли на том, чтобы он отправился в психиатрическую больницу на случай, если определение какой-либо формы психоза может помочь ему отстаивать свое дело.Новый год Бродский встретил в больнице, потом выпросил. Выйдя из дома, он узнал, что Бобышев и Басманова вместе встретили Новый год на даче друга. Бродский занял двенадцать рублей на проезд в поезде и помчался в Ленинград. Он выступил против Бобышева. Он выступил против Басмановой. Прежде чем он смог продвинуться дальше, его бросили в тюрьму. Последующий судебный процесс положил начало советскому правозащитному движению, превратил Бродского во всемирно известную фигуру и, в конечном итоге, привел к его изгнанию из У.С.С.Р.
Бродский родился в мае 1940 года, за год до немецкого вторжения. Его мать работала бухгалтером; его отец был фотографом и работал в Военно-морском музее в Ленинграде, когда Бродский был молод. Они были любящими родителями и очень любимы Иосифом Бродским, их единственным ребенком.
Они были любящими родителями и очень любимы Иосифом Бродским, их единственным ребенком.
Ленинград сильно пострадал во время войны — более двух лет он был блокирован немцами, лишен пищи и тепла. Тетя умерла от голода. В первые послевоенные годы, даже когда Сталин мобилизовал страну на «холодную войну», ущерб был очевиден.«Мы пошли в школы, и какой бы высшей чепухе нас там ни учили, повсюду были видны страдания и бедность», — писал Бродский. «Страницей Правды руины не прикрыть». Он был скучным учеником, которого сдерживали в седьмом классе. Когда у его родителей начались финансовые проблемы — его отец потерял работу на флоте во время кампании Сталина против евреев в последние годы жизни, — пятнадцатилетний Иосиф бросил учебу и пошел работать на завод.
В лояльной, скрупулезной и авторитетной биографии «Иосиф Бродский: литературная жизнь» (Йельский университет; 35 долларов; перевод с русского — Джейн Энн Миллер) старый друг Бродского Лев Лосев уделяет большое внимание выбору предмета. бросить школу, утверждая, что это предотвратило разрушение Бродского чрезмерным обучением.Так думал и Бродский. «Впоследствии я часто сожалел об этом шаге, особенно когда видел, как мои бывшие одноклассники так хорошо ладят в системе», — писал он. «И все же я знал кое-что, чего не знали они. Фактически, я тоже продвигался, но в противоположном направлении, идя несколько дальше ». Направление, в котором он шел, можно было назвать по-разному: подполье, или самиздат, или свобода, или Запад.
бросить школу, утверждая, что это предотвратило разрушение Бродского чрезмерным обучением.Так думал и Бродский. «Впоследствии я часто сожалел об этом шаге, особенно когда видел, как мои бывшие одноклассники так хорошо ладят в системе», — писал он. «И все же я знал кое-что, чего не знали они. Фактически, я тоже продвигался, но в противоположном направлении, идя несколько дальше ». Направление, в котором он шел, можно было назвать по-разному: подполье, или самиздат, или свобода, или Запад.
Он был беспокойным. Через шесть месяцев он уволился с фабрики. В течение следующих семи лет, до своего ареста, он работал на маяке, в кристаллографической лаборатории и в морге; он также слонялся, курил сигареты и читал книги.Он путешествовал по Советскому Союзу, принимая участие в «геологических» экспедициях, помогая быстро индустриализирующемуся советскому правительству прочесывать огромную страну в поисках полезных ископаемых и нефти. Ночью геологи собирались у костра и играли песни на своих гитарах — часто стихи, положенные на музыку, — и читали свои собственные стихи.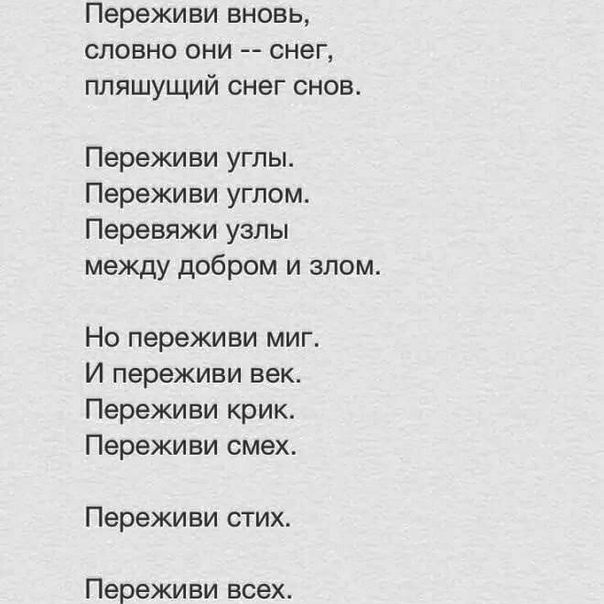 Прочитав в 1958 году сборник стихов на «геологическую» тему, Бродский решил, что сам может добиться большего. Одно из его ранних стихотворений «Паломники» вскоре стало хитом костра.
Прочитав в 1958 году сборник стихов на «геологическую» тему, Бродский решил, что сам может добиться большего. Одно из его ранних стихотворений «Паломники» вскоре стало хитом костра.
Вся страна сходила с ума от поэзии; он стал центральным в атмосфере хрущевской оттепели. В 1959 году в рамках своего рода возврата к большевистскому прошлому в центре Москвы был открыт памятник Владимиру Маяковскому, и вскоре молодые люди стали собираться вокруг него, чтобы читать свои стихи. В начале шестидесятых годов группа поэтов начала серию многолюдных чтений в Политехническом музее в Москве, в углу из штаб-квартиры КГБ. Об одном из таких вечеров показывают фильм, и, хотя это просто чтение стихов (а не концерт Битлз, скажем), и хотя стихи этих полуофициальных поэтов не были особенно хорошими, атмосфера была наэлектризованной.Собралась толпа, и перед ней стоял молодой человек, рассказывающий о своих чувствах: это было ново.
Залы в Ленинграде были скромнее, но Бродский и его ближайшие друзья-поэты — Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн, «волшебный хор», — при каждой возможности использовали их.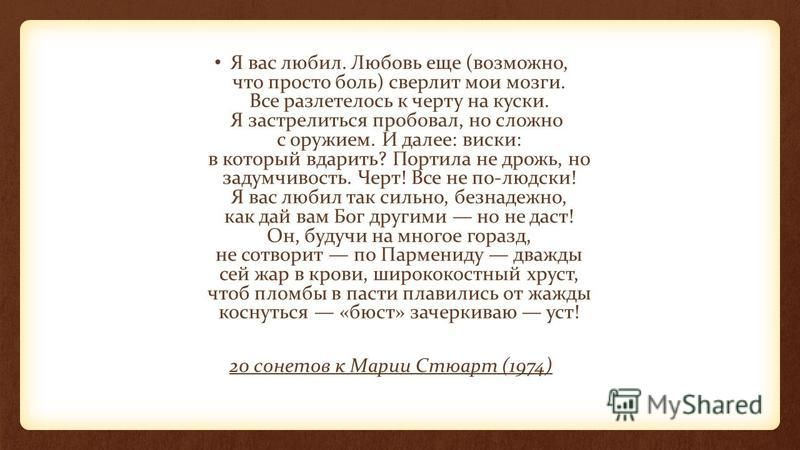 Бобышев в своих мемуарах вспоминает, как Бродский тащил его на окраину города, чтобы Бродский мог прочитать несколько стихов группе студентов. Бобышев ушел рано.
Бобышев в своих мемуарах вспоминает, как Бродский тащил его на окраину города, чтобы Бродский мог прочитать несколько стихов группе студентов. Бобышев ушел рано.
Что касается самой поэзии, Лосев убедительно доказывает, что раннее произведение — до ареста Бродского — неровное, иногда производное.Но с самого начала Бродский был одним из тех поэтов, которые умеют писать конфессионально и делать так, будто они описывают целый социальный феномен. Стихи романтичны, саркастичны и непринужденно современны. Есть удлинение стихотворной линии, как у Элиота, и чувство удивления, когда рифма и размер сохраняются; есть также явное влияние английских поэтов-метафизиков, которые смешали свою любовную поэзию с философскими рассуждениями — в случае Бродского, всегда относящимися ко времени и пространству.В поисках англоязычных эквивалентов Роберт Хасс написал, что Бродский звучал «как Роберт Лоуэлл, когда Лоуэлл звучал как Байрон». Однако как культурный деятель в России Бродский был больше похож на Аллена Гинзберга (с которым он позже ходил за покупками подержанной одежды в Нью-Йорке: «Аллен купил смокинг за пять долларов!» — сказал он Лосеву, который задавался вопросом, почему битник нужна формальная одежда).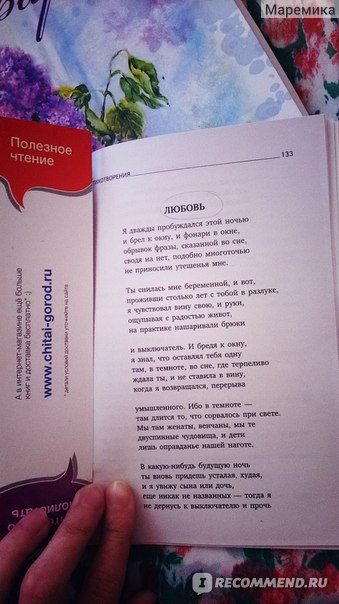 Для Гинзберга и его друзей свобода заключалась в выходе за рамки традиционной просодии; для Бродского и его друзей свобода пришла из восстановления традиции, которую Сталин пытался уничтожить.Бродский умел находить удивительные способы сделать это, казалось бы, без усилий, всегда оставаясь хладнокровным и беспечным. Его ранние стихи описывают рассказчика, возвращающегося домой с вокзала; рассказчик, путешествующий по своим старым ленинградским местам; рассказчик наблюдает за спором супружеской пары, задаваясь вопросом, всегда ли он сам будет один. Последний, кстати, называется «Уважаемый Д. Б.», то есть Дмитрий Бобышев, находившийся на тот момент в несчастливом браке.
Для Гинзберга и его друзей свобода заключалась в выходе за рамки традиционной просодии; для Бродского и его друзей свобода пришла из восстановления традиции, которую Сталин пытался уничтожить.Бродский умел находить удивительные способы сделать это, казалось бы, без усилий, всегда оставаясь хладнокровным и беспечным. Его ранние стихи описывают рассказчика, возвращающегося домой с вокзала; рассказчик, путешествующий по своим старым ленинградским местам; рассказчик наблюдает за спором супружеской пары, задаваясь вопросом, всегда ли он сам будет один. Последний, кстати, называется «Уважаемый Д. Б.», то есть Дмитрий Бобышев, находившийся на тот момент в несчастливом браке.
Лосев описывает, как впервые услышал, как Бродский читает.Это был 1961 год. Некоторое время назад друг подарил ему пачку стихов Бродского, но шрифт был блеклый (самиздатские рукописи часто печатали по три-четыре листа за раз), и Лосеву не нравился внешний вид строк. , который, особенно в ранних стихах Бродского, растягивался до бесконечности. «Мне как-то удалось их не читать», — вспоминает Лосев. Но теперь группа друзей собралась в коммуналке, где жили Лосев с женой, и от Бродского никуда не деться. Он начал читать свою длинную балладу «Холмы», и Лосев был поражен: «Я понял, что наконец-то появились стихи, о которых я всегда мечтал, даже не подозревая об этом.. . . Как будто дверь открылась в широко открытое пространство, о котором мы не знали и не слышали. Мы просто не подозревали, что русская поэзия, русский язык, это русское сознание могут содержать эти пространства ».
«Мне как-то удалось их не читать», — вспоминает Лосев. Но теперь группа друзей собралась в коммуналке, где жили Лосев с женой, и от Бродского никуда не деться. Он начал читать свою длинную балладу «Холмы», и Лосев был поражен: «Я понял, что наконец-то появились стихи, о которых я всегда мечтал, даже не подозревая об этом.. . . Как будто дверь открылась в широко открытое пространство, о котором мы не знали и не слышали. Мы просто не подозревали, что русская поэзия, русский язык, это русское сознание могут содержать эти пространства ».
Многие люди почувствовали это, когда впервые встретили стихи Бродского. Один друг, которого вытащили для разговора с КГБ. Примерно в это же время вспоминает, как рассказывал своему следователю, что из всех людей, которых он знал, Бродский был наиболее вероятным обладателем Нобелевской премии. Это был период огромной энергии и надежд поколений; кто-то должен был это воплотить.Было важно, чтобы стихи Бродского были современными и местными. Также важно было то, что в долгу перед англо-американским модернизмом они соединили небольшую группу ленинградских поэтов и читателей с большим миром.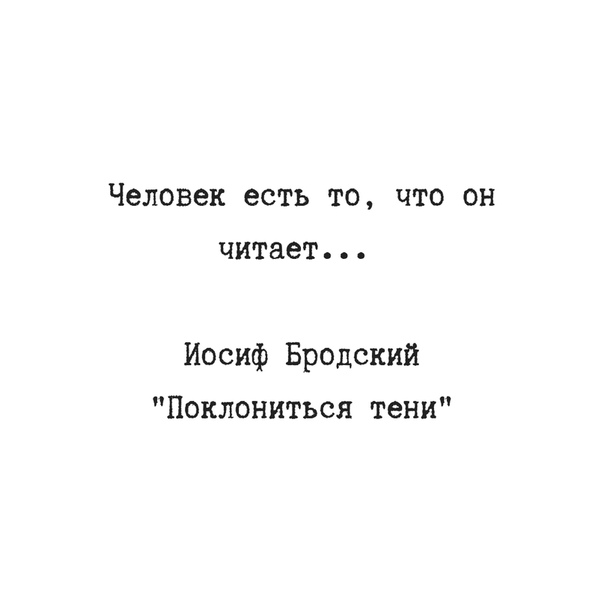 И, что наиболее важно, в своей творческой верности старомодной формальной традиции они связали это поколение с великими поэтами русского прошлого; Надежда Мандельштам, вдова поэта, объявила Бродского вторым Мандельштамом.
И, что наиболее важно, в своей творческой верности старомодной формальной традиции они связали это поколение с великими поэтами русского прошлого; Надежда Мандельштам, вдова поэта, объявила Бродского вторым Мандельштамом.
Иосиф Бродский — Стихи известного поэта
Иосиф Бродский родился в 1940 году в Ленинграде, а стихи начал писать в восемнадцать лет.Анна Ахматова вскоре узнала в молодом поэте самый одаренный лирический голос его поколения. С марта 1964 года по ноябрь 1965 года Бродский жил в ссылке в Архангельской области на севере России; он был приговорен к пяти годам ссылки на каторгу за «социальное тунеядство», но не отбыл свой срок.
Четыре стихотворения Бродского были опубликованы в ленинградских антологиях в 1966 и 1967 годах, но большая часть его произведений появилась только на Западе. Он прекрасный поэтический переводчик, переводил на русский язык, в частности, английских поэтов-метафизиков и польского поэта-эмигранта Чеслава Милоша.Его собственные стихи переведены как минимум на десять языков. Джозеф Бродский: Избранные стихи были опубликованы издательством Penguin Books в Лондоне (1973) и издательством Harper & Row в Нью-Йорке (1974), переведенным Джорджем Л. Клайном и предисловием У. Оден. Перевод на французский язык избранных стихотворений Бродского издан Gallimard; немецкий перевод Пайпер Верлаг; и итальянский перевод Мондадори и Адельфи. Фаррар, Страус и Жиру опубликовали знаменитый сборник Бродского «Часть речи» в 1980 году.
Джозеф Бродский: Избранные стихи были опубликованы издательством Penguin Books в Лондоне (1973) и издательством Harper & Row в Нью-Йорке (1974), переведенным Джорджем Л. Клайном и предисловием У. Оден. Перевод на французский язык избранных стихотворений Бродского издан Gallimard; немецкий перевод Пайпер Верлаг; и итальянский перевод Мондадори и Адельфи. Фаррар, Страус и Жиру опубликовали знаменитый сборник Бродского «Часть речи» в 1980 году. 4 июня 1972 года Иосиф Бродский был вынужден покинуть родину. После непродолжительного пребывания в Вене и Лондоне он приехал в Соединенные Штаты. Он был постоянным поэтом и приглашенным профессором в Мичиганском университете, Куинс-колледже, Смит-колледже, Колумбийском университете и Кембриджском университете в Англии. В настоящее время он является профессором литературы в колледже Маунт-Холиок. В 1978 году Бродскому была присуждена почетная степень доктора наук в Йельском университете, а 23 мая 1979 года он был принят в члены Американской академии и Института искусств и литературы.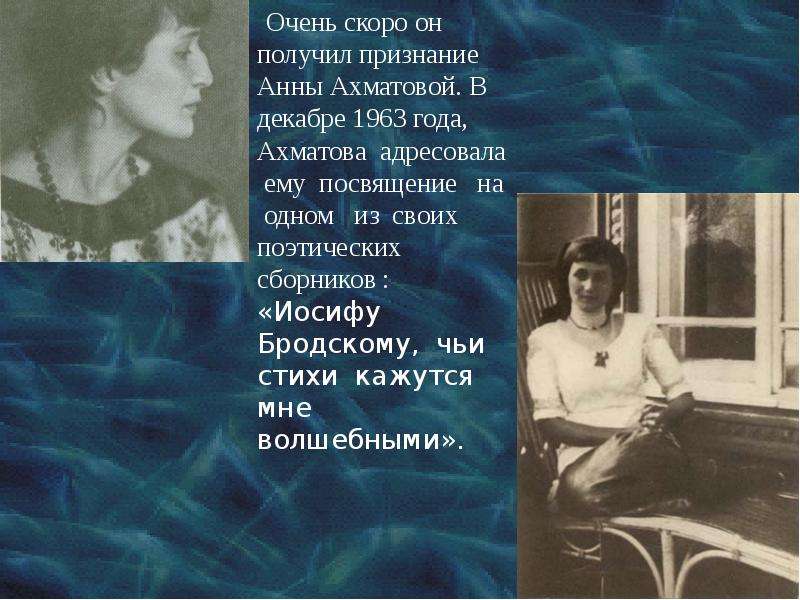 В 1981 году Бродский был удостоен награды Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров за свои «гениальные» работы.
В 1981 году Бродский был удостоен награды Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров за свои «гениальные» работы.
В 1986 году Фаррар, Штраус и Жиру опубликовали «Меньше одного», сборник эссе Бродского об искусстве и политике, получивший Национальную премию книжных критиков за критику.
В 1988 году Фаррар, Штраус и Жиру опубликовали сборник его стихов «К Урании», а в 1992 году — сборник эссе о Венеции «Водяной знак».
За пределами смысла: Поэзия изгнания Иосифа Бродского | Энн Челлберг
Доминик Набоков
Иосиф Бродский, Нью-Йорк, 1979
Когда Иосиф Бродский вышел из самолета в Анн-Арборе, штат Мичиган, в 1972 году, будучи изгнанным из Советского Союза в возрасте тридцати двух лет, привезен своим другом. , русский профессор и подпольный издатель подвергнутых цензуре писателей Карла Проффера, у него уже была голова, полная поэзии на английском языке, а также американских фильмов и джаза, итальянской живописи и архитектуры, греческой и римской мифологии, и так далее. Постоянная диета советского конформизма и консервированная идеология изгнали Бродского из школы в Ленинграде, когда он был еще подростком, а отвращение к уступкам заставило его выполнить ряд черных работ и погоней за зарплатой. Эта траектория в конечном итоге привела его к принудительной ссылке в отдаленную фермерскую деревню в субарктическом районе Архангельска. Всюду он имел медленное личное призвание читателя. Его отец сохранил зиккурат книг и книжных полок и накопленные литературные артефакты, которыми молодой Бродский оградил себя от остальной части дома комуналки (коммунальной квартиры) своей семьи, чтобы читать и писать в ночи, передавая беспорядок в целости и сохранности друзьям. .После снятия советской цензуры с работ Бродского в девяностых годах эти хранители передали их в различные архивы, где они хранятся и сейчас.
Постоянная диета советского конформизма и консервированная идеология изгнали Бродского из школы в Ленинграде, когда он был еще подростком, а отвращение к уступкам заставило его выполнить ряд черных работ и погоней за зарплатой. Эта траектория в конечном итоге привела его к принудительной ссылке в отдаленную фермерскую деревню в субарктическом районе Архангельска. Всюду он имел медленное личное призвание читателя. Его отец сохранил зиккурат книг и книжных полок и накопленные литературные артефакты, которыми молодой Бродский оградил себя от остальной части дома комуналки (коммунальной квартиры) своей семьи, чтобы читать и писать в ночи, передавая беспорядок в целости и сохранности друзьям. .После снятия советской цензуры с работ Бродского в девяностых годах эти хранители передали их в различные архивы, где они хранятся и сейчас.
Бродский поделился этим обилием чтения — настолько широко по всему миру и настолько глубоко в прошлом, насколько он мог в рамках ограничений советских издательских систем того времени — со своими сверстниками, поколением молодых российских интеллектуалов, осторожно выглядывающих из-за края руины войны, жаждущие искусства, знаний и опыта, которые могли бы оказать давление на «урезание себя», требуемое государством.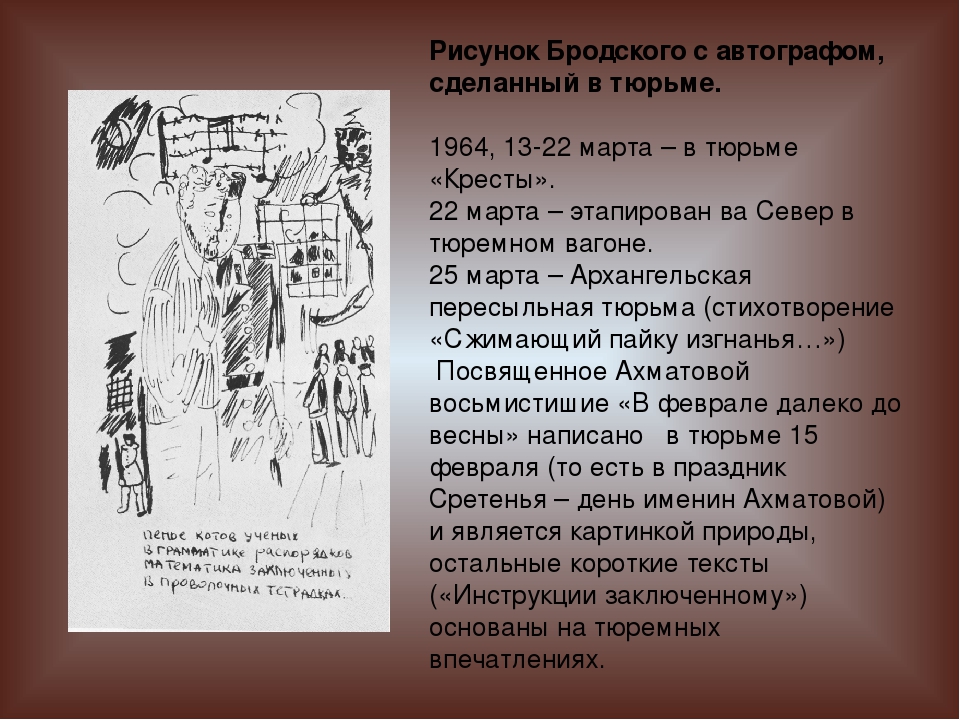 Они вручную печатали запрещенные книги с несколькими углами и покосились на них через темное стекло переводов, которые едва успели проникнуть через Польшу. Бродский писал о своем поколении:
Они вручную печатали запрещенные книги с несколькими углами и покосились на них через темное стекло переводов, которые едва успели проникнуть через Польшу. Бродский писал о своем поколении:
Это поколение было одним из самых книжных в истории России, и слава Богу за это… Это началось как обычное накопление знаний, но вскоре стало нашим самым важным занятием, которому можно было пожертвовать всем. . Книги стали первой и единственной реальностью, в то время как сама реальность рассматривалась либо как чепуха, либо как неприятность.По сравнению с другими мы якобы проваливались или фальсифицировали нашу жизнь. Но если задуматься, существование, которое игнорирует стандарты, исповедуемые в литературе, неполноценно и недостойно усилий. Так мы подумали и, думаю, были правы.
В суматохе любопытства и стремления, преследуемой в неустанном чтении, в ночных спорах на кухне, с незаметно подружившимися иностранными студентами и путешественниками, а также при свете лампы в сельской местности, для тех, кто читал и разговаривал, фокусировалась одна мысль. ниже официального радара: молодой Бродский был вундеркиндом в стихотворении.По европейским меркам русская поэзия была относительно зеленой; его формы стабилизировались в XIX веке, когда большая часть русской элиты говорила по-французски. Очарованное поколение русских поэтов, которые соответствовали английским и европейским романтикам — в первую очередь Пушкин, но также и окружающее созвездие, которое Бродский и его друг Алан Майерс составили антологию в кратком справочнике для начинающих, An Age Ago (1988), — были пионерами. кто имел преимущество вспахивать свежую землю. В то время как английские викторианские поэты, такие как Теннисон и Браунинг, звучали устало и застенчиво, их русские коллеги все еще были в поле зрения истоков своей поэзии, и их участие в формальных приемах оставалось свежим.
ниже официального радара: молодой Бродский был вундеркиндом в стихотворении.По европейским меркам русская поэзия была относительно зеленой; его формы стабилизировались в XIX веке, когда большая часть русской элиты говорила по-французски. Очарованное поколение русских поэтов, которые соответствовали английским и европейским романтикам — в первую очередь Пушкин, но также и окружающее созвездие, которое Бродский и его друг Алан Майерс составили антологию в кратком справочнике для начинающих, An Age Ago (1988), — были пионерами. кто имел преимущество вспахивать свежую землю. В то время как английские викторианские поэты, такие как Теннисон и Браунинг, звучали устало и застенчиво, их русские коллеги все еще были в поле зрения истоков своей поэзии, и их участие в формальных приемах оставалось свежим.
У русского языка были дополнительные преимущества, подпитывающие жизнеспособность его поэтических средств: русский язык сильно изменчив, поэтому порядок слов варьируется; и его система внутренних ударений намного более гибкая, чем в английском языке, что допускает большее разнообразие рифм и размеров.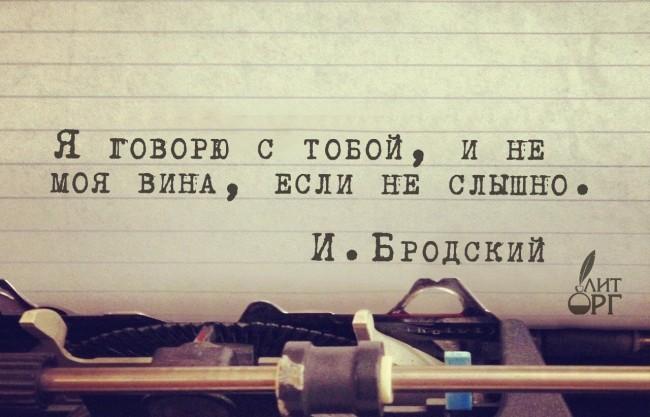 Когда непосредственные предшественники Бродского — такие поэты, как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Анна Ахматова и Марина Цветаева — боролись с кровавой жестокостью большевистского режима, они обращались к ресурсам русской просодии как к хранилищу универсальных и цивилизованных ценностей.Композиция в классических мерах была выражением солидарности с непрерывной традицией художественного индивидуализма и неповиновения, а также солидарности с мировыми эстетическими идеалами против навязанного прагматизма советской идеологии. Бродский писал: «Русская поэзия показала пример нравственной чистоты и стойкости, что в немалой степени нашло отражение в сохранении так называемых классических форм», и продолжал:
Когда непосредственные предшественники Бродского — такие поэты, как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Анна Ахматова и Марина Цветаева — боролись с кровавой жестокостью большевистского режима, они обращались к ресурсам русской просодии как к хранилищу универсальных и цивилизованных ценностей.Композиция в классических мерах была выражением солидарности с непрерывной традицией художественного индивидуализма и неповиновения, а также солидарности с мировыми эстетическими идеалами против навязанного прагматизма советской идеологии. Бродский писал: «Русская поэзия показала пример нравственной чистоты и стойкости, что в немалой степени нашло отражение в сохранении так называемых классических форм», и продолжал:
… метры стихов сами по себе — это виды духовных величин, которые ничем нельзя заменить.Их нельзя заменить даже друг другом, не говоря уже о свободном стихе. Разница в метрах — это разница в дыхании и сердцебиении. Различия в образе рифм связаны с функциями мозга.
Поэма — это нечто большее, чем просто семантическое значение, настаивал он: «поэзия сводится к расположению слов с наибольшим удельным весом в наиболее эффективной и внешне неизбежной последовательности… это язык, отрицающий свою собственную массу и законы гравитации; это устремление языка вверх — или в сторону — к тому началу, где было Слово, стремление к своей «высшей форме существования». И, конечно же, для читателей, живущих в условиях цензуры, для которых заучивание стихов было так же необходимо, как и для древних, мнемоническая сила музыкальности стихов усиливала их силу.
И, конечно же, для читателей, живущих в условиях цензуры, для которых заучивание стихов было так же необходимо, как и для древних, мнемоническая сила музыкальности стихов усиливала их силу.
Самовоспитанный, энергичный, импульсивный, непринужденный, Бродский выступил в этой среде как поэтический виртуоз; он делал с русскими стихами вещи, которые никто не считал возможным. Его наставница Анна Ахматова, почитаемая за то, что отстаивала свою поэтическую автономию даже под угрозой смерти и заключения, немедленно объявила его носителем тлеющих углей русского стиха, что обрекло его на непоколебимое внимание властей.Другие из этой когорты, именно потому, что они были привержены искусству, оказались совершенно неуправляемыми и постоянно находились под прицелом государства.
Бродский взял формальную поэзию — способную к высокой лиричности, отполированную до имперского блеска криво скептически настроенным Пушкиным и его окружением, сформированную агонией войны и угнетения Ахматовой и ее поколения — и привязал его к современной чувствительности . Его идиома охватывала классическую уравновешенность, библейский авторитет, философское разочарование и уличный сленг.В пределах своего логова, обнесенного книжными стенами, он искал в мире моделей и сверстников, останавливаясь на английском как на необходимом противовесе: тональность, которая была банальной и антиистеричной, могучая традиция, встроенная в мягкий пейзаж.
Писал ранние стихи, восхваляющие Т.С. Элиот и Джон Донн. Но именно в простом фермерском доме его изгнания в северной провинции Архангельск друг прислал ему новую карманную антологию Оскара Уильямса американского стиха , которую он выковал долгими ночами, читая два своих самых прочных поэтических родства: с В. .Х. Оден и Роберт Фрост. Он ассимилировал их практику, используя поэтическую форму, чтобы ослабить грандиозные эффекты и получить доступ к более сдержанному человечеству с открытыми глазами, в поэтическую позицию на всю жизнь. Позже он писал об Одене: «То, как он держал строчку, говорило, по крайней мере, мне: что-то вроде« Не плачь, волк », даже если волк стоит у двери. (Хотя, я бы добавил, он в точности похож на вас. Особенно из-за этого, не плачьте, волк.) »
Когда Бродский покинул Россию в качестве вынужденного изгнания, он сначала опасался этого, оторвавшись от повседневной встречи с говорит по-русски, он не станет писать другое стихотворение.В каком-то смысле его траектория была неизбежно интернациональной — он всегда тосковал по Италии, величию ее классических пропорций и фрагментированному наследию, — но история диктовала, что его путь должен быть односторонним. Вскоре по прибытии в Мичиганский университет в качестве профессора импровизационной литературы он принял американский демотизм и стал присутствовать в американской поэзии, предлагая ответный удар антиинтеллектуализму и разговорной речи семидесятых годов и оживляющую уверенность в господстве искусство в обществе, которое слишком часто ассоциировало обучение с элитарностью.Бродский, приехавший в Анн-Арбор в 1972 году с одним чемоданом, был никем.
Бродский столкнулся с ситуацией изгнания как с усилением экзистенциального заряда, оживлявшего его чувствительность. Он был поэтом с открытыми глазами, не терпящим утешений. Быть одиноким, скучать по семье, друзьям, любви, языку, улицам, знакомым ощущениям — значит погрузиться в реальность одиночества, которое является посланием Вселенной. Его изгнание взяло его две темы путешествия и времени и соединило их: прошлое — это место, в которое вы не можете вернуться; будущее — это место бесконечной пустоты.Его любовь к Италии, где прошлое повсюду, предлагала проблеск убежища, наиболее ярко выраженную во всеобъемлющей элегии «Вертумн», в которой искусство — «некоторая рыхлость / серебро, которым иногда богатая бесконечность / осыпает временное» и в котором «устойчивая к распродаже душа / приобретает на наших глазах статус / классика». Если его задача и его поэзия стали более трудными, то это произошло потому, что они были вынуждены обратиться к более трудной истине. Только в самых последних его стихотворениях на горизонте мелькает возможность дома и прибытия.
Бродский написал четыре сборника стихов на русском языке, находясь в Америке, в дополнение к изданию в изгнании двух сборников стихов, написанных ранее. Первая книга на английском языке, которую он смог наблюдать как автор, A Part of Speech (1977), была тщательно продуманной симфонией сотрудничества. Редакторы Farrar, Straus & Giroux обеспечили буквальное исполнение многих стихов и разослали их поэтам, с которыми Бродский чувствовал наибольшую близость — Дереку Уолкотту, Ричарду Уилбуру, Энтони Хехту, Говарду Моссу, — которые переводили их на английский язык, что Бродский, с его собственная растущая команда, затем исправленная.Другие переводы стали результатом долгого сотрудничества. К моменту To Urania (1988) Бродский принимал более активное участие в разбирательстве. Его подход к поэзии на английском языке подвергся критике, на которую он часто отвечал, что его российские рецензенты (часто из враждебно настроенного чиновничества) выдвигали аналогичные жалобы — что он форсировал результат, что он превзошел традиционные способы использования языка, что он был диссонирующий. Я бы посоветовал читателям рассмотреть эту аналогию и подвергнуть сомнению внутреннюю силу: английский Бродского может бросить вызов уху читателя таким образом, чтобы вызвать незнакомые силы в поэзии и, таким образом, вознаградить вызов.
В 1983 году Бродский написал эссе «Угодить тени», в котором описал покупку пишущей машинки с латинским шрифтом, чтобы сократить расстояние между собой и своим любимым Оденом. Когда Бродский высадился в Вене на пути из России, Проффер повел его навестить поэта, которого он приехал почитать на этой субарктической ферме; эта встреча ознаменовала собой внутренний диалог, который длился намного дольше нескольких лет дружбы двух поэтов. Бродский шутил, что он русский поэт, английский публицист и гражданин Америки.Его английские эссе, опубликованные в двух томах при его жизни под названиями Less Than One и On Grief and Reason , в дополнение к длинному прозаическому размышлению о Венеции под названием Watermark и некоторым разрозненным несобранным произведениям, открывают окно в беспокойные ум, в котором английский и русский постоянно развиваются, просматриваемый через атмосферу других языков и сред.
Сейчас мы живем во времена, когда Бродский был передовым разведчиком, — время, когда многие писатели действуют за пределами своих первоначальных границ и за пределами своего родного языка, часто, как Бродский, свидетельствуя о насилии и разрушениях, часто отвечая через искусство к тем переживаниям, которые в языке преломляются, по необходимости, через другой язык.Во времена Бродского существовала группа поэтов, некоторые из которых были на окраинах империи, некоторые, такие как Бродский, оторванные от своих корней — Уолкотт, Хини, Пас, Милош и многие другие — которые принесли с собой командные традиции, а также отпечаток извращений истории. Сейчас нам было бы хорошо, если бы мы послушали их песню, стоя на пороге нашего порога между сломанным прошлым и будущим языка.
Иосиф Бродский: Избранные стихотворения, 1968–1996 годы , под редакцией Энн Челлберг, будет опубликован в этом месяце Фарраром, Штраусом и Жиру.
Анализ и краткое содержание песни о любви Иосифа Бродского Очерк
Песня о любви »Иосиф БродскийЛосип Александрович Бродский, он же Иосиф Бродский, жил между 1940 и 1996 годами. Его местом рождения был Ленинград, Россия (СССР), и он провел последние минуты жизни в США (Бруклин, Нью-Йорк). был поэтом советско-русско-американского происхождения, в 1987 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе, а в 1991 году получил звание поэта-лауреата Библиотеки Конгресса.Бродский написал очень важное и уникальное стихотворение «Песня о любви» (UKEssays, 2015).
Краткое содержание и интерпретация
На первый взгляд, это стихотворение кажется прямым и простым. В этом стихотворении основное внимание уделяется положению женщин и мужчин в обществе, подчинению и любви. Бродский выражает свою любовь одновременно страстно и обожающе (Anti Essays, 2016). Глубокие тревожные чувства очевидны в первых двух строках каждой строфы: «Если бы ты тонул, я пришел бы на помощь, закутал тебя в одеяло и налил горячим чаем».«Если бы ты был птицей, я бы поставил пластинку и всю ночь слушал твою пронзительную трель». «Если бы вы были китайцем, я бы выучил языки, зажег много благовоний, надевал забавную одежду». «Если бы вы любили вулканы, из моего скрытого источника непрерывно извергалась бы лава». Это косвенно выражает любовь, а также показывает признательность, которая проявляется во всех аспектах жизни.
Но если присмотреться, то это стихотворение представляет собой серию «а что, если», где любовь поэта к молодой девушке проявляется в разных случаях.Кажется, о потерянной любви, точнее, о шансах, которые потерял поэт …
Поэтические приемы «Любовной песни»
Понятно, что любовь к этой женщине Бродский выразил во всем стихотворении. Образность, символика и образный язык поэта дают читателю четкое представление о том, насколько глубоки его чувства к предмету, его любви. Он пытается быть романтичным и показать ей, что она равна ему, но при этом хочет, чтобы он мог править ею. Мы можем видеть это с первой по третью строфу, в третьей и четвертой строках, из-за изменения тона поэта, когда он говорит: «Если бы я был шерифом, я бы арестовал вас и держал бы в камере под замком. и ключ.«Если бы я был сержантом, ты был бы моим новобранцем, и, мальчик, уверяю тебя, тебе бы понравилась тренировка» и «Если бы ты был зеркалом, я бы штурмовал дам, дал бы тебе свою красную помаду и затяжку». твой нос »(UKEssays, 2015).
Поэт безмерно влюблен до такой степени, что становится враждебным и властным. Первая часть каждой строфы показывает стремление поэта к романтике и трепет перед ней своим пристальным интересом, а последние строки показывают, как он сильно желает стать своим. Он пытается сделать ее счастливой и приспосабливается к ней, но все же глубоко желает контролировать ее.Из первой строфы он позже заявляет, что арестует…
A Research Overview on JSTOR
Русско-американский поэт и эссеист, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский практически не присутствует на карте американистики. В следующем обзоре сделана попытка предоставить материалы для исправления этого упущения. В конце концов, хотя подавляющее большинство исследователей Бродского — слависты, ценная работа о Бродском в американском контексте была сделана, и значительная ее часть была опубликована на английском языке.После краткой биографической экскурсии материалы сгруппированы по следующим категориям: «Бродский в Америке», «Бродский и американская литература», «Бродский как американский поэт» и «Самопереводы Бродского на английский язык». В 2016 году, через двадцать лет после его смерти в Нью-Йорке, кажется, настало время для пересмотра.
Resources for American Literary Study — это научное периодическое издание, посвященное архивным открытиям и библиографическому анализу. Его тематическая область — полный спектр произведений американской литературы.Типичные материалы включают недавно обнаруженные письма и документы, контрольные списки первичных и / или вторичных работ об американских авторах, а также биографические и композиционные исследования. Регулярные выпуски включают выпуски серии «Перспективы изучения американской литературы» и богатый выбор обзоров и обзорных эссе. Целевая аудитория журнала — научная, от аспиранта до старшего профессора.
Являясь частью Университета штата Пенсильвания и отделом библиотек и научных коммуникаций Университета штата Пенсильвания, издательство Penn State University Press обслуживает университетское сообщество, граждан Пенсильвании и ученых всего мира, продвигая научное общение в основных гуманитарных дисциплинах. и социальные науки.Пресса объединяется с выпускниками, друзьями, преподавателями и сотрудниками, чтобы вести хронику жизни и истории университета. И как часть учреждения, предоставляющего землю и поддерживаемого государством, Press выпускает как научные, так и популярные публикации о Пенсильвании, которые призваны способствовать лучшему пониманию истории, культуры и окружающей среды штата.
Иосиф Бродский, поэма за раз на JSTOR
Русское обозрение — многопрофильный научный журнал, посвященный истории, литературе, культуре, изобразительному искусству, кино, обществу и политике народов бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза.Каждый выпуск содержит оригинальные исследовательские статьи авторитетных и начинающих ученых, а также а также обзоры широкого круга новых публикаций. Основанное в 1941 году «Русское обозрение» — летопись. продолжающейся эволюции области русских / советских исследований на Севере Америка. Его статьи демонстрируют меняющееся понимание России через взлет и закат холодной войны и окончательный крах Советского Союза Союз. Русское обозрение — независимый журнал, не связанный с любой национальной, политической или профессиональной ассоциацией.JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии The Russian Рассмотрение. Электронная версия Русского обозрения доступно на http://www.interscience.wiley.com. Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полному тексту статей на этом сайте.
Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование. Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни.Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и воплощать в жизнь их чаяния. Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS.Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому нами контенту и поддерживает все устойчивые модели доступа. Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.
