Про колыму рассказы: Колыма — популярные книги
Запах Колымы
Екатерина Жирицкая — первый редактор газеты для профессионалов парфюмерной отрасли «Косметический рынок сегодня», один из авторов сборника «Ароматы и запахи в культуре» (2003), независимый журналист и культуролог, чья сфера интересов — исследование сенсорного восприятия и ольфакторной реальности. В настоящее время исследует ольфакторный опыт в советском обществе первой половины ХХ века.
Отрывок из главы «Колыма: сенсорный опыт запредельного» книги «Запах Родины», готовящейся автором к публикации
Первый раз сын священника, студент Московского университета и молодой писатель Варлам Тихонович Шаламов попал в советские лагеря в 1929 году за распространение антисталинского письма В.И. Ленина к съезду. Отсидев три года в Вишерском лагере на северном Урале, был освобожден, чтобы в 1937 году попасть в преисподнюю ГУЛАГА — на Колыму. Последовательно получив три новых срока, умирая в золотых забоях, не раз оказываясь на грани смерти от обморожения, болезней и дистрофии, Шаламов пробыл на Колыме в общей сложности семнадцать лет. Этот адский личный опыт вместе с литературным даром выразительного короткого рассказа и беспредельной честностью к своей памяти и своему прошлому превратил Шаламова в одного из самых важных писателей русской и, возможно, европейской литературы второй половины ХХ века, продолжателя традиций Достоевского.
Этот адский личный опыт вместе с литературным даром выразительного короткого рассказа и беспредельной честностью к своей памяти и своему прошлому превратил Шаламова в одного из самых важных писателей русской и, возможно, европейской литературы второй половины ХХ века, продолжателя традиций Достоевского.
С 1954 по 1967 год Шаламов написал шесть книг-циклов — «Колымские рассказы», «Очерки преступного мира», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2». Их сквозная тема, собственно, и сближающая Шаламова с Достоевским, — человек в нечеловеческих условиях, нечеловеческое и человеческое в нем. Как происходит расчеловечевание, где дно души: «Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду?.. У какой последней черты теряется человеческое?»1
В отличие от «Архипелага ГУЛАГа», тексты Шаламова написаны без исторических обобщений. Шаламовские рассказы — это лагерь, воспринятый изнутри одинокого человеческого тела, через тело, записанный на теле. Его обвинения тоталитаризму как государственной машине и, шире, как абсолютной власти — в невозможных для разума искажениях, которые претерпевает плоть, попавшая в их «поле силы». Безграничная власть — как правило, успешно — через деформацию тела корежит и душу. Рассказы Шаламова и его собственная жизнь — про то, как в изуродованном теле пытается сохранить себя от перерождения душа.
Его обвинения тоталитаризму как государственной машине и, шире, как абсолютной власти — в невозможных для разума искажениях, которые претерпевает плоть, попавшая в их «поле силы». Безграничная власть — как правило, успешно — через деформацию тела корежит и душу. Рассказы Шаламова и его собственная жизнь — про то, как в изуродованном теле пытается сохранить себя от перерождения душа.
Шаламов, обладающий феноменальной памятью, боялся, что не вспомнит главного — «ощущения», потому что «всякий, лишний год неизбежно ослабляет» его2. «Бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь», — напишет он3. Показать непредставимое — колымский лагерь «в конкретных образах» — так, чтобы его можно было почувствовать телом, кожей, носом, и было задачей Варлама Тихоновича Шаламова. Написание рассказа он считал поиском, когда «в смутное сознание мозга должен войти запах косынки, шарфа, платка, потерянного героем или героиней»4. Тексты Шаламова — сенсорная проза, насквозь пропитанная запахами.
Тексты Шаламова — сенсорная проза, насквозь пропитанная запахами.
Набор запахов Колымы ограничен, но каждый из них «шибает в нос» и врезается в память. Обонятельные знаки четко описывают мир лагерей — отмечают групповую иерархию, маркируют территорию и время, формируют индивидуальную идентичность, выражают телесность, устанавливают связь с культурой и разрушают ее, соединяют с прошлым и прорываются в будущее.
Как же распорядиться этим ольфакторным материалом? Изначально казалось, что для исследователя обонятельной реальности Шаламов- свидетель важнее Шаламова-писателя. Изучение особенностей ольфак- торных метафор в его лагерных рассказах виделось делом литературоведов, среди которых — тонкие исследователи наследия писателя5. Свою задачу я видела в том, чтобы описать обонятельный пейзаж колымских лагерей, изучить его восприятие заключенными, проанализировать, как менялась оценка этих запахов за время их пребывания в лагере. Что в этом ольфакторном восприятии оставалось «человеческого», унаследованного от прошлого, от культуры, что появлялось «внечеловеческого»? Наконец, посмотреть, не складывается ли в этом «внечеловеческом» собственная, вывернутая наизнанку «культура», своя иерархия отношений и ценностей, определяющая, в том числе, и оценку запахов?
Но, «перечитав носом» «Колымские рассказы», я поняла, что для реконструкции обонятельного пейзажа Колымы литературное мужество Шаламова имеет едва ли не большее значение, чем документальность его свидетельств. Дело не только в зоркости писателя, умеющего зафиксировать важные детали, в том числе и ольфакторные. В мире людей запах — знак с почти пустой формой, который неизбежно будет подвергнут интерпретации. Там не существует «чистых», «естественных», запахов. Погруженная в контекст культуры объективная ольфакторная реальность пропитывается символическими отношениями и сама становится частью культурной памяти человека, социальной группы, народа.
Дело не только в зоркости писателя, умеющего зафиксировать важные детали, в том числе и ольфакторные. В мире людей запах — знак с почти пустой формой, который неизбежно будет подвергнут интерпретации. Там не существует «чистых», «естественных», запахов. Погруженная в контекст культуры объективная ольфакторная реальность пропитывается символическими отношениями и сама становится частью культурной памяти человека, социальной группы, народа.
Я глубоко убеждена, что в русском и европейском обонятельном культурном опыте колымские лагеря в значительной степени приобретут те запаховые очертания, который выстраивает в своих рассказах Варлам Тихонович Шаламов, неподлой лагерной жизнью и редким писательским бесстрашием заслуживший это право.
Начнем же наше, нелегкое для носа и сердца, путешествие по обонятельным пейзажам Колымы.
Истончение плоти
Понимание, что именно и с какой степенью интенсивности обонял человек, находясь в лагере, невозможно без осознания трансформаций, которые переживало на Колыме его тело.
Сталинскую систему ГУЛАГа традиционно сравнивают с нацистской системой концлагерей. На первый взгляд, их сходство очевидно — и те и другие изымали из общества людей, не вписывавшихся в тоталитарную систему, только одни делали это по расовому, а другие по классовому признаку. Однако в применении к человеческому телу две тоталитарные системы использовали разные тактики. Принявшая курс на «окончательное решение еврейского вопроса» нацистская власть занималась планомерным и последовательным истреблением еврейского народа, «очищая» от «загрязнения» — в соответствии с «теорией расовой гигиены» — свою «кровь» и жизненное пространство. «Польза», которую можно было извлечь из евреев как рабочей силы, имела второстепенное значение. Хотя молодые и здоровые отправлялись на смерть позже «бесполезных» детей, женщин и стариков, отсрочка эта во времени, особенно на Восточном фронте6, была минимальной. Физической расправы не избегал никто. Чудовищными обонятельными знаками гетто были запах крови, нечистот и разлагающейся плоти, обонятельным фоном концлагерей — невыносимая вонь наспех закопанных трупов и особенно черного дыма крематориев. Именно эту адскую обонятельную реальность описывают западные исследователи, занимавшиеся данной темой. И Д. Хоувз, и Х. Риндисбахер отмечают, каким нравственным мучениям подвергались заключенные концентрационных лагерей в нацистской Германии, когда ветер доносил до них зловонный запах сгорающей плоти из печей крематориев7 (Classen et al. 1994: 172; Rindisbacher 1992: 263).
Именно эту адскую обонятельную реальность описывают западные исследователи, занимавшиеся данной темой. И Д. Хоувз, и Х. Риндисбахер отмечают, каким нравственным мучениям подвергались заключенные концентрационных лагерей в нацистской Германии, когда ветер доносил до них зловонный запах сгорающей плоти из печей крематориев7 (Classen et al. 1994: 172; Rindisbacher 1992: 263).
По иной внутренней логике тоталитарная власть распоряжалась человеческим телом внутри системы сталинских лагерей. Архипелаг ГУЛАГ также, безусловно, был создан для уничтожения «других»: «Шло планомерное истребление целой „социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить»8. Репрессивная машина последовательно уничтожала социальные слои, представлявшие для нее опасность, способных так или иначе оказать сопротивление, «выбраковывала» несших в себе «испорченную кровь» неправильного социального происхождения. Но в значительно большей степени, чем в Германии, ее целью было не столько уничтожить «иных», сколько пронизать страхом и раболепием «своих». Этим объясняется факт, многократно подтвержденный и современниками, и историками, что арест в значительной степени зависел от воли случая.
Этим объясняется факт, многократно подтвержденный и современниками, и историками, что арест в значительной степени зависел от воли случая.
В системе ГУЛАГа были годы чудовищных всплесков массовых расстрелов, расстрелы неспособных к работе «доходяг» шли постоянно, но узники ГУЛАГа интересовали тоталитарную систему и с экономической точки зрения — как даровая рабочая сила9.
Труд и смерть были синонимами не только для заключенных или лагерного начальства, утверждает Шаламов. Самая высокая власть расценивала непосильную работу как орудие убийства — «иначе не писали бы в приходивших „спецуказаниях», московских путевках на смерть: „использовать только на тяжелых физических работах»»10. Отказ от работы в лагере — преступление, которое карается смертью. За три отказа от работы расстреливают. Лозунги «Выполнение плана — закон» в колымских лагерях толковали так: не выполнил норму — обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью11.
Принцип, по которому власть строила свои отношения с заключенным, — больше взять, меньше дать. В лагере власть государственная экономила технику, одежду, еду. Местная бюрократия на всех уровнях вместе с уголовниками разворовывала остальное. Не успевая восстановить силы, человек «таял».
Проза Шаламова построена на антитезе двух типов телесности. Избыток плоти всегда подозрителен. Это не только знак лагерного благополучия, приближенности к власти, признак пребывания на верхушке местной социальной иерархии, но и часто — знак подлости и жестокости. «Громко» предъявляющее себя тело, слишком человеческое, оказывается плотской метафорой расчеловечивания. «Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых», — признается герой рассказа «Ягоды». И не зря — на его глазах «розовощекий и сытый» конвоир без предупреждения застрелит человека12. Начальник хозчасти лагерной больницы, отнявший прекрасный галстук, который заключенная мастерица вышивала в подарок спасшему ее врачу, — «грузный, брюхатый не по возрасту»13. Оперуполномоченный прииска Романов — «плотный». У уголовника в магаданской тюрьме «раскормленная розовая рожа»14.
Оперуполномоченный прииска Романов — «плотный». У уголовника в магаданской тюрьме «раскормленная розовая рожа»14.
Напротив, тела колымчан, живых и мертвых, «сухонькие», «легкие — кожа да кости»15. Когда герой рассказа «Домино» попадает доходягой в госпиталь, при росте в сто восемьдесят сантиметров он весит сорок килограмм: «Вес костей — сорок два процента общего веса — тридцать два килограмма… у меня осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга».
Человеческое тело претерпевало в лагере все формы репрессивной трансформации. Его корежила поголовная цинга, «выраставшая, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию». Убивала дизентерия, поскольку, стремясь наполнить ноющий желудок, заключенные собирали «кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами». От наступавшей как результат истощения пеллагры на ладонях и стопах с человека слезала кожа, а его тело «шелушилось крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски». Но самой страшной была алиментарная дистрофия — «болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название. успокаивающее врачей, нашедших удобную. формулу для обозначения одного и того же — голода»16.
Но самой страшной была алиментарная дистрофия — «болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название. успокаивающее врачей, нашедших удобную. формулу для обозначения одного и того же — голода»16.
Предельно формализованная бюрократическая система тоталитарного государства обесценивала не только личность человека, но и его тело. Она присваивала себе право на полное обладание этим телом, но при этом так же решительно снимала какую-либо ответственность за него. Работающий на конюшне герой рассказа «Шоковая терапия» не может понять, почему казенные расчеты учитывают при определении норм корма размеры лошадей, но не учитывают размеры человеческого тела. Если уж к заключенным «относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным». На выдуманной в канцеляриях «средней норме» могли протянуть только люди невысокого роста. «Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего, Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом»17.
«Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего, Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом»17.
Самой распространенной на Колыме была смерть от физического истощения — дистрофии. Рассказы Шаламова полны описаниями разных степеней и стадий этого истончения человеческого тела. Вот герой рассказа «Плотники» чувствует, как ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары. Вот «доходяга» Дугаев («Одиночный замер») «удивляется», узнав, что выполнил только 25 % нормы, подписав этим себе смертный приговор, — так тяжела была ему работа. Вот герой новеллы «Тачка II» фиксирует конвульсии измученного тела, «в язвах от цинги, от незалеченных отморожений». Плоть тает и разлагается одновременно.
В Освенциме репрессивным был сопровождавший живых запах смерти. Мертвые Колымы «не пахнут» — горько объясняет Шаламов. Эти «нетленные мертвецы» были слишком истощены, обескровлены, да и хранились в вечной мерзлоте18. В лагере человек чаще погибал не потому, что его убивали, а потому что ему не давали жить. На Колыме репрессивным был запах не смерти, а запах жизни — к которой нет доступа.
В лагере человек чаще погибал не потому, что его убивали, а потому что ему не давали жить. На Колыме репрессивным был запах не смерти, а запах жизни — к которой нет доступа.
Человеческая душа в нечеловеческом теле
Истончение тела означает постепенное искажение не только плоти, но и восприятия. Погружение в за-человеческое сопровождают изменения не только телесности, но и чувств.
«Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями», — свидетельствует Шаламов19. Все чувства — любовь, дружба, зависть, милосердие, жажда славы, честность — покидают его вместе с плотью, которой он лишился за время продолжительного голодания. Обычно ощущения человека «слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять»20. Одновременно с перерождением тела происходит деформация сознания. У заключенных оно «уже не было человеческим». Их воля слушалась «только инстинкта — как это бывает у зверей»21. Когда в 60-градусные морозы на лагерь спускается плотный туман, заключенные без труда ориентируются в нем, угадывая нужные направления «неведомо как приобретенным инстинктом», которым обладают животные и который «в подходящих условиях просыпается и в человеке». Тело возвращает себе почти полную власть над разумом, сметая тонкую пленку культуры, придавая невозможную в нормальных условиях остроту восприятия, в том числе — и запахов.
Когда в 60-градусные морозы на лагерь спускается плотный туман, заключенные без труда ориентируются в нем, угадывая нужные направления «неведомо как приобретенным инстинктом», которым обладают животные и который «в подходящих условиях просыпается и в человеке». Тело возвращает себе почти полную власть над разумом, сметая тонкую пленку культуры, придавая невозможную в нормальных условиях остроту восприятия, в том числе — и запахов.
Лагерная жизнь была подчинена единственному закону — животному закону выживания. Запахи цивилизации, культуры — все, что напоминало о мире, откуда нынешние зэки попали на Колыму, — больше не имели значения. Прошлая жизнь казалась «сном, выдумкой». Будущего не существовало. «Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше (никто) не загадывал и не находил в себе сил загадывать». В этом сегодняшнем дне надо было выжить. Значение имело лишь то, что помогало продлить жизнь и избежать смерти. А запах — как в животном мире — был на Колыме знаком выживания или смертельной опасности.
Запах жизни
Шкалу ценностей заключенного венчал хлеб. В лагере он «решал все». Чтобы осознать, что значил на Колыме запах хлеба, надо реконструировать контекст его восприятия. Иначе говоря, понять, чем он был для заключенных. Новеллы Шаламова дают палитру поистине фантастических для нормального человека нюансов восприятия хлеба. «Проходной» в нормальном быту акт добычи и поглощения хлеба обрастает множеством сложнейших эмоциональных, тактильных, вкусовых и обонятельных оттенков.
«Ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода — постоянного состояния лагерника, если он из пятьдесят восьмой, из доходяг»22. Хлеб же был единственным источником энергии, дающим надежду протянуть тот самый день, «дальше которого не рассчитывали».
Существовала еда, исключенная даже из гастрономических фантазий колымчан, «ибо тогда мечты перестали бы быть мечтами: стали бы чересчур нереальными». Доходяги не мечтают о пирожных или картофеле, они мечтают «о манке, гречке, овсянке, перловке, магаре, пшене». В отличие от недоступного шоколада или сгущенного молока, о которых можно было только грезить во снах, хлеб был частью не прошлой, а сегодняшней жизни, не бесплотной мечтой, а ощущаемой чувствами реальностью. Хлеб превращался в абсолютное воплощение еды, в материальное воплощение жизни, в саму жизнь, подобно тому, как в религиозных обрядах он есть тело Христово.
В отличие от недоступного шоколада или сгущенного молока, о которых можно было только грезить во снах, хлеб был частью не прошлой, а сегодняшней жизни, не бесплотной мечтой, а ощущаемой чувствами реальностью. Хлеб превращался в абсолютное воплощение еды, в материальное воплощение жизни, в саму жизнь, подобно тому, как в религиозных обрядах он есть тело Христово.
Сама мысль о хлебе для доходяги едва ли не материальна. «Простая и сильная», она «почти ощутимо проталкивается через мозг» истощенного человека. Мысль о краже хлеба «обжигающе страшна». А когда среди привычной голодной тошноты не остается сил думать о хлебной корке, это означает, что часы человека сочтены.
Полностью отрезанными от доступа к хлебу были только «политические» — магазины в лагерных поселках открыты для осужденных по бытовым статьям и «друзей народа» — воров-рецидивистов23. Уголовники с хлебом не церемонятся — они склеивают им самодельные игральные карты24. Не то — политические «доходяги».
Нельзя было потерять ни крошки, потому что вместе с крошкой хлеба ты недополучил бы и минуты собственной жизни. Случайно перепавший кусок хлеба в прямом смысле спасает жизнь, как, например, он позволил дотянуть до долгожданной оттепели героям рассказа «Плотники». «Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладонь и вылизываемые», — описывает Шаламов постоянные, унизительные, нечеловеческие поиски еды. Переживание во время раздачи хлеба было для истощенных голодом людей «драмой». Человек «волновался, высматривал горбушку, плакал, если горбушка доставалась не ему, запихивал в рот дрожащими пальцами довесок»25.
Хлеб выдается утром на весь день26. Перевод с килограммовой пайки на шестисотграммовую становится «тревожной новостью»27. Штрафная пайка за невыполненную норму, триста граммов, означает смертный приговор. Когда герой рассказа «Ключ Алмазный» узнает, что на работе в тайге, куда он так стремился, за невыполненную норму не дают хлеба вообще, он сбегает обратно в лагерь, предпочтя новый срок за побег отсутствию хлебной пайки28.
Хлеб едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, «да и сил нет его уберечь». Но, насколько хватает сил, стремясь продлить время обладания хлебом. Хлеб не едят, а «поглощают». Шаламов описывает «тысячу способов» продлить это «наслаждение». Хлеб можно лизать, «пока он не исчезнет с ладони». Отщипывать от него мельчайшие крошки и «сосать каждую… ворочая ее во рту языком». Можно подсушить хлеб на печке и «есть темно-коричневые, обожженные кусочки». Можно было «резать хлеб ножом на тончайшие пластины и только тогда подсушивать их», заваривать хлеб горячей водой, превращая в «мучную болтушку», жалкое подобие супа. Можно было «крошить кусочки в холодную воду и солить их — получалось нечто вроде тюри». Герой рассказа «Май» сует свой хлеб в кипящую в консервной банке грязную снеговую воду и отрывает от «размокшего, как губка» хлеба горячие кусочки29.
Невозможность принять этот дар отмечает конец жизни. «Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…» — страшно это нечеловеческое отчаяние умирающего от дистрофии поэта в рассказе «Шерри-бренди». Так запах не съеденного хлеба становится знаком смерти. Невозможно оторвать глаз от поглощающего хлеб другого человека — «не было ни в ком такой могучей воли», и в рассказах Шаламова не раз встречаются описания людей, зачарованных этим зрелищем.
Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…» — страшно это нечеловеческое отчаяние умирающего от дистрофии поэта в рассказе «Шерри-бренди». Так запах не съеденного хлеба становится знаком смерти. Невозможно оторвать глаз от поглощающего хлеб другого человека — «не было ни в ком такой могучей воли», и в рассказах Шаламова не раз встречаются описания людей, зачарованных этим зрелищем.
Не было поступка, на который заключенные не пошли бы ради хлеба. Герой рассказа «Ягоды» подбирает баночку убитого на его глазах товарища, чтобы потом обменять лежащие там ягоды на хлеб. С этой же целью обмена на хлеб раскапывают чужую могилу и снимают вещи с недавно умершего товарища герои новеллы «Ночью». Обменять на хлеб найденные в куче отбросов рваные мужские носки планируют и герои рассказа «Детские картинки», радуясь «ценной находке». Радуется и дневальный в бараке — чужая смерть произошла не вечером, а утром, и он еще получит пайку мертвеца30. Соседи умершего два дня выдают его за живого, получая его пайку хлеба31.
Соседи умершего два дня выдают его за живого, получая его пайку хлеба31.
Пытка недоступным хлебом превращается в пытку его запахом. Этот сладкий запах жизни становится одной из наиболее репрессивных обонятельных доминант Колымы. Все человеческие чувства заключенных притуплены, но связанные с едой вкус и обоняние обостряются до крайности. «Вкусовая чувствительность голодного арестантского желудка необычайна», — свидетельствует Шаламов. Им кажется сладким кисель, в котором «любой вольный желудок не обнаружил бы сахара». Варево из листьев мерзлой капусты пахнет, как «лучший украинский борщ», а запах горелой каши «напоминает шоколад». (Деформации восприятия так катастрофичны, что, когда уже давно освободившийся Шаламов, пятнадцать лет не евший картофеля, снова пробует продукт, картофель кажется ему «отравой, незнакомым опасным блюдом, как кошке, которой хотят вложить в рот что-то угрожающее жизни»)32. Но самые большие искажения ольфакторных восприятий вызывает в лагере именно хлеб.
(Продолжение читайте в печатной версии журнала)
Варлам Тихонович Шаламов и его «Колымские рассказы» – Моя родина – Магадан
Варлам Шаламов родился в 1907 г. в многодетной семье провинцииального потомственного вологодского священника. 18-летним юношей он приехал в Москву, чтобы поступить на юридический факультет МГУ, но в 1925 г. детям священников доступ к высшему образованию был ограничен. Пришлось устроиться дубильщиком на подмосковный кожзавод. В МГУ удалось попасть лишь через год.
С юности он писал стихи, привёз в столицу заветную тетрадь, в Москве посещал литературные вечера, бывал в Политехническом музее на знаменитых встречах с поэтами и писателями, показывал свои стихи и рассказы главному редактору журнала «ЛЕФ» С. Третьякову, прощался с С. Есениным в декабре 1925 г., познакомился с Маяковским, на которого смотрел снизу вверх в буквальном и переносном смысле.
Однако активная студенческая жизнь, полная творческих планов, была внезапно нарушена арестом в феврале 1929 г. и осуждением в марте того же года на 3 года заключения в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале (в Вишерском лагере, или, как его называли в обиходе, Вишерлаге, или Вишерстрое). Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании», написанном в конце жизни и доведённом до 1945 г., сообщал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 годов на стороне оппозиции». И добавлял: «Не к Троцкому – к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии – но к рядам тех, кто пытался самыми первыми… сдержать тот кровавый потоп, который вошёл в историю под названием культа личности». На Вишере, где начальником был Э.П. Берзин, будущий директор Дальстроя на Колыме, Шаламов провёл 2.5 года и «в 1931 г. досрочно освобождён с восстановлением во всех правах».
и осуждением в марте того же года на 3 года заключения в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале (в Вишерском лагере, или, как его называли в обиходе, Вишерлаге, или Вишерстрое). Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании», написанном в конце жизни и доведённом до 1945 г., сообщал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 годов на стороне оппозиции». И добавлял: «Не к Троцкому – к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии – но к рядам тех, кто пытался самыми первыми… сдержать тот кровавый потоп, который вошёл в историю под названием культа личности». На Вишере, где начальником был Э.П. Берзин, будущий директор Дальстроя на Колыме, Шаламов провёл 2.5 года и «в 1931 г. досрочно освобождён с восстановлением во всех правах».
С октября 1931 г. работал на Березниковском химкомбинате. В 1932 г. он вернулся в Москву, но дорога в МГУ была уже закрыта. Он работал в газетах и журналах, женился (Галина Игнатьевна Гудзь – дочь старого большевика). В 1935 г. у них родилась дочь Елена.
у них родилась дочь Елена.
В сентябре 1936 г., в разгар троцкистских процессов, по совету друзей и родни он подал заявление в СПО (секретно-политический отдел) НКВД о своих былых связях с бывшими комсомольцами-троцкистами. В январе 1937 г. его арестовали и осудили на 5 лет по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности (КРТД) (осуждённые по обвинению в троцкизме содержались в лагерях и тюрьмах в самых тяжёлых условиях). Позднее Шаламов прямо обвинял брата жены Бориса Гудзя, чекиста, в написании доноса. Впрочем, примерно в то же время пострадала и вся семья Гудзей: в Казахстан на 10 лет выслана жена Шаламова Галина с дочерью; в лагере (на Колыме, точнее, на Эльгене, недалеко от Шаламова) оказалась её сестра Ася; был уволен и Борис, несмотря на высокий пост и ответственную службу: как раз в это время он курировал разведчика Р. Зорге, известного под псевдонимом «Рамзай».
14 августа 1937 г. Шаламова привезли на пароходе «Кулу» на Колыму. Полтора года он работал в забое прииска «Партизан». В 1938 году он был арестован по печально известному «Делу юристов» и 4 месяца содержался в Магаданской тюрьме, затем в пересыльной тюрьме, в тифозном карантине (эти события отразились в рассказах «Заговор юристов», «Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по август 1940 г. работал в геологической разведке на Чёрном озере кипятильщиком, помощником топографа, на земляных работах. Затем полгода, с августа по декабрь 1942 г., на Аркагале, на Кадыкчане, в забое (здесь в шахтах добывался уголь). С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на прииске «Джелгала», на штрафных работах. В январе 1942 г. истёк срок его наказания, но вместе с другими заключёнными он был задержан на Колыме в лагере «до особого распоряжения» (из-за войны) в связи с необходимостью добывать золото. В то время из Колымы отпускали немногих. В мае 1943 г. его вновь арестовали, а в июне осудили за то, что в частном разговоре с заключёнными Шаламов назвал Бунина классиком русской литературы. Шаламов знал и называл имена доносчиков – Кривицкого и Заславского.
В 1938 году он был арестован по печально известному «Делу юристов» и 4 месяца содержался в Магаданской тюрьме, затем в пересыльной тюрьме, в тифозном карантине (эти события отразились в рассказах «Заговор юристов», «Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по август 1940 г. работал в геологической разведке на Чёрном озере кипятильщиком, помощником топографа, на земляных работах. Затем полгода, с августа по декабрь 1942 г., на Аркагале, на Кадыкчане, в забое (здесь в шахтах добывался уголь). С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на прииске «Джелгала», на штрафных работах. В январе 1942 г. истёк срок его наказания, но вместе с другими заключёнными он был задержан на Колыме в лагере «до особого распоряжения» (из-за войны) в связи с необходимостью добывать золото. В то время из Колымы отпускали немногих. В мае 1943 г. его вновь арестовали, а в июне осудили за то, что в частном разговоре с заключёнными Шаламов назвал Бунина классиком русской литературы. Шаламов знал и называл имена доносчиков – Кривицкого и Заславского.
Магаданский историк-краевед А. Козлов в статье «Свидетельствует сам писатель» приводит жалобу Шаламова на имя Генерального прокурора СССР Р. Руденко на несправедливое осуждение: «Случайно пережив известные колымские трагические события 1938 г., трижды дойдя до полного физического истощения, я всё же остался жив… (в июне 1943 г – М. Р.)… в пос. Ягодном… осуждён на 10 лет ИТЛ и 5 лет последующего поражения в правах. В течение всего следствия (месяц) я содержался… в ледяном карцере, получал 300 г хлеба и литр воды в сутки. По окончании следствия (по дороге в суд) конвоиры… били несколько часов подряд и только к концу вторых суток доставили в посёлок накануне суда». В очередной раз став дистрофиком, оказался на «витаминной командировке». Здесь рубили кедровый стланик для изготовления настоя от цинги, собирали бруснику, голубицу, заодно подкармливались и сами.
Осенью 1943 г. попал в лагерную больницу в пос. Беличья. Ему помог врач П.С. Калембет. С декабря 1943 г. до лета 1944 г. он работает в шахте прииска «Спокойный». Летом 1944 г. он снова арестован из-за доносов, но срок ему не дают, так как он осуждён лишь год назад. До весны 1945 г. Шаламов находится на общих работах прииска «Спокойный», а весной его отправляют в «лесную» командировку Ягоднинского ОЛП (отдельного лагерного пункта). Так и проходит время: забой (то угольный, то золотой) – командировка – больница, и снова по кругу.
он работает в шахте прииска «Спокойный». Летом 1944 г. он снова арестован из-за доносов, но срок ему не дают, так как он осуждён лишь год назад. До весны 1945 г. Шаламов находится на общих работах прииска «Спокойный», а весной его отправляют в «лесную» командировку Ягоднинского ОЛП (отдельного лагерного пункта). Так и проходит время: забой (то угольный, то золотой) – командировка – больница, и снова по кругу.
Летом 1945 г. ему крупно повезло. Он попадает в больницу на Беличьей к фельдшерам Андрею Пантюхову и Борису Лесняку и врачу Нине Савоевой. Они оставляют его в больнице культоргом. Осенью 1945 г. его отправляют в «командировку» к лесорубам на ключ «Алмазный», откуда он пытается совершить побег (во всяком случае его в этом обвиняют, заводят дело). Его отправляют в штрафной лагерь прииска «Джелгала», где он проводит зиму 1945-1946 гг. на общих работах. Весной 1946 г. он оказывается в Сусумане, в так называемой «малой зоне», также на общих работах. Летом Пантюхов направляет его в Магадан на фельдшерские курсы. Вернувшись, Шаламов работает в хирургическом отделении в больнице в пос. Левый берег. Здесь ему удалось задержаться до начала 1947 г. До самого освобождения он работает фельдшером – то на ключе «Дусканья», у лесорубов (с весны 1949 г. до лета 1950 г.), то в приёмном покое Центральной лагерной больницы (с лета 1950 г. до осени 1952 г.). 13 октября 1952 г. пришло освобождение. Согласно справке, полученной позже Шаламовым, он находился на горных работах 10 лет.
Вернувшись, Шаламов работает в хирургическом отделении в больнице в пос. Левый берег. Здесь ему удалось задержаться до начала 1947 г. До самого освобождения он работает фельдшером – то на ключе «Дусканья», у лесорубов (с весны 1949 г. до лета 1950 г.), то в приёмном покое Центральной лагерной больницы (с лета 1950 г. до осени 1952 г.). 13 октября 1952 г. пришло освобождение. Согласно справке, полученной позже Шаламовым, он находился на горных работах 10 лет.
Всего на Колыме он провёл 16 лет 3 месяца, в том числе в лагерях 15 лет 2 месяца. Самыми тяжёлыми, по словам Б. Лесняка, было время на прииске «Партизан» (август 1937 г. – декабрь 1938 г.) и на прииске «Джелгала» (4 месяца 1943 г.).
Б. Лесняк рассказывал, что, попав в лагерную больницу, Шаламов при росте 180 см. весил 48 кг. Писатель О. Волков, отбывший 28 лет в лагерях (правда, не на Колыме, но всё же гораздо больше Шаламова), считал: «… перед тем, что перенёс колымчанин Шаламов за проведённые на Колыме 17 лет, меркнут испытания сонма зэков на островах Архипелага». Но и после освобождения Шаламов ещё год работает в пос. Кюбюма, на границе Хабаровского края и Якутии.
Но и после освобождения Шаламов ещё год работает в пос. Кюбюма, на границе Хабаровского края и Якутии.
Встреча с семьёй состоялась в Москве 12 ноября. Они не виделись без малого 17 лет. Дочь выросла без отца. Жена без права на прописку жила в Москве, перебиваясь случайными заработками. Она писала мужу в лагерь (до ста писем в год), сохранила большую часть архива, но при встрече заявила: «Давай забудем всё (то есть тюрьму, лагерь, ссылку – М. Р.), поживём для себя». Он же забыть не мог и не хотел. Через день он уехал в Конаково, потом в Озерки Калининской области, устроился агентом по техническому снабжению на небольшом предприятии. Дочь во всех анкетах писала, что отец умер, а теперь оказалось – жив и судимость с него не снята. Словом, он понял: с семьёй придется расстаться. Разрыв он переживал тяжело. Так Шаламов, тянувшийся к общению, к людям, к жизни, оказался в одиночестве.
Реабилитации он дождался лишь в 1956 г. В том же году женился во второй раз – на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой (правда, этот брак был недолгим).
В 60-е гг. Шаламов стал резко терять слух, нарушилась координация движений. Его нетерпимость к чужому мнению, категоричность в суждениях и оценках дополнились замкнутостью, раздражительностью, недоверием ко всему и всем, подозрительностью. Появилась бессонница, пришла слепота. Его опекал Литературный фонд (хотя он отказался вступать в Союз советских писателей), он получал мизерную пенсию. Помощь товарищей, даже бывших лагерников категорически отвергал. В последние годы доверием пользовалась ставшая ему другом И. Сиротинская, ныне хранительница его фонда, комментатор и составитель его сборников рассказов, писем, воспоминаний.
При жизни Шаламова вышли три сборника его стихов – критика их не заметила. Слава Солженицына оглушила и больно ударила по писательскому самолюбию: он, Шаламов, раньше начинал!
В конце 60-х гг. за рубежом на немецком языке вышли два десятка его рассказов, затем они же – в переводе с немецкого! – на французском языке, с ошибкой в фамилии автора – во Франции.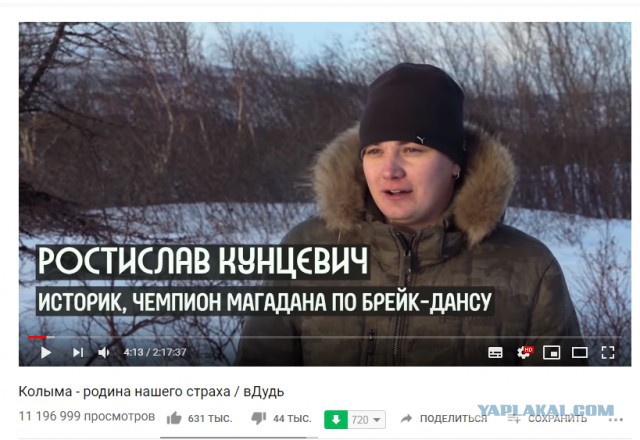 В 1972 г. вышел второй сборник рассказов – теперь их было уже 27 – на французском языке, но уже в переводе с русского. А на русском языке, как, впрочем, и издания на Родине, всё ещё не было. В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор журнала «Юность», где изредка печатал стихи Шаламов, потребовал от автора отказаться от публикации «Колымских рассказов» за рубежом. Никого не интересовало, что эти публикации совершались без ведома автора, без разрешения, без выплаты гонорара. В том же году он был вынужден отказаться от автора.
В 1972 г. вышел второй сборник рассказов – теперь их было уже 27 – на французском языке, но уже в переводе с русского. А на русском языке, как, впрочем, и издания на Родине, всё ещё не было. В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор журнала «Юность», где изредка печатал стихи Шаламов, потребовал от автора отказаться от публикации «Колымских рассказов» за рубежом. Никого не интересовало, что эти публикации совершались без ведома автора, без разрешения, без выплаты гонорара. В том же году он был вынужден отказаться от автора.
Б. Лесняк утверждает, что письмо-отказ написано не Шаламовым: не его стиль. Другие поверили и отнеслись по-разному: «одни говорили: «он боялся», другие – даже – «у него была психика человека, которого били», Солженицын произнёс приговор: «Шаламов умер». И. Сиротинская вспоминает: он был в ярости. Сам Шаламов пишет: «Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. 1-ое – другая история. 2-ое – полное равнодушие к судьбе. 3-е – безнадёжность перевода и, вообще, всё в границах языка… Смешно говорить что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому».
Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому».
У него были основания злиться: ведь он задумал свои рассказы как циклы, а их печатали в «Новом журнале» (Нью-Йорк) Р. Гуля мелкими порциями, растянули на 10 лет, с 1966 по 1976 гг., использовали в США в политических целях, рассказы рассматривали как документальную иллюстрацию. Самоценности художественного мира Шаламова никто не замечал.
В 1978 г. «Колымские рассказы» изданы в Лондоне с предисловием М. Геллера. «Впервые на русском языке… Со всей возможной полнотой. Со всей возможной – в отсутствие автора – точностью, по рукописи, распространяющейся в самиздате». И. Сиротинская принесла ему это издание. «Он потрогал, подержал в руке. Нет, это было поздно. Поздно и мало».
«В 1978 г. он тяжело заболел. В 1979 г. Литфонд поселил его в пансионе для инвалидов и престарелых… Три года он жил в этом доме… в 244 комнате, слепой… Но диктовал стихи, душа жила в бедном, жалком теле». Был он человеком широкой эрудиции, с абсолютной памятью на жизненные впечатления и литературные тексты. Но по характеру, судя по воспоминаниям, в общении очень трудным: вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях категоричным. Лагерь приучил его ненавидеть любую работу, связанную с физическими усилиями. При этом он до конца жизни трудился как писатель, добиваясь прекрасных результатов. Был он человеком страстным, шёл к цели, не размениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало или не помогало добиваться намеченного. Он не отличался сентиментальностью, излишней деликатностью; в дружбу, рождённую в беде, в лагере, не верил. К славе относился ревниво. Лучшим своим созданием считал «Колымские рассказы». В жизни часто менял свои привязанности, суждения. Так, он разрушил добрые отношения с Н.Я. Мандельштам, с неприязнью относился к А. Солженицыну.
Но по характеру, судя по воспоминаниям, в общении очень трудным: вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях категоричным. Лагерь приучил его ненавидеть любую работу, связанную с физическими усилиями. При этом он до конца жизни трудился как писатель, добиваясь прекрасных результатов. Был он человеком страстным, шёл к цели, не размениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало или не помогало добиваться намеченного. Он не отличался сентиментальностью, излишней деликатностью; в дружбу, рождённую в беде, в лагере, не верил. К славе относился ревниво. Лучшим своим созданием считал «Колымские рассказы». В жизни часто менял свои привязанности, суждения. Так, он разрушил добрые отношения с Н.Я. Мандельштам, с неприязнью относился к А. Солженицыну.
Кроме его рассказов, пристального внимания заслуживают его «Воспоминания» и письма. Литературное наследие Шаламова достойно изучения, оно несомненно дает понимание историко – культурных процессов, происходящих в нашей стране в 30-50-х годах прошлого века.
В Магадане помнят о выдающемся писателе. Здесь были изданы его «Колымские рассказы» и «Колымская тетрадь», сборник стихотворений, в колымском поселке Дебин в одном из помещений бывшей лагерной больницы организовали музей памяти В.Т. Шаламова, установили мемориальную доску.
Райзман Михаил Исумурович, кандидат филологических наук, СВГУ.
Корреспондент «Родины» побывал в поселке Дебин, где будущий автор «Колымских рассказов» работал фельдшером
Колымский тракт, он же федеральная автодорога «Колыма», или просто Трасса, начинается в центре Магадана. На выезде из города — остатки Транзитки. Сюда помещали заключенных, доставленных морем из Владивостока, Находки или Ванино, и потом распределяли по лагерям. До самой Колымы отсюда еще далеко — крутой маршрут в полтысячи верст.
Крутой маршрут
Асфальт кончается. Редкие фуры, временные поселки старателей — цветные контейнеры с прорезанными окошками, руины Дальстроя: бараки, фабрики, котельные. Горы грунта по долинам перемытых драгами рек. Огромный красный серп-и-молот на въезде в Атку. Поворот на Талую — знаменитый колымский курорт, перевал Дедушкина Лысина, неживой поселок Мякит…
Огромный красный серп-и-молот на въезде в Атку. Поворот на Талую — знаменитый колымский курорт, перевал Дедушкина Лысина, неживой поселок Мякит…
Здесь много таких городков-призраков. В девяностых и нулевых Северо-Восток потерял больше людей, чем любой другой российский край. Не оставляет ощущение прокатившейся войны.
Вот и мост через Колыму. За ним — поселок Дебин, где будущий писатель работал фельдшером.
«Колымские рассказы» и их автор. Фото из следственного дела. 1937 год.
«Было холодно и страшно»
В неволе Варлам Шаламов провел в общей сложности семнадцать с лишним лет.
В 1929 году он получил три года как «социально опасный элемент». Сидел на Северном Урале, где познакомился с Эдуардом Берзиным, в прошлом латышским стрелком, а в скором будущем — первым директором треста по освоению Колымы «Дальстрой». Как ни странно, поначалу заключенные стремились на Колыму, о чем пишет сам Шаламов:
«Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку блатарей Эдуард Петрович не верил… На Колыму первых лет ворам было попасть трудно — те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было подумать, что колымчане бессмертны».
Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку блатарей Эдуард Петрович не верил… На Колыму первых лет ворам было попасть трудно — те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было подумать, что колымчане бессмертны».
Пресловутый колымский ад начался потом, когда пришли другие времена и другие люди. Берзина сменил Карп Павлов — это при нем случились «гаранинские расстрелы». Уже в 1938-м посадят и самого Гаранина — начальника Севвостлага, он умрет в заключении. Павлов застрелится в оттепельном 1957-м…
Второй раз Шаламова взяли в январе 1937-го, дали пять лет за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Поездом — во Владивосток, пароходом «Кулу» — в бухту Нагаева, где строился город Магадан. Первые впечатления: «Было холодно и страшно. Горячая осенняя яркость красок солнечного Владивостока осталась где-то там, в другом, настоящем мире. Здесь был мир недружелюбный и мрачный». Эпоха Берзина заканчивалась — скоро его арестуют и расстреляют.
Горячая осенняя яркость красок солнечного Владивостока осталась где-то там, в другом, настоящем мире. Здесь был мир недружелюбный и мрачный». Эпоха Берзина заканчивалась — скоро его арестуют и расстреляют.
Шаламов работал на золотом прииске «Партизан», в геолого-разведочной партии, добывал уголь в Кадыкчане и Аркагале. В 1943-м получил новый, 10-летний срок за «антисоветскую агитацию».
Мост через Колыму возле поселка Дебин.
«Я никогда не был вольным, я был только свободным»
Это были самые тяжелые годы и для всей Колымы, и для Шаламова. В конце 1943 года он, что называется, «дошел» и попал в больницу. Общие работы, попытка побега, штрафной прииск «Джелгала», снова больница… Он едва не умер: «В совершенно беспомощном состоянии, доходягой из доходяг, я двигался от забоя к больнице и обратно и опять возвращался в забой. Много лежал в больницах Колымы, столько, сколько могли держать».
Спасли Шаламова счастливый случай и добрый человек: заключенный врач Андрей Пантюхов устроил на курсы фельдшеров. «Из многих лет моей колымской жизни лучшее время — месяцы учения на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана», — вспоминал Шаламов.
«Из многих лет моей колымской жизни лучшее время — месяцы учения на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана», — вспоминал Шаламов.
Зимой 1946-1947 гг., после курсов, з/к Шаламова направили в поселок Дебин. Туда, чуть не за 500 километров, переводили из-под Магадана центральную больницу для заключенных.
Дебин. Медики Центральной больницы для заключенных. Шаламов стоит первый справа. Фото: shalamov.ru
Дебинскую больницу прозвали «Левый берег» — и Шаламов надолго пристал к этому спасительному берегу.
Работал фельдшером хирургического отделения. «Знал, как взяться за сифонную клизму, за аппарат Боброва, за скальпель, за шприц… Я узнал тысячу вещей, которых я не знал раньше, — нужных, необходимых, полезных людям вещей». В 1949-1950 гг. работал у лесорубов на ключе Дусканья, где начал писать стихи. Вернулся в Дебин, стал фельдшером приемного покоя. Обстановка была, мягко говоря, непростой:
«Больницу захлестывал поток воров, прибывающих со всей Колымы по врачебным путевкам на отдых. «Суки» — второй воровской орден — делали несколько вылазок, попыток захватить вооруженной рукой помещение больницы… Убивали в больнице чуть не каждый день. Бегали блатные с ножами друг за другом, клали топоры под подушки».
«Суки» — второй воровской орден — делали несколько вылазок, попыток захватить вооруженной рукой помещение больницы… Убивали в больнице чуть не каждый день. Бегали блатные с ножами друг за другом, клали топоры под подушки».
Приходилось распознавать симулянтов:
«Гораздо больнее было разоблачать попытки попасть в туберкулезное отделение, где больной в тряпочке привозил бацилльный «харчок»… Больнее было разоблачать тех, которые привозили в бутылочке кровь или царапали себе палец, чтобы прибавить капли крови в собственную мочу и с гематурией войти в больницу… Большинство было с «мастырками» — трофическими язвами, — иголкой, сильно смазанной керосином, вызывалось подкожное воспаление».
Осенью 1951 года Шаламов освободился («Свобода и воля — разные вещи. Я никогда не был вольным, я был только свободным во все взрослые мои годы…»), но еще два года работал вольнонаемным фельдшером под Оймяконом. В это время началась его переписка с Пастернаком. Наконец в 1953 году Шаламов уволился из Дальстроя и навсегда покинул Колыму. Начал работу над «Колымскими рассказами» (интересно, что в русской литературе уже была книга с таким названием — ее написал ссыльный народоволец, этнограф, прозаик Владимир Тан-Богораз, она выходила в 1910 и 1931 гг.).
Начал работу над «Колымскими рассказами» (интересно, что в русской литературе уже была книга с таким названием — ее написал ссыльный народоволец, этнограф, прозаик Владимир Тан-Богораз, она выходила в 1910 и 1931 гг.).
В 1956-м Шаламова реабилитировали, через год журнал «Знамя» напечатал его стихи. А еще четыре года спустя выйдет первый сборник «Огниво».
Музей з/к Шаламова
Здание дебинской больницы сохранилось — несколько сочлененных друг с другом корпусов желтеют издалека. Сегодня здесь расположен областной туберкулезный диспансер. Эту трехэтажную больницу, построенную «из лучшего материкового кирпича», Шаламов не раз описывал и даже дал одному из циклов «Колымских рассказов» название «Левый берег»:
«Здание было построено на века. Коридоры были залиты цементом… Батареи центрального отопления, канализационные трубы — это была… Колыма будущего… Мебель в клубе была вся резная».
Изначально здание строили для Колымского стрелкового полка НКВД, но в 1946 году решили передать медицине. «Врачи из заключенных были всех специальностей… Уже в 1948 году было там два хирургических отделения — чистое и гнойное, два терапевтических, нервно-психиатрическое, женское отделение, два больших туберкулезных отделения, кожно-венерологическое, а одно крыло было отдано вольнонаемным больным».
«Врачи из заключенных были всех специальностей… Уже в 1948 году было там два хирургических отделения — чистое и гнойное, два терапевтических, нервно-психиатрическое, женское отделение, два больших туберкулезных отделения, кожно-венерологическое, а одно крыло было отдано вольнонаемным больным».
На входе — мемориальная доска, подарок шаламовских земляков из Вологды. Захожу внутрь, спрашиваю, как попасть в комнату-музей Шаламова. Меня ведут по коридору, открывают комнату. Это народный, неофициальный музей дальстроевской Колымы. Шаламовских вещей здесь нет, но есть лагерные артефакты, предметы быта, фотографии, книги… Экспозицию создавал бывший главный врач Георгий Гончаров, ему помогал Иван Паникаров — житель Ягодного, исследователь Колымы.
Шаламов и работал, и жил в этом здании, но, скорее всего, в другом помещении. Журналист, краевед из Магадана Евгения Ильенкова рассказывает: «Есть гипотеза, что он жил в комнате, куда попасть можно только через пищеблок. Это и помешало превратить ее в музей».
Спрашиваю у сотрудников диспансера, часты ли у них гости. «Бывают туристы, в основном летом, — отвечают мне. — А если нас закроют — куда это все? На Севере сейчас ничего вечного нет…»
Комната-музей Варлама Шаламова.
«Среди полной безнадежности вдруг встает стланик»
Еду по колымской трассе дальше — на Ягодное, Сусуман, Мяунджу. Колымское лето — сдержанное, ненавязчивое. Стоят белые ночи. Склоны сопок — в желтоватом ягеле, пятнах нетающего снега и кедровом стланике, о котором с такой нежностью писал Шаламов:
«Среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит не уловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на Севере… Стланик — дерево надежд… Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни».
Чем нам сегодня важен Шаламов? Верно ли, что, как писал он сам в 1972 году, «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью»?
Мне кажется, он недопрочитан до сих пор. Соблазн сводить его тексты к обличительному документу оказывает Шаламову-прозаику плохую услугу. Шаламов-художник и Шаламов-гражданин остаются как бы на втором плане.
Соблазн сводить его тексты к обличительному документу оказывает Шаламову-прозаику плохую услугу. Шаламов-художник и Шаламов-гражданин остаются как бы на втором плане.
Разумеется, его рассказы — ценнейшее свидетельство очевидца, летопись колымских лагерей, но не только. Шаламов — не документалист, а творец своего художественного мира. Неслучайно он так много размышлял и писал о таинстве творчества. Ему было важно не только «что», но прежде всего — «как». Эстетическое измерение шаламовских текстов нам еще предстоит осмыслить.
Варлам Тихонович не был диссидентом. Выступал против публикаций своих рассказов за рубежом, считая, что их могут превратить в орудие «холодной войны». Будучи антисталинистом, оставался советским человеком, верил в социализм и «ленинские нормы» (он ведь и первый срок получил за тиражирование в подпольной типографии «завещания Ленина»). Резко разошелся с Солженицыным…
Шаламова можно считать советским раскольником, подобным неистовому протопопу Аввакуму. Неслучайно Шаламов, сын священника и атеист, написал стихи от имени Аввакума:
Неслучайно Шаламов, сын священника и атеист, написал стихи от имени Аввакума:
…Но к Богу дорога
Извечно одна:
По дальним острогам
Проходит она…
Комната-музей Варлама Шаламова.
PS. Однажды Шаламов сказал: «Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море». Он писал о человеке, о бездне, куда он легко опустит себя и ближнего, если для этого будут минимальные условия. О том, что происходит с человеком в крайних состояниях. О страдании и преодолении, смерти и воскрешении. И сама непроглядность описанной им тьмы непостижимо несет в себе свет и надежду.
История литературной жизни Магаданской области
На литературной карте страны Крайний Северо-Восток в начале ХХ в. не был таким уж «белым пятном». Уже появились «Чукотские рассказы», а затем роман «Восемь племён» известного ученого-этнографа, писателя Владимира Богораза-Тана, написанные на чукотском материале. В 1930-е гг. публиковались рассказы о Севере Бориса Горбатова, появились очерки «На Чукотке» Тихона Сёмушкина, «Северные рассказы» Ивана Кратта, «Колымские очерки» Анатолия Фетисова, «Золотая Колыма» Ивана Гехтмана, стихи Федора Тынэтэгина, «Чукотские рассказы» Наума Пугачева. Но все эти произведения, хотя и созданные людьми, прожившими на Северо-Востоке какое-то время, были опубликованы в Москве или в Хабаровске.
Но все эти произведения, хотя и созданные людьми, прожившими на Северо-Востоке какое-то время, были опубликованы в Москве или в Хабаровске.
Созданию профессионального союза писателей на Колыме и Чукотке предшествовала большая и трудная работа по формированию литературных сил края. Ещё в 1940 г. вышли два литературно-художественных сборника «Колымского альманаха». В 1952 и 1954 гг. усилиями пишущих и тогдашним издательством «Советская Колыма» была сделана новая попытка организовать имевшиеся тогда пока скромные силы начинающих литераторов: было издано два выпуска литературно-художественного сборника «Литературная Колыма». Самой первой школой литературных талантов северного края следует считать Ягоднинское литературное объединение, возникшее в начале 1950-х гг. Здесь начинали Галина Остапенко, Валентин Португалов, Ольга Гуссаковская, Семен Лившиц, Владилен Кожемякин. Впоследствии было создано литературное объединение при Магаданском книжном издательстве.
Магаданская областная организация Союза писателей РФ создана 1 марта 1960 г. решением правления Союза писателей РСФСР. В то время в области работало пять членов СП СССР – В.Г. Кеулькут, Б.В. Некрасов, Г.Г. Остапенко, Ю.С. Рытхэу, В.А. Сергеев. Ответственным секретарем отделения был избран Б.В. Некрасов.
решением правления Союза писателей РСФСР. В то время в области работало пять членов СП СССР – В.Г. Кеулькут, Б.В. Некрасов, Г.Г. Остапенко, Ю.С. Рытхэу, В.А. Сергеев. Ответственным секретарем отделения был избран Б.В. Некрасов.
Постепенно литературные силы самой молодой на Дальнем Востоке области росли. За годы работы писательская организация объединяла в своих рядах многих поэтов и прозаиков, среди которых Борис Некрасов, Петр Нефедов, Валентин Португалов, Владимир Сергеев, Борис Лозовой, Виктор Кеулькут, чукчанка Антонина Кымытваль, эскимоска Зоя Ненлюмкина, Лидия Соловьева, Зинаида Лихачева, Г. Остапенко, О. Гуссаковская, Юрий Васильев, Владилен Леонтьев, Альберт Мифтахутдинов, Александр Бирюков, Анатолий Пчелкин, Александр Черевченко, Евгений Рожков, Владимир Христофоров, Борис Борин (Блантер), Михаил Эдидович, Станислав Дорохов, Виктор Кузнецов, Геннадий Ненашев, Алексей Дунаев… Во главе организации в разное время после Б. Некрасова стояли Николай Козлов, П. Нефедов, Семен Лившиц, Ю. Васильев, А. Мифтахутдинов, В. Леонтьев, А. Пчелкин, Станислав Бахвалов, Владимир Данилушкин. По разным причинам не были приняты в члены Союза писателей признанные магаданские авторы Борис Рубин, Виктория Гольдовская, Альберт Адамов, Владимир Першин, Виктор Николенко. По одной – своей первой – книжке выпустили в Магадане уехавшие затем с Севера Анатолий Черченко, Игорь Кохановский, Геннадий Юров, Геннадий Гриневич, Геннадий Фатеев. За пределами области стали членами Союза продолжавшие писать о Колыме Вячеслав Пальман, Геннадий Коваленко, Олег Слепынин.
Васильев, А. Мифтахутдинов, В. Леонтьев, А. Пчелкин, Станислав Бахвалов, Владимир Данилушкин. По разным причинам не были приняты в члены Союза писателей признанные магаданские авторы Борис Рубин, Виктория Гольдовская, Альберт Адамов, Владимир Першин, Виктор Николенко. По одной – своей первой – книжке выпустили в Магадане уехавшие затем с Севера Анатолий Черченко, Игорь Кохановский, Геннадий Юров, Геннадий Гриневич, Геннадий Фатеев. За пределами области стали членами Союза продолжавшие писать о Колыме Вячеслав Пальман, Геннадий Коваленко, Олег Слепынин.
Более 40 лет просуществовало Магаданское книжное издательство, в пору своего расцвета выпускавшее до полусотни изданий в год тиражами до 50 тысяч экземпляров, в том числе и литературу на языках коренных народов Севера. Только в 1970-е гг. в Магадане вышло более 20 первых авторских книг поэтов и прозаиков.
Из года в год выходил альманах «На Севере Дальнем», способствовавший консолидации и росту местных литературных сил, пользовавшийся заслуженным признанием в области и за её пределами. Практически все будущие магаданские писатели начинали свой путь в литературу с публикаций на его страницах. Среди них: П.П. Нефедов, В.В. Португалов, Л.А. Вакуловская, О.Н. Гуссаковская, А.А. Кымытваль, О.М. Куваев, Ю.В. Васильев, А.В. Мифтахутдинов, А.А. Пчелкин, М.В. Вальгиргин, А.М. Бирюков, Е.Ф. Рожков, В.Г. Христофоров, Г.А. Ненашев, М.Д. Эдидович, С.И. Дорохов, В.П. Кузнецов. Наибольшую известность и читательское признание в нашей стране и за рубежом заслужили произведения Ю.С. Рытхэу, О.М. Куваева, А.А. Кымытваль, А.В. Мифтахутдинова. Один из первых ответственных секретарей писательской организации П.П. Нефедов вспоминал: «Всё, что мы писали в то время, всё, что печаталось на страницах областных газет и в альманахе, всё это было посвящено нашему краю, его людям, самоотверженным трудом осваивающим богатства Колымы и Чукотки. По-иному и не могло быть, ведь мы жили, трудились бок о бок с этими людьми и были причастны ко всему, что называется словом энтузиазм».
Практически все будущие магаданские писатели начинали свой путь в литературу с публикаций на его страницах. Среди них: П.П. Нефедов, В.В. Португалов, Л.А. Вакуловская, О.Н. Гуссаковская, А.А. Кымытваль, О.М. Куваев, Ю.В. Васильев, А.В. Мифтахутдинов, А.А. Пчелкин, М.В. Вальгиргин, А.М. Бирюков, Е.Ф. Рожков, В.Г. Христофоров, Г.А. Ненашев, М.Д. Эдидович, С.И. Дорохов, В.П. Кузнецов. Наибольшую известность и читательское признание в нашей стране и за рубежом заслужили произведения Ю.С. Рытхэу, О.М. Куваева, А.А. Кымытваль, А.В. Мифтахутдинова. Один из первых ответственных секретарей писательской организации П.П. Нефедов вспоминал: «Всё, что мы писали в то время, всё, что печаталось на страницах областных газет и в альманахе, всё это было посвящено нашему краю, его людям, самоотверженным трудом осваивающим богатства Колымы и Чукотки. По-иному и не могло быть, ведь мы жили, трудились бок о бок с этими людьми и были причастны ко всему, что называется словом энтузиазм».
Создание в Магадане областной писательской организации оказало существенное влияние на рост и развитие молодых литературных сил, в том числе коренных народов края.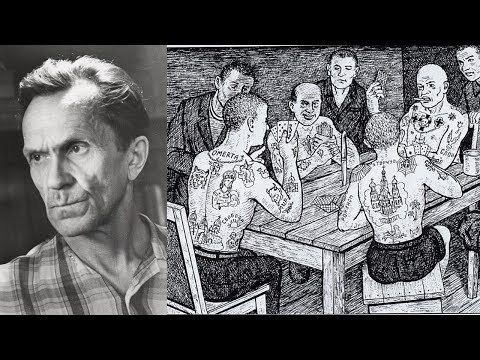 Над переводами произведений с языков народностей Крайнего Севера в разное время успешно работали В.А. Сергеев, В.В. Португалов, А.А. Пчелкин, А.И. Черевченко, М.Д. Эдидович, В.И. Першин, С.И. Дорохов. Именно благодаря их усилиям широкому кругу читателей стали известны имена эскимосов Ю.М. Анко, З.Н. Ненлюмкиной, чукчей В.В. Тынескина, С.А. Тиркыгина, К.И. Геутваль, В.К. Вэкэт, И.В. Омрувье, Т.Ю. Ачиргиной. Не случайно в 1983 г. Магадан был избран местом проведения III Всероссийского семинара молодых литераторов Крайнего Севера и Дальнего Востока, участие в котором приняли молодые национальные литераторы. В успешное проведение этого мероприятия немало сил вложил возглавлявший тогда областную писательскую организацию учёный–этнограф, кандидат исторических наук, писатель В.В. Леонтьев. Традиции вовлечения в литературный процесс представителей коренного населения области продолжаются: в 2005 г. изданы авторские сказки и были эвенки Чины Моторовой (Зинаиды Самсоненко) «Звёздный бисер», в 2012 г.
Над переводами произведений с языков народностей Крайнего Севера в разное время успешно работали В.А. Сергеев, В.В. Португалов, А.А. Пчелкин, А.И. Черевченко, М.Д. Эдидович, В.И. Першин, С.И. Дорохов. Именно благодаря их усилиям широкому кругу читателей стали известны имена эскимосов Ю.М. Анко, З.Н. Ненлюмкиной, чукчей В.В. Тынескина, С.А. Тиркыгина, К.И. Геутваль, В.К. Вэкэт, И.В. Омрувье, Т.Ю. Ачиргиной. Не случайно в 1983 г. Магадан был избран местом проведения III Всероссийского семинара молодых литераторов Крайнего Севера и Дальнего Востока, участие в котором приняли молодые национальные литераторы. В успешное проведение этого мероприятия немало сил вложил возглавлявший тогда областную писательскую организацию учёный–этнограф, кандидат исторических наук, писатель В.В. Леонтьев. Традиции вовлечения в литературный процесс представителей коренного населения области продолжаются: в 2005 г. изданы авторские сказки и были эвенки Чины Моторовой (Зинаиды Самсоненко) «Звёздный бисер», в 2012 г. в Магаданской областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация сборника эвенских народных сказок и оберегов, составленного фольклористом и переводчиком Зинаидой Ивановной Бабцевой, «Сказки из далекого далека». Книга была издана в рамках областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2010-2018 гг.», издание украшено рисунками детей из поселков Эвенск, Омсукчан, Мадаун, города Магадана и других регионов России. В 2007 г. вышла книга рассказов эвена К. Ханькана «Живой поток», в 2014 г. – его же двухтомник «Кэлками» и «Долгий путь».
в Магаданской областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация сборника эвенских народных сказок и оберегов, составленного фольклористом и переводчиком Зинаидой Ивановной Бабцевой, «Сказки из далекого далека». Книга была издана в рамках областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2010-2018 гг.», издание украшено рисунками детей из поселков Эвенск, Омсукчан, Мадаун, города Магадана и других регионов России. В 2007 г. вышла книга рассказов эвена К. Ханькана «Живой поток», в 2014 г. – его же двухтомник «Кэлками» и «Долгий путь».
За более чем пять десятилетий около 50 местных авторов стало членами Союза писателей. На конец 2021 года Магаданская областная организация Союза писателей РФ насчитывала 12 членов: Дудникова Т. В., Поляков С. Ф., Похиалайнен М. В., Рыжов С. П., Самсоненко (Чина Моторова) З. В., Сахибгоряев В. Х., Седов Р. В., Сущанский С. И., Сычев Е. В., Фатеев В. М., Цыбулькин П. И. , Чернов-Дерибизов А. А.
, Чернов-Дерибизов А. А.
С начала 2000-х гг. вышли в свет книги Ю.П. Пензина «К Колыме приговорённые» (2001), С.Ф. Суздальцева «Далёкого детства река» (2002), «Прибавление света» (2008), А.Д. Дунаева «Пожалей нас, Господи…» (2003), С.Ф. Полякова «Билет до Крита» (2003), «Золотинка» (2011), «Цена договорная» (2011), В.М. Фатеева «Когда нас шторм жестокий гнул…» (2001), «Золотая моль» (2003), «В полях поэзии родной» (2012), С.И. Сущанского «Замки из песка» (2003), «Омолонская тетрадь» (2005), «Кок дальнего плавания» (2006), «Детский лепет…» (2011), «Турецкая трубка» (2012), П.И. Цыбулькина «Литературные пародии» (2005), «Случаи из жизни господ» (2007), А.А. Кымытваль «Мои стихи» (2009), В.И. Данилушкина «Дача ложных показаний» (2013), В.Х. Сахибгоряева «Энтропия» (2014), публицистические книги Д.И. Райзмана, Р.В. Седова и другие. В серии «Библиотечка магаданской поэзии» изданы поэтические сборники С.Р. Бахвалова «Златая цепь» (1999) и «Смута» (2003), С.И. Дорохова «Второе дыхание» (1999), С. Е. Лившица «Колыма ты моя, Колыма…» (2003), Б.В. Некрасова «Командировка в молодость» (2005), В.Г. Николенко «Всё живое» (2002), А.А. Пчелкина «Ветер века» (2004), а в серии «Библиотечка магаданской прозы» – «Рашан вариант» В.П. Свистунова, «Магаданские приколы» В.И. Данилушкина. В 2005 г. был подготовлен справочник «Писатели Колымы» с основными сведениями о 10 на тот момент членах Союза писателей.
Е. Лившица «Колыма ты моя, Колыма…» (2003), Б.В. Некрасова «Командировка в молодость» (2005), В.Г. Николенко «Всё живое» (2002), А.А. Пчелкина «Ветер века» (2004), а в серии «Библиотечка магаданской прозы» – «Рашан вариант» В.П. Свистунова, «Магаданские приколы» В.И. Данилушкина. В 2005 г. был подготовлен справочник «Писатели Колымы» с основными сведениями о 10 на тот момент членах Союза писателей.
Начиная с 2012 г. областная писательская организация включена в региональную культурную программу поддержки творческих союзов, и это дало возможность издавать книги магаданских писателей. Только за один год вышли книги В. Фатеева «Я живой, мама!», С. Полякова «Оптимальный вариант», В. Свистунова «Собор», А. Суздальцева «Красное яблоко на белой скатерти».
Областная писательская организация активно привлекает к литературному творчеству начинающих писателей. В 2001 г. при областной организации Союза писателей создана и несколько лет успешно работала литературная студия «Завтрашний день», объединившая творческую молодёжь города. В конце 2002 г. вышел первый литературно-художественный сборник студийцев «Светотени» (всего вышло 18 выпусков). В 2003 г. совместно с областным управлением образования был подготовлен сборник сочинений, рассказов, зарисовок, стихов и рисунков «Школьная муза». В 2004 г. был проведён семинар для начинающих литераторов «Колыма – XXI век». Вышли несколько выпусков сборника «Мой дом, мой город, моя страна» – литературные и художественные опыты школьников Магаданской области.
В конце 2002 г. вышел первый литературно-художественный сборник студийцев «Светотени» (всего вышло 18 выпусков). В 2003 г. совместно с областным управлением образования был подготовлен сборник сочинений, рассказов, зарисовок, стихов и рисунков «Школьная муза». В 2004 г. был проведён семинар для начинающих литераторов «Колыма – XXI век». Вышли несколько выпусков сборника «Мой дом, мой город, моя страна» – литературные и художественные опыты школьников Магаданской области.
В 2003 г. после десятилетнего перерыва возобновилось издание литературно-художественного альманаха «На Севере Дальнем». В 2005 г. магаданская писательская организация выпустила первый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Колымские просторы», в котором публикуются произведения как известных магаданских писателей, так и начинающих литераторов: поэтов, прозаиков, публицистов. Большое место отведено в журнале воспоминаниям, публикациям на исторические и общественно значимые темы. Издание украшено репродукциями картин магаданских живописцев, фотографиями местных фотохудожников. По словам кандидата филологических наук, доцента Северо-Восточного государственного университета Е.М. Гоголевой, наличие этого журнала – настоящее подтверждение литературного процесса в области.
По словам кандидата филологических наук, доцента Северо-Восточного государственного университета Е.М. Гоголевой, наличие этого журнала – настоящее подтверждение литературного процесса в области.
В Магадане в разные годы были изданы такие сборники произведений колымских авторов, в основном стихов, как «Голосует сердце» (1961), «Озябший меридиан» (1966), «Озябший меридиан-2» (1977), «Северное притяжение» (1983), «Пою тебя, Чукотка» (1983), «Я расскажу тебе про Магадан» (1991), «Снегозор : новые произведения магаданских писателей» (1996). В 2014 г. вышла в свет поэтическая антология магаданских авторов XX-XXI вв. «Северная строка».В издание вошли избранные произведения более 60 поэтов Крайнего Северо-Востока, созданные в основном в 30-90-е годы века прошлого и начале нынешнего века, что позволяет увидеть северную литературу на протяжении нескольких десятилетий. Магаданские писатели регулярно публикуются не только на страницах местных периодических изданий, но и в региональных журналах «Дальний Восток», «Мир Севера» и других, их произведения представлены на литературных интернет-порталах. В 2008 г. в Кемерово вышла «Антология XX века. Русская сибирская поэзия», куда включена значительная подборка стихов магаданских авторов.
В 2008 г. в Кемерово вышла «Антология XX века. Русская сибирская поэзия», куда включена значительная подборка стихов магаданских авторов.
Нельзя не упомянуть о пласте литературы, связанном с периодом репрессий 1930-х – начала 1950-х гг. Многим читателям в нашей стране и особенно за рубежом Колыма стала знакома благодаря талантливым произведениям репрессированных писателей: «Колымским рассказам» и «Колымским тетрадям» Варлама Шаламова, «Крутому маршруту» Евгении Гинзбург, «Чёрным камням» и стихам Анатолия Жигулина, «Узелкам на память» Асира Сандлера, художественным рассказам Георгия Жженова.
Нынешним членам Магаданской писательской организации не приходится начинать с нуля: они преемники богатых традиций. Все помнят книги В.В. Леонтьева, А.В. Мифтахутдинова, А.А. Пчелкина, миллионные тиражи столичных изданий Ю.С. Рытхэу, удостоенные литературных премий роман О.М. Куваева «Территория» (1-я премия ВЦСПС и Союза писателей СССР) и сборник Л.Л. Кокоулина «В ожидании счастливой встречи» (3-я премия на Всесоюзном конкурсе на лучшее произведение художественной прозы о современном рабочем классе и колхозном крестьянстве). В разные годы премии Магаданского комсомола удостаивались А.В. Мифтахутдинов (сборник «Очень маленький земной шар»), О.М. Куваев (роман «Территория», сборники повестей и рассказов), В.Г. Христофоров (сборник «Лагуна Предательская»), З.Н. Ненлюмкина и А.И. Черевченко (переводчик) (книга стихов «Птицы Наукана»). Олегу Куваеву посмертно присвоено высокое звание «Почётный граждан Магаданской области», его имя носит Центральная городская библиотека города Магадана, в Магадане есть мемориальная доска на доме, где он жил. Именем известного советского поэта, участника Великой Отечественной войны, бывшего колымчанина Сергея Наровчатова названа улица в столице Колымы, на ней также установлена мемориальная доска.
В разные годы премии Магаданского комсомола удостаивались А.В. Мифтахутдинов (сборник «Очень маленький земной шар»), О.М. Куваев (роман «Территория», сборники повестей и рассказов), В.Г. Христофоров (сборник «Лагуна Предательская»), З.Н. Ненлюмкина и А.И. Черевченко (переводчик) (книга стихов «Птицы Наукана»). Олегу Куваеву посмертно присвоено высокое звание «Почётный граждан Магаданской области», его имя носит Центральная городская библиотека города Магадана, в Магадане есть мемориальная доска на доме, где он жил. Именем известного советского поэта, участника Великой Отечественной войны, бывшего колымчанина Сергея Наровчатова названа улица в столице Колымы, на ней также установлена мемориальная доска.
Современные магаданские авторы тоже становятся победителями литературных конкурсов, получают дипломы и премии. Так, лауреатами и дипломантами премии имени Ю. Рытхэу в разное время становились А.А. Кымытваль, З.В. Самсоненко (Чина Моторова), С.М. Олефир, Ю.П. Пензин, А.А. Пчелкин и другие, серебряным лауреатом конкурса «Золотое перо Руси» – 2007 в номинации «Юмор» стал В. И. Данилушкин. С. Р. Бахвалов, С. М. Олефир, С. Ф. Поляков, В. М. Фатеев удостоены звания «Человек года», учреждённого органами самоуправления г. Магадана.А. А. Кымытваль в 2011 г. стала лауреатом премии губернатора Магаданской области лучшему хранителю национальных традиций малочисленных народов Севера в номинации «Народный сказитель». Магаданские авторы неоднократно становились лауреатами международных, всероссийских и региональных литературных конкурсов, получали дипломы и премии. В декабре 2011 г. Анатолий Федорович Суздальцев и Иван Александрович Паникаров были удостоены премии Правительства РФ в области культуры как составители книги стихов репрессированных поэтов «Полюс лютости» (2010). В открытом литературном конкурсе им. Ю.С. Рытхэу успехов добились Антонина Кымытваль, Виктор Николенко, Станислав Олефир, Анатолий Суздальцев, Константин Ханькан, Семен Губичан. Ответственный секретарь Магаданской писательской организации В.М. Фатеев в ноябре 2014 г. удостоен серебряной медали лауреата Всероссийской литературной премии «Белуха» им.
И. Данилушкин. С. Р. Бахвалов, С. М. Олефир, С. Ф. Поляков, В. М. Фатеев удостоены звания «Человек года», учреждённого органами самоуправления г. Магадана.А. А. Кымытваль в 2011 г. стала лауреатом премии губернатора Магаданской области лучшему хранителю национальных традиций малочисленных народов Севера в номинации «Народный сказитель». Магаданские авторы неоднократно становились лауреатами международных, всероссийских и региональных литературных конкурсов, получали дипломы и премии. В декабре 2011 г. Анатолий Федорович Суздальцев и Иван Александрович Паникаров были удостоены премии Правительства РФ в области культуры как составители книги стихов репрессированных поэтов «Полюс лютости» (2010). В открытом литературном конкурсе им. Ю.С. Рытхэу успехов добились Антонина Кымытваль, Виктор Николенко, Станислав Олефир, Анатолий Суздальцев, Константин Ханькан, Семен Губичан. Ответственный секретарь Магаданской писательской организации В.М. Фатеев в ноябре 2014 г. удостоен серебряной медали лауреата Всероссийской литературной премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова.
Г. Д. Гребенщикова.
Сегодня в очереди на издание стоят более десятка новых рукописей: стихов, романов, повестей, появляются всё новые имена. Магаданская литература жива и продолжается.
Электронный каталог библиотеки «Мемориала»
Мета В.И., Диденко В.В.
Мета В.И., Диденко В.В.
Владимир И. Мета, Вера В. Диденко — Магадан: МАОБТИ, 2000 — 299 с., [3] с.: ил. — 1500 экз.
Очерки о судьбах заключенных колымских лагерей. Материалы следственных дел (часть — факсимильно) по делам о саботаже и контрреволюционной агитации: протоколы допросов, анкеты заключенных, приговоры тройки УНКВД Дальстроя. Выборочный список осужденных по политическим мотивам, в отношении которых смертный приговор был приведен в исполнение на территории Магаданской области (более 800 человек), содержание справки: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства, национальность, дата осуждения, дата расстрела, дата реабилитации.
Дмитриев Ю. А.
А.
Место памяти Сандармох. Г – Е.
- Петрозаводск, 2021
Чеченцы Дагестана: Бесконечная дорога домой
- Нальчик, 2019
Капков К.Г.
Тьма. Трагедия. Террор. История разорения Николо-Сольбинского монастыря и судьбы 8 его обитателей, 1918-1938. Проблемы прочтения следственных дел
- М., Местечко Сольба, 2021
Кинг Д.
Обычные граждане — жертвы Сталина: фотоальбом
- М., 2015
Фотоальбом «Страницы памяти»: Самарово, Перековка, Рыбный, МТФ, Остяко-Вогульск, Ханты-Мансийск
- Ханты-Мансийск, 2020
Сост. Лебедев П.А.
Книга памяти участников гражданской и Великой Отечественной войн села Церковное Тарасовского сельского Совета Плесецкого района
Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской области. Том 15
- Великий Новгород, 2018
Книга памяти жертв политических репрессий Воронежской области. Том 4. А — С
- Тамбов, 2019
Автор-составитель: Екатерина Криволапова
Благословенный Нарым: история православия в Нарымском крае
- Томск, 2019
Убиты в Калинине, захоронены в Медном: Книга Памяти польских военнопленных, — узников Осташковского лагеря НКВД СССР, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. Том 1
Том 1
- М., 2019
Ян Дворжак, Ярослав Форманек, Адам Градилек
Čechoslováci v Gulagu III { cechoslovaci v gulagu III }
- Прага, 2019
Дмитриев Ю.А.
Место памяти Сандармох
- Петрозаводск, 2020
Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920-1953-жж.) 10 томдук: Том 2. Б — В
- Бишкек, 2020
Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920-1953-жж.) 10 томдук: Том 1 — А
- Бишкек, 2020
Мартынова Ольга Марковна
Против Собственного Народа
- Екатеринбург, 2012
Malgorzata Grupa, Ryszard Kazmierczak
Dowody wydobyte z ziemi : nazwiska oficerów Wojska Polskiego odczytane na dokumentach i przedmiotach wydobytych podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Charkowie w latach 1995-1996
- Варшава
Архимандрит Иосиф (Еременко)
«Не забывайте прошлого своего» : Проповеди. Статьи.
- Алма-Ата, 2017
Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-, церковнослужителей, монашествующих и мирян Северо-Запада России
- СПб.
 , 2017
, 2017
Неугасимый светильник. Памяти членов Еврейского Антифашистского Комитета
Дамаскин (Орловский), архимандрит
Единство через страдания. Новомученики России, Украины и Беларуси
- М., 2018
Dante Corneli
Italiani vittime di Togliatti e dello stalinismo. Scritti storico-politici di Dante Corneli, Vol. 2
Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Т. 12. Ч. 2
- Сыктывкар, 2017
Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 9. Обвинение. Приговор. Реабилитация. Ч. 3
- СПб., 2015
Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 9. Обвинение. Приговор. Реабилитация. Ч.2
- СПб., 2015
Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 9. Обвинение. Приговор. Реабилитация. Ч.1
Ч.1
- СПб., 2015
Малых В.
Спецтюрьма в Болшеве (историческое исследование)
- М., 2017
«Они тогда еще живыми были». Из архивных дел репрессированных на Судострое-Молотовске
- М. — Северодвинск, 2019
Васильев Г.
Книга памяти жертв политических репрессий в городе Магнитогорске и прилегающих сельских районах: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Пластовский, Троицкий, Уйский, Чесменский, 1920-1953 гг. Т. 11
- Магнитогорск, 2019
Тополянский В.
Десятая муза
- М., 2019
Хакимов Р.
«Кунашакское дело» или Дело № 5439
- Челябинск, 2018
Убиты в Калинине, захоронены в Медном. Книга памяти польских военнопленных — узников Осташковского лагеря НКВД СССР, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. Т. 2. Биограммы военнопленных. М-Я
- М., 2019
Убиты в Калинине, захоронены в Медном. Книга памяти польских военнопленных — узников Осташковского лагеря НКВД СССР, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. Т. 1. Биограммы военнопленных. А-Л
Книга памяти польских военнопленных — узников Осташковского лагеря НКВД СССР, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. Т. 1. Биограммы военнопленных. А-Л
- М., 2019
Федоров М.
Дело поверенных
- Воронеж, 2014
Васильев Г.
Книга памяти жертв политических репрессий в городе Магнитогорске и прилегающих сельских районах: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Пластовский, Троицкий, Уйский, Чесменский, 1929-1953 гг. Т. 10
- Магнитогорск, 2018
Имя на карте. Васин хутор — Политотдел. Документально-исторический очерк
- Омск, 2019
Боченков В.
Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.). Биобиблиографический словарь
- М., 2019
Кукатов А., Геец Н.
Орловский военный округ. 1938-1941. Т. 2. 1941
- Брянск, 2019
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 5. Д»
Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 5. Д»
- М., 2017
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 4. «Г»
- М., 2017
Hedeler W., Herbst A., Kaiser G., Volpert A.
Der Vergessenheit entrissen. Lebensschicksale von 253 Russlandfahrern aus Thuringen
- Erfurt, 2017
Святые Симбирского края
- Ульяновск, 2017
Ушакова Л.
Ты Родина моя — деревня Стулово!
- Ногинск, 2019
Кремль за решеткой (Подпольная Россия)
- М., 2017
Шевченко Т.
Валаамские иноки в эпоху гонений: Московское подворье Валаамского монастыря и его насельники после революции 1917 года
- М., 2018
Mlodziez wobec historii. Materialy z uczniowskich ekspedycji badawczych cz. 3. Ekspedycje mlodziezy na terenie Republiki Komi Federacji Rosyjskiej
- Bystrzyca Klodzka, 2015
«Великий терор» в Украiнi: нiмецька операция 1937-1938 рокiв. Збiрник документiв
Збiрник документiв
- Киiв, 2018
Реквием по «врагам народа». К 80-летию комбината «Североникель» и Кольской ГМК «Норильский никель»
- Мончегорск, 2018
Каталог изданий книг авторов, репрессированных в годы советской власти. Книги из собрания Владимира Петрицкого
- М., 2018
Новотрясов Н., Богданович С., Богданович Л.
Разорванная связь поколений
- Саранск, 2009
Дело «Национального союза немцев на Украине». 1935-1937 гг.: документы и материалы
- Киiв, 2016
Чернова Т.
Омуты Вель-реки. Сборник воспоминаний и документов о судьбах смоленских латышей
- Смоленск, 2016
Рожина А., Рожина Т.
Женская обитель. История Крестовоздвиженского Кылтовского женского монастыря от основания до современности
- Сыктывкар, 2018
Реабiлiтованi iсторiею. Миколаiвська область. Кн. 7 (сьома)
- Миколаiв, 2017
Репрессии и раскулачивание по Бессарабии (1940-1941, 1944-1945, 1948-1952 гг. )
)
- Одесса, 2015
Московский политический Красный Крест (Московский Комитет Общества Красного Креста для помощи политическим заключенным в России). 1918-1922 годы. Биографический справочник
- М., 2018
Годы террора. Книга памяти жертв политических репрессий. Ч. 4. Т. 2
- Пермь, 2018
Абдурахманов С.
На крутых поворотах нашей жизни
- Махачкала, 2010
Тайные некрополи Симбирска
- Ульяновск, 2016
Klause I.
Der Klang des Gulag. Musik und Musiker in den sowijetischen Zwangsarbeitslagern der 1920er- bis 1950er-Jahre
- Germany, 2014
Собор Саратовских святых. Сборник житий
- Саратов, 2017
Didziosios tremtys. Buriatija. 1948 m.
- Vilnius, 2018
Небесная слава земли Новгородской. Избранные жития новых мучеников и исповедников Церкви Русской
- Великий Новгород, 2017
Книга памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю. Т. 9
Т. 9
- Краснодар, 2016
Беляков А., Смирнов С.
Лишенцы Нижегородского края (1918-1936 гг.)
- Нижний Новгород, 2018
Didziosios tremtys. Buriatija. 1948 m.
- Vilnius, 2018
Денисов В.
Моя родословная в истории села Нижняя Павловка Оренбургского района Оренбургской области
- Оренбург, 2007
Isikute Luhiandmed Eesti Kommunismiohvrite Memoriaalile 1940-1991. Kommunismiohvrite Nimekiri Memoriaalil 23.08.2018
- Tallinn, 2018
Аблажей Н.
С чужбины на чужбину… Армянские иммигранты в алтайской ссылке (1949-1958 гг.)
- Новосибирск, 2018
Никонов В., Ушатова Н.
За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920-1950-х гг. на территории Раменского района Московской области. Т. 3. Загорновская волость
- Гжель, 2018
Соловецкие новомученики. Избранные жизнеописания
- М. — Соловки, 2009
Исповеднический путь монашествующих на Кавказе: 1920-1930-е годы
- М.
 , 2017
, 2017
Восточный сборник. Вып. 5
- СПб., 1993
Деятели русской науки XIX-XX веков. Вып. 2
- СПб., 1993
Польскiй М., прот.
Каноническое положение высшей церковной власти въ СССР и заграницей
- Jordanville, 1948
Устинов Л.
Нарымский край в годы репрессий. 1923-1953
- Томск, 2017
Соколов А., митрофор. прот.
Стопы жизни в годы гонений на Церковь
- Нижний Новгород, 2012
Шкаровский М., Черепанина Н., Шикер А.
Римско-Католическая Церковь на Северо-Западе России в XX веке
- М., 2017
Жители Тулы до и после 1917 г. Справочник. 1900-1941 гг.
- Тула, 2017
Костромская Голгофа. Кн. 1
- Кострома, 2017
Новомученики и исповедники Костромского края
- Кострома, 2017
Торжество веры. Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской в Московской епархии
- М.
 , 2018
, 2018
архим. Дамаскин (Орловский), протоиер. Борис Пивоваров
Новомученики Новосибирские
- М., 2017
Казанцев П.
Новомученики и исповедники Ямальские
- М., 2017
Новомученики и исповедники Екатеринбургские. Вып. 1
- М. Екатеринбург, 2018
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 3. В
- М., 2017
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Биографический справочник. Кн. 2. Б
- М., 2016
Матюшин С., свящ.
Ваганьковское кладбище. За Христа пострадавшие
- М., 2016
Беляков А., Дегтева О., Сенюткина О., Смирнов С.
Политические репрессии в Нижегородской области. 1917-1953 гг.
- Нижний Новгород, 2017
Валиев А.
Мой век
- Казань, 2006
Пресса Карлага. Т. 2. «За социалистическое животноводство». Орган культурно-воспитательного отдела Карагандинского исправительно-трудового лагеря (1946-1950 гг.)
Орган культурно-воспитательного отдела Карагандинского исправительно-трудового лагеря (1946-1950 гг.)
- Караганда, 2017
Пресса Карлага. Т. 1. «Путевка» (1934-1935 гг.). «За новую технику» (1934-1935 гг.). «Жана жол» (1934-1935 жж.)
- Караганда, 2017
Петровская Е.
Новая деревня в Москве. История одного Таганского микрорайона
- М., 2016
Белхороев Я.
1944-1957 шерашка Сталина Iазапах байна БатIал-Хьажийна тIехьара бусалба Вежарий, Йижарий (Последователи святого Шейха из Сурхахов Батал-Хаджи Белхороева, погибшие в результате геноцида ингушского народа сталинским режимом в 1944-1957 гг.)
- Назрань, 2016
Mlodziez wobec historii. Materialy z uczniowskich ekspedycji badawczych cz. 2. Ekspedycje mlodziezy na terenie Republiki Komi Federacji Rosyjskiej
- Bystrzyca Klodzka, 2015
Музалевский М.
Героини Гражданской войны. Т. 2
- М., 2017
Гришаев В. Ф.
Ф.
Дважды убитые: (К истории сталинских репрессий в Бийске)
- Барнаул, 1999
«Возлюбив Бога и следуя за Ним…»: Гонения на русских католиков в СССР: По воспоминаниям и письмам монахинь-доминиканок Абрикосовской общины и материалам следственных дел 1923 — 1949 гг.
- М., 1999
Простите, звезды Господни: Исповедники и соглядатаи в документах, или Зачем русскому Церковь ?
- Фрязино, 1999
Jency zmarli i zaginieni: Alfabetyczne wykazy 457 jencow wojennych z 1939 roku — Polakow i obywateli polskich — zmarlych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941
- W-wa, 1999
Кучин С. П.
Полянский ИТЛ (ГУЛАГ — уголовный): Документально-историческое повествование об исправительно-трудовом лагере «Полянский» (из цикла «История города»)
- Железногорск (Красноярск-26), 1999
Чудная планета. Колыма в Алфавите инакомыслия
Иван Толстой:
Колыма, Колыма,
Чудная планета.
Двенадцать месяцев – зима.
Остальное – лето.
Андрей, это вы предложили колымскую тему для нашего цикла. А за базар фраер должен отвечать. Обоснуйте, пожалуйста, ваш выбор. Что в этой Колыме, самой по себе, инакомысленного?
«Колыма» в общественном российском или советском сознании заменила и вытеснила слово «Сибирь»
Андрей Гаврилов: Иван, если глупо шутить, то можно говорить, что Колыма была наполнена инакомыслием. На самом деле слово Колыма возникло в разговоре о нашем «Алфавите» несколько неожиданно для меня самого, потому что в общем мы предпочитали говорить о людях, о явлениях по другую сторону колючей проволоки. Но я вдруг подумал, что Колыма в общественном российском или советском сознании заменила и вытеснила слово «Сибирь». Мы знаем, что жены декабристов ехали за ними в Сибирь, ссылали в Сибирь, в оковах и кандалах несчастные по Владимирскому тракту шли в Сибирь, и мы сразу понимали, что это 19-й век, от Пушкина до Толстого, даже чуть подальше.
Иван Толстой: А я на самом деле не до конца согласился, потому что во мне бродят сомнения. Символом ГУЛАГа стала Колыма. А почему не Соловки? Ведь они как-то и звонче, и давнее, и не то что с пушкинских времен, а бог знает с каких времен. Соловецкий монастырь – это символ ссылки, заточения, смерти и расстояния. Или все-таки Колыма с Магаданом дальше и ужаснее? Как вы думаете?
Символом ГУЛАГа стала Колыма. А почему не Соловки? Ведь они как-то и звонче, и давнее, и не то что с пушкинских времен, а бог знает с каких времен. Соловецкий монастырь – это символ ссылки, заточения, смерти и расстояния. Или все-таки Колыма с Магаданом дальше и ужаснее? Как вы думаете?
Андрей Гаврилов: Я думаю, они, во-первых, дальше и ужаснее. С Соловков, в общем, можно было, я не говорю про физическую возможность, бежать или уйти, но можно было дойти до цивилизации обратно, а с Колымы это было практически невозможно. Недаром Колыму назвали «другой планетой». Это что-то настолько далекое и ужасное, что пока не смилостивится тот, кто тебя туда отправил, обратно ты уйти не сможешь. А потом, может быть, именно потому, что Соловки всегда были символом противоправного заточения, потребовалось что-то новое, чтобы подчеркнуть новые веяния в нашем обществе. Каждое слово звучит так ужасно, что я пытаюсь как-то интонационно подчеркнуть мое неприятие этих слов, но вдруг понимаю, что, наверное, именно этим новоязом Колыма и объяснялась, тем новоязом, которой потом проник и в официальную печать, в прессу, на страницы газет и журналов.
Варлам Шаламов недаром назвал Александра Исаевича «лакировщиком советской действительности»
Иван Толстой: Как интересно, Андрей. Вы сказали – «другая планета» Колыма. И это, действительно, из-за удаленности как какой-то Уран, Нептун, Плутон. Кстати, неслучайно фольклорно встречается и «чудная планета», и «черная планета», несмотря на покрытость снегом чуть ли не круглогодичную. Я, слава богу, не бывал, но такое впечатление, что там всегда белым-бело, и от этого особенно черно на душе. Так вот, «черной планетой» называют, думая, что исправляют строчку в известной песне, которую мы, конечно, сегодня в нашей программе послушаем. Не могли ее называть «чудной планетой». Нет, «чудная планета» – именно из-за другого фольклорного двустишия, с которого я начал. Она, конечно, и черная, и чудная. Мне кажется, что помимо литературных произведений есть и произведения песенные, фольклорно-песенные. Давайте начнем с какой-нибудь колымской музыки.
Андрей Гаврилов: Довольно трудно выбрать, потому что есть песни напрямую про Колыму, а есть песни, где Колыма идет фоном, как нечто постоянное, бытовое, рутинное, как новая жизнь на новой планете. Тот же «Окурочек» Юза Алешковского. Там Колыма это то место, где живут все герои песни. Но начать надо с чего-то более хрестоматийного. А давайте, выберите вы сегодня?
Иван Толстой: Да, я предлагаю начать именно с Юза Алешковского и его «Окурочка». Как вы правильно сказали, такой просто символической песни. Вот что происходит на Колыме, если не углубляться в какую-то политику, серьезную трагическую литературу. Вот такой драматический и почти комический эпизод – костровый, застольный, почти салонный, прости господи, несмотря на весь драматизм этой короткой истории.
 Если вспомнить, то у Солженицына в этой повести тоже не показаны уж такие смертельные ужасы, показана будничная жизнь одного дня, и от этого к концу повести становится еще страшнее. Так же примерно и в песне «Окурочек».
Если вспомнить, то у Солженицына в этой повести тоже не показаны уж такие смертельные ужасы, показана будничная жизнь одного дня, и от этого к концу повести становится еще страшнее. Так же примерно и в песне «Окурочек».
Иван Толстой: Совершенно верно! И Варлам Шаламов недаром назвал Александра Исаевича «лакировщиком советской действительности».
(Юз Алешковский, «Окурочек»)
Андрей Гаврилов: Это был Юз Алешковский и его песня «Окурочек», одна из трех-четырех знаменитых его песен, знаменитых настолько, что у нее есть, как теперь принято говорить, международный вариант. Ив Монтан записал свой вариант песни «Окурочек» на смеси русского и французского языка, и я предлагаю послушать фрагмент этой записи.
(Ив Монтан, «Окурочек»)
Иван Толстой: Самый известный цикл, объединенный темой Колымы, – это, конечно, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, представлять который читателю излишне.
Диктор: «Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму тридцать седьмого – тридцать восьмого года. Первым вихрем было «берзинское дело». Начальник «Дальстроя», открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин, был расстрелян как японский шпион в конце тридцать седьмого года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники – Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васьков, Цвирко – вся гвардия «вишерцев», приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году.
По «берзинскому делу» арестованы и расстреляны или награждены «сроками» многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных, – начальники приисков и лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и прорабы, старосты и бригадиры. ..
..
Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая «гаранинщина». Расправа с «врагами народа», расправа с «троцкистами».
Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные-музыканты из «бытовиков» играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время – будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение.
Я видел Гаранина раз пятьдесят. Лет сорока пяти, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами, он носился по северным приискам день и ночь на своей черной машине ЗИС-110. После говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал лично – а только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин». По сталинской традиции тех лет Гаранин должен был скоро умереть. Действительно, он был схвачен, арестован, осужден как японский шпион и расстрелян в Магадане.
Зачастую судьба женщин инакомыслящих была намного тяжелее судьбы инакомыслящих мужчин. На Колыме это проявлялось особенно страшно
Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин – один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время. «Прикрывающая» легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Легенда – одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей».
Легенда – одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей».
Иван Толстой: И, продолжая трагический ракурс, а ракурс, связанный с Колымой, не всегда трагический – он бывал и драматическим, и иногда даже пересмешническим, как мы увидим, я хотел предложить вниманию наших слушателей пение а капелла самой знаменитой колымской песни, которая так и называется «Колыма», или «Я помню тот Ванинский порт», в исполнении Майи Улановской, самой колымчанки, проведшей около пяти лет в колымских лагерях. Запись из архива Радио Свобода 31 октября 1976 года, программа Юрия Мельникова.
Майя Улановская(Майя Улановская, «Колыма»)
Андрей Гаврилов: Если перейти к свидетельствам колымчан, тех, кому удалось выжить в этом колымском аду, в «белом аду», как говорил Алешковский, мне кажется, особое место занимают воспоминания тех женщин, которые попали на Колыму. Мы с вами однажды делали программу о женщинах в СССР и о том, что зачастую судьба женщин инакомыслящих была намного тяжелее судьбы инакомыслящих мужчин. Так вот, на Колыме это проявлялось особенно страшно. Сразу сниму все возражения относительно того, были ли все женщины, которые попали в эти лагеря, инакомыслящими или там были и уголовницы. Да, конечно, были и люди, попавшие туда случайно, естественно, машина не разбиралась. Тем не менее, я хотел бы рассказать об одном явлении, которого не могли ощутить мужчины. Это положение женщины в лагере вообще и, в частности, в колымских лагерях. Това Перельштейн, которая прошла через колымские лагеря, вспоминала, что женщины, которые смогли родить в условиях лагеря, сразу лишались своего ребенка, его забирали в детский дом. Поскольку нужно было экономить на еде, то ребенка отдавали на кормление матерям пять раз в день, поэтому даже матерей чуть-чуть получше кормили. Но самое чудовищное заключается в том, что для того, чтобы женщина могла покормить своего ребенка, она должна была получить справку о том, что она выполнила норму выработки на сто процентов. То есть не принималось во внимание ни здоровье, ни ослабленное состояние.
Так вот, на Колыме это проявлялось особенно страшно. Сразу сниму все возражения относительно того, были ли все женщины, которые попали в эти лагеря, инакомыслящими или там были и уголовницы. Да, конечно, были и люди, попавшие туда случайно, естественно, машина не разбиралась. Тем не менее, я хотел бы рассказать об одном явлении, которого не могли ощутить мужчины. Это положение женщины в лагере вообще и, в частности, в колымских лагерях. Това Перельштейн, которая прошла через колымские лагеря, вспоминала, что женщины, которые смогли родить в условиях лагеря, сразу лишались своего ребенка, его забирали в детский дом. Поскольку нужно было экономить на еде, то ребенка отдавали на кормление матерям пять раз в день, поэтому даже матерей чуть-чуть получше кормили. Но самое чудовищное заключается в том, что для того, чтобы женщина могла покормить своего ребенка, она должна была получить справку о том, что она выполнила норму выработки на сто процентов. То есть не принималось во внимание ни здоровье, ни ослабленное состояние. Вот если она не вырубила сколько полагается деревьев или не выкопала сколько полагается метров канавы, то ее ребенок мог остаться голодным. Вот этот жуткий шантаж, которому подвергались кормящие материи на Колыме, честно говоря, про такое я не слышал больше нигде и никогда.
Вот если она не вырубила сколько полагается деревьев или не выкопала сколько полагается метров канавы, то ее ребенок мог остаться голодным. Вот этот жуткий шантаж, которому подвергались кормящие материи на Колыме, честно говоря, про такое я не слышал больше нигде и никогда.
И здесь нужно сказать, что, конечно, Колыма славилась еще одним чудовищным явлением – массовым изнасилованием женщин-заключенных, которое даже получило название «колымский трамвай». Получило благодаря мемуарам Елены Глинки, написавшей два рассказа, два воспоминания – «Трюм, или Большой колымский трамвай» и «Колымский трамвай» средней тяжести». Очень небольшие рассказы, очень тяжелое чтение про то, как с подачи, с разрешения, с головотяпства лагерного начальства, конвоиров, вохровцев в места, где содержались заключенные женщины, пробивались заключенные урки, мужчины, уголовники, потерявшие всяческий человеческий облик, и массовое изнасилование продолжалось несколько дней. Жуткая фраза: «Трупы женщин оттаскивали к дверям, и все продолжалось дальше». Это из ее воспоминаний «Колымский трамвай» средней тяжести». В свое время Варлам Шаламов сказал, что «отношение к женщине – это лакмусовая бумажка всякой этики». Так вот, на Колыме слово «этика» можно было забыть. О Колыме написано много, мы знаем прозу Евгении Гинзбург, Адамова-Слиозберг писала о Колыме, но мемуары Елены Глинки занимают совершенно особое, абсолютно чудовищное и страшное место в этом литературном ряду.
Это из ее воспоминаний «Колымский трамвай» средней тяжести». В свое время Варлам Шаламов сказал, что «отношение к женщине – это лакмусовая бумажка всякой этики». Так вот, на Колыме слово «этика» можно было забыть. О Колыме написано много, мы знаем прозу Евгении Гинзбург, Адамова-Слиозберг писала о Колыме, но мемуары Елены Глинки занимают совершенно особое, абсолютно чудовищное и страшное место в этом литературном ряду.
Иван Толстой: Еще одни женские воспоминания о Колыме. На этот раз связанные с творчеством. Как человек мог творить, писать, сочинять, придумывать, записывать и прятать в условиях колымского сидения. Рассказ Елены Владимировой. Он опубликован в 1965 году в московском самиздатском журнале «Политический дневник», в 9-м номере. Архивная запись Радио Свобода 19 февраля 1972 года.
Для того, чтобы женщина могла покормить своего ребенка, она должна была получить справку о том, что она выполнила норму выработки на сто процентов
Диктор: «У некоторых старых большевиков, реабилитированных после ХХ Съезда КПСС, можно увидеть папку со стихами Елены Владимировой, ленинградской коммунистки, отсидевшей, вместе с миллионами других, семнадцать лет в тюрьмах и лагерях сталинского времени. Эти стихи сочинены Владимировой в заключении, многие из них были записаны на бумагу только после освобождения. Владимирова написала также поэму «Колыма, или Северная повесть». Касаясь истории создания этой поэмы, Владимирова писала своим друзьям:
Эти стихи сочинены Владимировой в заключении, многие из них были записаны на бумагу только после освобождения. Владимирова написала также поэму «Колыма, или Северная повесть». Касаясь истории создания этой поэмы, Владимирова писала своим друзьям:
«Друзья, раз уж речь зашла о «Северной повести», расскажу, как она создавалась. Это ведь тоже целая повесть, и даже ты, Аля, ее не знаешь. Когда мне заменили расстрел каторгой, я попала в горный глухой район, в небольшую, замкнутую со всех сторон долину. Такая безнадёжность была во всем, что я задумалась, как, на что истратить остаток сил и дней. Работоспособность умственная, это я теперь понимаю, была исключительная. В голове я могла делать все, что хочу и при любых обстоятельствах, и я решила – напишу повесть, охватывающую все виденное в ее главном разрезе. Но писать, конечно, было нельзя. «Писать» было слово условное. Я начала «писать» в голове, но понимала, что мне нужно сохранить вещь. А на свое долголетие я не рассчитывала. Пришла мысль, как будто неосуществимая, но в жизни, когда приложишь руки, многое неосуществимое осуществляется. Я решила найти человека молодого, который возьмет на себя сохранить написанное. Для этого нужно было со слов запоминать наизусть. Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. После работы, то есть после дня повала (мне в отношении работы было легче, чем ей, но и мне было нелегко), мы садились где-нибудь во дворе и, делая вид, что безразлично разговариваем, занимались нашим делом.
Я решила найти человека молодого, который возьмет на себя сохранить написанное. Для этого нужно было со слов запоминать наизусть. Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. После работы, то есть после дня повала (мне в отношении работы было легче, чем ей, но и мне было нелегко), мы садились где-нибудь во дворе и, делая вид, что безразлично разговариваем, занимались нашим делом.
Любое услышанное посторонним слово могло грозить любым последствием. Но, нас развели. Я уехала на материк, работу прервала более чем на год. Потом снова взяла себя в руки, и в довольно быстрых темпах кончила все. К бумаге прибегала лишь для того, чтобы временно закрепить начальными буквами строк рождавшиеся куски, потом выбрасывала, а то и без этого обходилась. Наконец, кончила. Вещь вышла большая, строк примерно на четыре тысячи. И тут оказалось, что я ею во многом недовольна. Переделывать такую вещь в уме? Не думала, что это возможно. Но стала делать, и сделала. Это еще труднее, чем писать. А можно. Очень гибкая штука – человеческий ум. Но, кончив, встала перед задачей, едва ли не труднейшей, во всяком случае бесконечно опаснейшей. Ведь нужно было вынуть из головы и материализовать. Я решила ее записать на папиросной бумаге и где-нибудь закопать или замуровать. Конечно, я делала, как поняла потом, бесполезную работу, хотя довела ее до конца. Бесполезную уже потому, что по неопытности или непродуманности все засунула в жестяную коробку. Все, наверное, проржавело и сгнило, хотя теперь это, наверное, не имеет значения. Вспоминаю отдельный эпизод работы. Во-первых, писать надо было обязательно совсем открыто, не прячась, потому что иначе все сразу же провалилось бы. И, вместе с тем, это «открыто» значило под самым носом начальства, на глазах всех, но незаметно для них. Я брала иголку и какую-нибудь починку, кусочек карандаша и бумагу, и делала свои два дела одновременно. Садилась обычно поближе к воде, на всякий случай – утопить всю папиросную работу в луже, колодце, ведре, кувшине, и ограничиться карцером.
А можно. Очень гибкая штука – человеческий ум. Но, кончив, встала перед задачей, едва ли не труднейшей, во всяком случае бесконечно опаснейшей. Ведь нужно было вынуть из головы и материализовать. Я решила ее записать на папиросной бумаге и где-нибудь закопать или замуровать. Конечно, я делала, как поняла потом, бесполезную работу, хотя довела ее до конца. Бесполезную уже потому, что по неопытности или непродуманности все засунула в жестяную коробку. Все, наверное, проржавело и сгнило, хотя теперь это, наверное, не имеет значения. Вспоминаю отдельный эпизод работы. Во-первых, писать надо было обязательно совсем открыто, не прячась, потому что иначе все сразу же провалилось бы. И, вместе с тем, это «открыто» значило под самым носом начальства, на глазах всех, но незаметно для них. Я брала иголку и какую-нибудь починку, кусочек карандаша и бумагу, и делала свои два дела одновременно. Садилась обычно поближе к воде, на всякий случай – утопить всю папиросную работу в луже, колодце, ведре, кувшине, и ограничиться карцером. Помню эпизод. Сидела у нашего клуба и писала ранней весной. Сзади, шагах в двадцати, была большая талая лужа. Вдруг, прямо из комендатуры, бежит на меня дежурный комендант. Я говорю себе: выдержка, не побегу до последней минуты! И замечаю (а сердце-то уже черт знает, где), что он смотрит выше меня. Ну, значит, сижу, не во мне дело. Кто-то, оказывается, белье на крыше клуба на колючках святотатственно сушил. Комендант в окно увидел и побежал срывать. Это может понять тот, кто знает, чем для человека, уже имевшего вышку за то же, грозила моя работа. А белье он со злости изорвал. Все это очень заполняло мое существование. Наконец, я сделала все. Записала на бумажке строк по двадцать. Значит, всего бумажек двести. Носила я их на шее в марлевом мешочке, всегда берегла еще, чтоб не смять. Ну и спрятала в той железной коробке, которая теперь, наверное, сгнила, замуровала. Страховала меня одна приятельница, один большой друг, не за что рисковавшая разделить мою судьбу. Я ее никогда не забуду, никогда она не будет для меня чужим человеком, я к ней питаю величайшее доверие, к ее дружбе, мужеству, выдержке и умению молчать.
Помню эпизод. Сидела у нашего клуба и писала ранней весной. Сзади, шагах в двадцати, была большая талая лужа. Вдруг, прямо из комендатуры, бежит на меня дежурный комендант. Я говорю себе: выдержка, не побегу до последней минуты! И замечаю (а сердце-то уже черт знает, где), что он смотрит выше меня. Ну, значит, сижу, не во мне дело. Кто-то, оказывается, белье на крыше клуба на колючках святотатственно сушил. Комендант в окно увидел и побежал срывать. Это может понять тот, кто знает, чем для человека, уже имевшего вышку за то же, грозила моя работа. А белье он со злости изорвал. Все это очень заполняло мое существование. Наконец, я сделала все. Записала на бумажке строк по двадцать. Значит, всего бумажек двести. Носила я их на шее в марлевом мешочке, всегда берегла еще, чтоб не смять. Ну и спрятала в той железной коробке, которая теперь, наверное, сгнила, замуровала. Страховала меня одна приятельница, один большой друг, не за что рисковавшая разделить мою судьбу. Я ее никогда не забуду, никогда она не будет для меня чужим человеком, я к ней питаю величайшее доверие, к ее дружбе, мужеству, выдержке и умению молчать. Она не разделяла моих взглядов, но никогда, это проверено годами, не воспользовалась моим доверием ради каких-то других целей. Я пишу об этом не случайно, ты поймешь.
Она не разделяла моих взглядов, но никогда, это проверено годами, не воспользовалась моим доверием ради каких-то других целей. Я пишу об этом не случайно, ты поймешь.
Ну, о втором варианте хранения вы сами знаете, и о его технике. А главная техника, опора и багажник была голова, позволившая мне все восстановить здесь, в Ленинграде, и передать туда, куда мы, коммунисты, не можем не передать своих дум и своего опыта».
Иван Толстой: А теперь небольшой фрагмент из поэмы Елены Владимировой «Колыма или Северная повесть»:
Вокруг стояла тишина
Та, что пристала только смерти,
Полярным льдам, провалам сна
И горю… Даже не заметив,
Как тихо тронулся развод,
Матвей, в раздумье погруженный,
Шагнул за всеми из ворот –
И обернулся пораженный.
Почти немыслимая здесь,
Фальшиво, дико, сухо, резко,
Как жесть гремящая о жесть
Звучала музыка оркестра. ..
..
В снега уставив свой костыль,
Окоченев в бушлате рваном,
Безногий парень колотил
В тугую кожу барабана;
Худой и желтый, как скелет,
Вот-вот готовый развалиться,
Дул кларнетист, подняв кларнет,
Как черный клюв огромной птицы;
У посиневших мертвых губ
Двух трубачей, стоявших тут же,
Блестела медь огромных труб,
Жестоко раскаленных стужей.
Казалось, призраки сошлись
В холодном сумраке рассвета,
Чтоб до конца наполнить жизнь
Своим неповторимым бредом.
Оркестр старался, как умел,
Жестоким холодом затравлен,
И барабан его гремел,
И сухо щелкали литавры.
Над жалким скопищем людей,
Желавших отдыха и хлеба,
В циничной наглости своей
Бравурный марш вздымался к небу.
Он нагонял людской поток,
Плывущий медленно за зону,
И спины согнутые сек
Хлыстами звуков напряженных,
Вздымался к небу, тек назад
И вновь метался по распадку
Среди глухонемых громад,
Застывших в царственном порядке,
Бесстрастно отводивших взор.
Никем не принятый, бездомный,
В блестящей сахарнице гор
Он бился мухою огромной,
Ни в ком ответа не родив,
Он симулировал свободу,
Отвергнут мертвою природой
И полумертвыми людьми…
Развод был долог… На горе
Темнели первые бригады,
А хвост кружился во дворе
И изгибался за оградой.
В лагерном фольклоре отражена вся история современной России
Я говорил, что не все песни, произведения и воспоминания о ГУЛАГе были такие уже трагические. В основном они были драматические, но некоторые были и такие облегченно почти юмористические, хотя юмор тут макабрный, тяжелый, черный юмор. Человек, который прошел через ад, и теперь, уже находясь за границами ада, он может позволить себе и улыбнуться, и пошутить. Бывший лагерник, отсидевший свой полагающийся срок, сотрудник Радио Свобода, журналист, ведущий и певец Леонид Пылаев. В его исполнении – лагерная пародия на знаменитую военную песню.
В основном они были драматические, но некоторые были и такие облегченно почти юмористические, хотя юмор тут макабрный, тяжелый, черный юмор. Человек, который прошел через ад, и теперь, уже находясь за границами ада, он может позволить себе и улыбнуться, и пошутить. Бывший лагерник, отсидевший свой полагающийся срок, сотрудник Радио Свобода, журналист, ведущий и певец Леонид Пылаев. В его исполнении – лагерная пародия на знаменитую военную песню.
Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, мороз и вечный снег,
В Воркуту пригнали, жить тут приказали,
Где от века не жил человек.
Эх, путь-дорожка заключенных,
Неповинных, но воли лишенных,
Эх, помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.
Прежде, чем мы уголь тут добыли,
Прежде, чем построили жилье,
Всех дружков хороших мы похоронили,
Сердце отморозили свое.
Эх, путь-дорожка, камениста,
По приказу чекиста-садиста,
Но помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.
Может быть, отдельным вольным лицам
Эта песня будет невдомек,
Мы ж не позабудем, где мы жить не будем,
Кровью чьей насыщен уголек.
Эх, путь-дорожка заключенных,
Неповинных, но воли лишенных,
Помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.
Иван Толстой: А вот настоящая магаданская драма, причем ничуть не политическая. Прозаик Михаил Демин, двоюродный брат знаменитого Юрия Трифонова, сидел в лагерях по прямым уголовным делам. Свой лагерный опыт он описал в нескольких книгах прозы, вышедших в начале 80-х на Западе. Многие главы своих книг Демин прочел у микрофона «Свободы». Роман «Блатной», авторское чтение. Парижская студия, запись 12 марта 1971 года.
Михаил ДеминМихаил Демин: Итак, продолжим разговор о лагерном фольклоре. Он интересен по многим причинам. И прежде всего, потому, что в нем, устном этом творчестве отверженных, отражена вся история советских лагерей – по существу, вся история современной России. Ведь, если вдуматься, с чего начала советская власть? С террора, с преследования инакомыслящих, с организации чекистских судилищ и создания режимных лагерей. Я вот думаю иногда, что если бы возможно было создать подробный большой сборник тюремного и лагерного фольклора, то он во многом мог бы заменить традиционные учебники по истории. Мало того, кое в чем он оказался бы гораздо ценнее их. В нем, этом сборнике, раскрылась бы и стала бы достоянием читающих масс вся та жестокая правда, какую обычно обходят и замалчивают. Советская власть началась с террора и укрепилась при его помощи. С течением времени колючая проволока опутала большую часть территории нашей страны. Первым крупным лагерем был, я уже рассказывал когда-то об этом, знаменитый Соловецкий монастырь. Это конец 20-х и середина 30-х годов. Затем появился Беломорканал. А впоследствии, в конце 30-х, все 40-е годы и даже начало 50-х, это время царствования «Дальстроя». «Дальстрой», а в просторечии его именуют просто Колыма, – гигантский лагерь, страшный лагерь, лагерь, о котором создано множество всяческих песен, песен печальных, ироничных, задумчивых.
Ведь, если вдуматься, с чего начала советская власть? С террора, с преследования инакомыслящих, с организации чекистских судилищ и создания режимных лагерей. Я вот думаю иногда, что если бы возможно было создать подробный большой сборник тюремного и лагерного фольклора, то он во многом мог бы заменить традиционные учебники по истории. Мало того, кое в чем он оказался бы гораздо ценнее их. В нем, этом сборнике, раскрылась бы и стала бы достоянием читающих масс вся та жестокая правда, какую обычно обходят и замалчивают. Советская власть началась с террора и укрепилась при его помощи. С течением времени колючая проволока опутала большую часть территории нашей страны. Первым крупным лагерем был, я уже рассказывал когда-то об этом, знаменитый Соловецкий монастырь. Это конец 20-х и середина 30-х годов. Затем появился Беломорканал. А впоследствии, в конце 30-х, все 40-е годы и даже начало 50-х, это время царствования «Дальстроя». «Дальстрой», а в просторечии его именуют просто Колыма, – гигантский лагерь, страшный лагерь, лагерь, о котором создано множество всяческих песен, песен печальных, ироничных, задумчивых. Среди них, конечно, подлинным шедевром, вершиной является песня «Будь проклята ты, Колыма, что названа «чудной планетой».
Среди них, конечно, подлинным шедевром, вершиной является песня «Будь проклята ты, Колыма, что названа «чудной планетой».
Вот эти строчки и напевал как раз Ленин, возясь на нарах карантинного барака, умащиваясь там, готовясь ко сну.
Мы лежали на одних нарах, рядышком. Справа от меня расположился Девка, молодой убийца с ангельским лицом. Слева – пожилой сибиряк по прозвищу Леший. Дальше, в самом углу, вил Ленин свое гнездо.
Узкоглазый, лысый, с бугристым шишковатым черепом, он копошился там и тянул, бормотал в половину голоса:
Прощай, дорогая жена,
Прощайте, любимые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Испить нам придется на свете.
Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь
Встречать ты меня не придешь…
– А ведь эта песня, братцы, про нас, – сказал внезапно Леший (он целый день пропадал где-то и только сейчас явился угрюмый, чем-то заметно удрученный). – Точно сказано! В самый цвет! Придется, ох, придется испить нам горькую чашу… До дна, до конца. Чует мое сердце.
– Точно сказано! В самый цвет! Придется, ох, придется испить нам горькую чашу… До дна, до конца. Чует мое сердце.
– Не ной ты, за ради Господа, – сказал, осекшись, Володя Ленин. – Ну, чего ты, в самом деле? И так на душе тоска.
– Да я не ною, – отозвался, посапывая, Леший. – Я так говорю, вообще… Но, с другой стороны, с чего бы это нам веселиться? Тут, среди придурков, в зоне обслуги, мне один знакомый растратчик встретился. Когда-то мы чалились вместе во Владимире. Так он мне порассказал кое-что…
– Что же, например? – спросил я.
– Н-ну что… – Леший поджал губы, крепко потер ладонью череп. – Много всякого. Насчет сучни, например. Ее здесь, оказывается, навалом. В каждом управлении половина лагпунктов – сучьи.
– Быть не может, – дернулся Ленин.
– Все точно, брат, – сказал со вздохом Леший, – все точно. На Сасумане – сучня, на Коркодоне тоже. И в Маркове, и в Анюйске. И по всей главной трассе… Кругом ихние кодлы!
Он зашуршал папиросами, закурил, закашлялся, поперхнувшись дымом.
– Учтите, здесь на Карпунке тоже имеются суки. Недавно мне рассказывали, такая мясня была, ой-ой! Пятнадцать трупов за одну ночь настряпали.
– Кто ж – кого? – спросил Девка.
Он помалкивал все это время, лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Теперь он вдруг привстал, опираясь на локоть.
– А черт его знает, – передернул плечами Леший, – я не уточнял.
– Да и какая разница, – проговорил я уныло. – Главное в том, что колесо это докатилось сюда, на край света. Теперь спокойной жизни уж не будет.
– А ты что ли спокойную жизнь ищешь? – спросил Девка. Свежий розовый рот его был сложен в улыбочку, ресницы подрагивали, роняя на щеки пушистую тень.
– А ты что ли нет? – покосился на него Леший.
– А я нет, – сказал небрежно Девка. – Зачем она мне? Если б я тихую жизнь искал, я бы себе другое занятие выбрал, работал бы как все фраера, пахал бы, рогами в землю упирался. И никакой тебе мясни.
– Правильно, – подхватил Ленин. – У фраеров – одна участь, у блатных – другая… Мы все тут живем как на войне! – при этих словах он коротко, остро взглянул на меня и повторил со значением: – Как на войне! Это – закон. А кто не понимает – тот не наш…
«Ну вот, опять началось, – подумал я. – Опять он, негодяй, под меня подкапывается… Когда, наконец, он уймется?»
Андрей Гаврилов: Очень интересно то, что понятие Колыма по-прежнему остается в общественном сознании, подсознании или в чем-то бессознательном. Лучшие из песен о Колыме резко выделяются из потока блатного шансона, который еще несколько лет назад у нас царствовал на эстраде, тем, что многие певцы, в том числе и современные молодые рок-музыканты, именно их выбирают для того, чтобы исполнить на эстраде или записать на пластинках. Мало кто из ведущих музыкантов переписывает «Владимирский централ», например, а вот песни о Колыме по-прежнему входят в репертуары очень многих. Но это ладно, появилась и другая тенденция. Колыма упоминается в некоторых песнях прямо как тот самый фон в песне Алешковского, о котором мы говорили.
Но это ладно, появилась и другая тенденция. Колыма упоминается в некоторых песнях прямо как тот самый фон в песне Алешковского, о котором мы говорили.
Вот, например, песня «Хочу чаю» Сергея Чигракова, руководителя группы «Чиж & Co», поется от лица девушки, любимого ее человека, рок-музыканта, поймал КГБ, запретил ему петь песни, его сослали на Колыму. То, о чем мы с вами говорили в самом начале, именно не в Сибирь, не на Соловки, а на Колыму, потому что дальше просто физически ехать как будто бы не было куда. Это современная песня, но понятие Колымы как страшного наказания по-прежнему в ней присутствует. Но, конечно, ничего бы этого не было, если бы не было абсолютной классики песен о Колыме, и в частности, замечательной песни Александра Городницкого, которой, я думаю, вполне можно завершить нашу программу, если вы со мной согласитесь.
Иван Толстой: Согласился, гражданин начальник.
(Александр Городницкий, «На материк идет последний караван»)
Колымские рассказы
Колымские рассказы Варлам Шаламов.
Варлам Шаламов, как и многие, кто жил в Советском Союзе в первую половину его существования, пережил немало душераздирающих испытаний и невзгод, путешествуя по ужасающим недрам сибирской тюремной системы. Родившийся в 1907 году, Шаламов впервые был арестован в 1929 году в возрасте 22 лет за попытку опубликовать «Завещание Ленина» («Британская энциклопедия»). Этот тюремный срок станет его введением в жизнь заключенного при советском государстве, но только после более позднего ареста в 1937, что он найдет вдохновение для « Колымских рассказов » — обширного художественного произведения, в значительной степени основанного на его собственном опыте на Колыме во время написания этого предложения и вдохновленного им (Британская энциклопедия). После этого ареста прошло много лет, прежде чем он снова обрел свободу; он оставался в сибирской тюремной системе до 1951 года (Британская энциклопедия).
14 лет в колымских тюрьмах, безусловно, дали бы каждому широту знаний и опыта, на основе которых можно писать; грубые эмоции, изображенные на протяжении Koylma Tales , безусловно, отражают это. Блестящие произведения Шаламова переносят читателей в мир ада, который казался бесконечным для многих из тех, кто оказался в нем. Поскольку эта книга представляет собой сборник рассказов, в ней нет всеобъемлющего сюжета и нет главных героев, которые снова появляются на протяжении всей книги. Несмотря на это, все еще есть темы, которые неоднократно появляются на протяжении всей книги, заставляя каждую отдельную историю ощущаться как открытие новой комнаты ада. Эти темы включают разрушение души, суровые и часто бесконечные реалии сибирских лагерей для военнопленных и то, как люди адаптируются, когда вынуждены жить в ужасных обстоятельствах. По книге разбросаны светлые моменты, например, когда в лагере появляются гуманитарные подарки из США в «Ленд-лизе» или когда у заключенного появляется возможность вернуться в Москву с Колымы в «Поезде». Однако эти моменты света все еще кажутся незначительными по сравнению с шокирующими темными деталями, представленными в остальной части книги.
Блестящие произведения Шаламова переносят читателей в мир ада, который казался бесконечным для многих из тех, кто оказался в нем. Поскольку эта книга представляет собой сборник рассказов, в ней нет всеобъемлющего сюжета и нет главных героев, которые снова появляются на протяжении всей книги. Несмотря на это, все еще есть темы, которые неоднократно появляются на протяжении всей книги, заставляя каждую отдельную историю ощущаться как открытие новой комнаты ада. Эти темы включают разрушение души, суровые и часто бесконечные реалии сибирских лагерей для военнопленных и то, как люди адаптируются, когда вынуждены жить в ужасных обстоятельствах. По книге разбросаны светлые моменты, например, когда в лагере появляются гуманитарные подарки из США в «Ленд-лизе» или когда у заключенного появляется возможность вернуться в Москву с Колымы в «Поезде». Однако эти моменты света все еще кажутся незначительными по сравнению с шокирующими темными деталями, представленными в остальной части книги.
Тюрьмы в Колымские рассказы бесчеловечны и во многих случаях просто ужасны. Заключенных обычно заставляют работать в экстремальных климатических условиях, их никогда не кормят должным образом, и обычно они умирают или сходят с ума, не успев отбыть свой срок. В некоторых случаях заключенные настолько отчаянно пытаются сбежать из своих условий, что даже прибегают к членовредительству. В ранней повести «Сухие пайки» заключенный, известный как Савельев, становится свидетелем самоубийства другого заключенного. Тотчас же после этого он хватается за топор, «положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором», отрубив при этом себе пальцы (Шаламов 69).). Несмотря на эти чрезмерные усилия, Савельева не разрешают досрочно освободить, а также не принимают во внимание его сильно ухудшившееся психическое состояние. Вернее, его «направили в медпункт, а оттуда в Следственный комитет для суда по обвинению в членовредительстве» (Шаламов 69). Шаламов не утаивает в этой книге ни одного из острых моментов; каждое ужасное событие, подобное этому, рассказывается в кропотливых простых деталях, без какой-либо ерунды или места для предположений.
Заключенных обычно заставляют работать в экстремальных климатических условиях, их никогда не кормят должным образом, и обычно они умирают или сходят с ума, не успев отбыть свой срок. В некоторых случаях заключенные настолько отчаянно пытаются сбежать из своих условий, что даже прибегают к членовредительству. В ранней повести «Сухие пайки» заключенный, известный как Савельев, становится свидетелем самоубийства другого заключенного. Тотчас же после этого он хватается за топор, «положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором», отрубив при этом себе пальцы (Шаламов 69).). Несмотря на эти чрезмерные усилия, Савельева не разрешают досрочно освободить, а также не принимают во внимание его сильно ухудшившееся психическое состояние. Вернее, его «направили в медпункт, а оттуда в Следственный комитет для суда по обвинению в членовредительстве» (Шаламов 69). Шаламов не утаивает в этой книге ни одного из острых моментов; каждое ужасное событие, подобное этому, рассказывается в кропотливых простых деталях, без какой-либо ерунды или места для предположений.
Хотя есть много других подобных сцен, которые позволяют читателям полностью осознать и усвоить кошмарные реальности, с которыми столкнулись заключенные Колымы, есть одна, которая, на мой взгляд, заслуживает более пристального внимания. Он демонстрирует истинное психологическое состояние, в которое вынуждены погрузиться эти заключенные, а также один из немногих случаев во всей книге, где мы получаем какие-либо доводы в пользу экстремального обращения с заключенными. Эта сцена из «Тихого», истории, в которой рассказывается о новом начальнике, проводящем эксперимент на колымской рабочей бригаде. В этом эксперименте заключенных действительно кормят правильно, так как, по мнению этого наблюдателя, правильное питание повышает вероятность того, что заключенные захотят работать на государство (Шаламов 86).
В этой сцене один из заключенных, склонных к суициду, известный как «сектант», начинает действовать после того, как охранники пытаются заставить банду работать после эксперимента. Рассказчик замечает, что «сектант, сидевший рядом [с ним], встал и прошел мимо стражи в туман, в небо» (Шаламов 87). Охранники призывают его остановиться, но сектант не останавливается. После этого «раздался выстрел, затем сухой звук взведенного ружья» (Шаламов 87). Рассказчик понимает, что стреляли охранники, убивающие сектанта, когда он пытался уйти. Он полагает, что это был способ самоубийства сектанта, так как он уже знал, что охранники не позволят ему просто встать и уйти.
Рассказчик замечает, что «сектант, сидевший рядом [с ним], встал и прошел мимо стражи в туман, в небо» (Шаламов 87). Охранники призывают его остановиться, но сектант не останавливается. После этого «раздался выстрел, затем сухой звук взведенного ружья» (Шаламов 87). Рассказчик понимает, что стреляли охранники, убивающие сектанта, когда он пытался уйти. Он полагает, что это был способ самоубийства сектанта, так как он уже знал, что охранники не позволят ему просто встать и уйти.
Этого действия охранникам достаточно, чтобы доказать новому начальнику, что его стратегия правильного кормления заключенных не работает. Именно тогда приходит рационализация обращения с заключенными; по словам одного из надзирателей, заключенные «начинают двигать [своими] лопатами» только тогда, когда им холодно и голодно (Шаламов 88). Без полноценного питания заключенному гораздо труднее согреться в морозные сибирские морозы. Двигаясь и выполняя работу, он помогает им согреться. Кроме того, без отчаяния от голода заключенные не так сильно заботятся о том, чтобы заработать себе следующий рацион. Ужасно видеть, насколько пресыщены охранники основными правами человека, но эта небольшая часть истории помогает контекстуализировать обращение с заключенными на протяжении всей остальной книги.
Ужасно видеть, насколько пресыщены охранники основными правами человека, но эта небольшая часть истории помогает контекстуализировать обращение с заключенными на протяжении всей остальной книги.
Сцена также демонстрирует психологическое состояние заключенных, что связано с одной из основных тем книги, касающейся изменения или даже разрушения души. Сектант всю историю был склонен к суициду, но не нашел в себе силы покончить с собой. В конце рассказа рассказчик рационализирует, что эксперимент надзирателя на самом деле дал сектанту силы, необходимые для того, чтобы покончить с собой (Шаламов 88). Условия, которые вынужден был терпеть этот заключенный в составе колымской бригады, сокрушили его душу, ввергнув в психологическое состояние, в котором он заботился только о том, чтобы покончить с собой, даже после того, как ему дали то, что, безусловно, сочли бы роскошью. Колымские пленники. Других заключенных, включая самого рассказчика, кажется, не слишком заботит самоубийство сектанта. Рассказчик просто испытывает облегчение, что ему больше не придется терпеть его пение, давая рассказу его название (Шаламов 89).). Это демонстрирует общую апатию заключенных на Колыме, кажется, как своего рода защиту от полного безумия.
Рассказчик просто испытывает облегчение, что ему больше не придется терпеть его пение, давая рассказу его название (Шаламов 89).). Это демонстрирует общую апатию заключенных на Колыме, кажется, как своего рода защиту от полного безумия.
Колымские рассказы — книга не веселая, а нужная. Несмотря на то, что эта книга официально классифицируется как художественное произведение, она по-прежнему основана на опыте автора в том, что, возможно, является одним из худших примеров жестокого обращения с людьми в пенитенциарных системах в наше время. В этой книге нет приукрашивания; он сырой и нефильтрованный. Его язык не витиеват и не сложен, но он и не должен быть 9«0007 Колымские рассказы » стремилась стать книгой, которая приоткроет завесу над сталинскими сибирскими лагерями для военнопленных, и для этого не нужно быть Шекспиром. Единственная критика, которую я имею к этой книге, заключается в том, что некоторые истории временами кажутся разочаровывающе короткими. Если кому-то интересно узнать больше о сибирских лагерях для военнопленных, особенно во время жестокого правления Сталина, я настоятельно рекомендую эту книгу. Только не читайте, если у вас фантастическое настроение.
Только не читайте, если у вас фантастическое настроение.
Обзор Оливии Миттак.
Процитировано работ:
Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. «Варлам Шаламов». Encyclopedia Britannica, 13 января 2021 г. https://www.britannica.com/biography/Varlam-Shalamov.
Шаламов Варлам. Колымские рассказы. Перевод Джона Глэда. Нью-Йорк, Лондон: В.В. Norton & Company, 1980.
О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова
НАШ РАССКАЗЧИК В «Выходном дне» узник советского трудового лагеря наблюдает за мужчиной, молящимся за серебряными лиственницами. Он узнает Замятина, священника в казарме, с белыми от инея волосами. Он ошибочно думает, что священник служит обедню, но Замятину стыдно — он молится, но не знает, какой сегодня день и какая сторона на восток. Рассказчик не религиозный человек. «Я знал, что здесь у каждого есть свое «последнее дело», — говорит он, — самое главное, что помогало ему остаться в живых, удержаться за жизнь, чего нас так настойчиво и упорно лишали здесь».
Вернувшись в казарму, безымянный рассказчик слышит звуки, исходящие из сарая для инструментов, и находит двух сокамерников, играющих со щенком немецкой овчарки. Один удерживает его, а другой разрубает собаке голову топором. Они снимают шкуру со щенка, закапывают его шерсть в снег, а остальное варят в кастрюле. Заключенные предлагают остатки священнику, который быстро съедает останки. Только тогда ему говорят, что он только что съел «собаку, которая ходила к вам, по кличке Север». Рассказчик следует за священником на улицу, где видит, как его рвет его еда. «Ублюдки», — говорит рассказчик. — Конечно, — сказал Замятин. «Но мясо было вкусным. Не хуже баранины».
Жизнь в « Колымских рассказах» Варлама Шаламова — это биологический императив, не более того. В его мире Беккет выглядит по-домашнему. Мораль, вера и манеры кристаллизуются и улетучиваются в холодном, сухом воздухе. Температура на Колыме, титульном регионе Дальнего Востока России, зимой составляет в среднем 60 градусов по Фаренгейту ниже нуля, а голодные, плохо одетые заключенные работают на золотых приисках. Шаламов провел в сталинских лагерях 17 лет. Освобожденный в 1951 году, он начал писать свои рассказы три года спустя. Несмотря на серьезные травмы, физические и эмоциональные, он выжил. То, что он превратил свой опыт в первоклассную литературу, одни из лучших короткометражных произведений, созданных в 20-м веке, просто чудо. В начале 19В 80-е годы Джон Глэд опубликовал два тома « Колымских рассказов» Шаламова на английском языке, но дал мало контекста для западных читателей. Поскольку его работу часто обсуждали в контексте « Архипелага ГУЛАГ » Александра Солженицына, Шаламова считали документалистом сталинских лагерей. Новый перевод Дональда Рэйфилда, первый из двух томов, содержит 86 рассказов и впервые на Западе дает истинное представление о творчестве Шаламова. Самый надежный биограф Чехова и переводчик Николая Гоголя Dead Souls Рэйфилд в своем предисловии превозносит «неумолимую силу этих произведений, в которых автор отказывается что-либо смягчать или смягчать».
Шаламов провел в сталинских лагерях 17 лет. Освобожденный в 1951 году, он начал писать свои рассказы три года спустя. Несмотря на серьезные травмы, физические и эмоциональные, он выжил. То, что он превратил свой опыт в первоклассную литературу, одни из лучших короткометражных произведений, созданных в 20-м веке, просто чудо. В начале 19В 80-е годы Джон Глэд опубликовал два тома « Колымских рассказов» Шаламова на английском языке, но дал мало контекста для западных читателей. Поскольку его работу часто обсуждали в контексте « Архипелага ГУЛАГ » Александра Солженицына, Шаламова считали документалистом сталинских лагерей. Новый перевод Дональда Рэйфилда, первый из двух томов, содержит 86 рассказов и впервые на Западе дает истинное представление о творчестве Шаламова. Самый надежный биограф Чехова и переводчик Николая Гоголя Dead Souls Рэйфилд в своем предисловии превозносит «неумолимую силу этих произведений, в которых автор отказывается что-либо смягчать или смягчать». Предупреждаем читателей: Колымские истории не для наивных и слабонервных. Страдания, хотя и искусно переданные, бесконечны.
Предупреждаем читателей: Колымские истории не для наивных и слабонервных. Страдания, хотя и искусно переданные, бесконечны.
Колыма омывается Восточно-Сибирским морем, Северным Ледовитым океаном и Охотским морем. Он ближе к Аляске, чем к Москве, более чем в 3400 милях к западу. Количество смертей в сталинских колымских лагерях трудно подсчитать с точностью, хотя Роберт Конквест дал цифру «миллионы» и добавил: «Ужасность Колымы была обусловлена не географическими или климатическими причинами, а сознательными решениями, в Москве.»
Шаламова, как и тысячу других писателей, обычно сравнивают с Чеховым, и на этот раз сравнение имеет под собой основания. Как и Чехов, Шаламов уделяет внимание не столько традиционному сюжету и изящному повествованию, сколько поведению людей. Это сырой, гоббсовский мир, в котором сила дает если не право, то, по крайней мере, шанс на выживание. Рассказы Шаламова изобилуют деталями, которые может знать только зэк (советский сленг для лагерного узника), но рассказы Шаламова анатомируют характер. В «Личной квоте» Дугаеву 23 года, и он «скорее поражен, чем напуган всем, что он здесь увидел и услышал». Его партнером по золотым приискам является Баранов (возможно, по иронии судьбы названный в честь Александра Баранова, заселившего Аляску для царя Александра I в начале XIX века).й век). Баранов скручивает сигарету Дугаеву — редкий на Колыме жест щедрости. Несмотря на молодость, Дугаев не наивен, и подарок вызывает размышления о дружбе:
В «Личной квоте» Дугаеву 23 года, и он «скорее поражен, чем напуган всем, что он здесь увидел и услышал». Его партнером по золотым приискам является Баранов (возможно, по иронии судьбы названный в честь Александра Баранова, заселившего Аляску для царя Александра I в начале XIX века).й век). Баранов скручивает сигарету Дугаеву — редкий на Колыме жест щедрости. Несмотря на молодость, Дугаев не наивен, и подарок вызывает размышления о дружбе:
Не то чтобы между голодными, холодными и бессонными людьми могла возникнуть дружба. Дугаев, несмотря на свою молодость, понимал, насколько ложны все пословицы о дружбе, испытанной несчастьем и невзгодами. Настоящая дружба должна иметь прочное основание, пока условия повседневной жизни не достигли крайней точки, за которой в людях нет ничего человеческого, кроме недоверия, гнева и лжи. Дугаев никогда не забывал северную поговорку, что для заключенных есть три заповеди: не верь, не бойся, не проси.
Повествовательная направленность Шаламова всегда напряжена. Он никогда не обобщает, никогда не предается сентиментальности. У него нет теорий, политических или иных, которыми он мог бы поделиться. В своей недавней книге « Никогда не помнить: в поисках сталинского ГУЛАГа в путинской России » Маша Гессен пишет:
Он никогда не обобщает, никогда не предается сентиментальности. У него нет теорий, политических или иных, которыми он мог бы поделиться. В своей недавней книге « Никогда не помнить: в поисках сталинского ГУЛАГа в путинской России » Маша Гессен пишет:
Шаламов во многом противоположен Солженицыну. Ему не было нужды ни в героическом, ни в политическом. Он намеревался задокументировать не сверхчеловеческие масштабы ГУЛАГа, а жалкое ничтожество заключенного. Он написал тысячу страниц самого душераздирающего и клаустрофобного описания в истории литературы.
Все верно, и можно заключить, что метод Шаламова — рецепт от скуки. Тем не менее, с каждой последующей историей читатель приходит к пониманию, что он изучает отдельный мир, параллельный нашему, а иногда и пересекающийся с ним. В этом смысле он мало чем отличается от Диккенса или Драйзера в работе. Сеттинг Шаламова кажется узким, но в его пределах он находит место для отступлений о таких человеческих заботах, как еда, одежда, поэзия, болезнь. Люди остаются людьми, даже если им отказывают в человечности. Этот читатель был удивлен, узнав, что у Шаламова был неожиданный взгляд на мир природы. Он ведет хронику смены времен года за полярным кругом, и у него даже есть любимое дерево — карликовая сосна. Возможно, природа — одно из его «последних дел», как описал выше рассказчик «Выходного дня».
Люди остаются людьми, даже если им отказывают в человечности. Этот читатель был удивлен, узнав, что у Шаламова был неожиданный взгляд на мир природы. Он ведет хронику смены времен года за полярным кругом, и у него даже есть любимое дерево — карликовая сосна. Возможно, природа — одно из его «последних дел», как описал выше рассказчик «Выходного дня».
Я давно понял и дорожил той завидной поспешностью, с которой бедная северная природа, при всей своей нищете, стремилась поделиться с людьми своими простыми богатствами, производя как можно быстрее все свои цветы. Всего за неделю все зацвело, а через месяц после начала лета, когда никогда не заходило солнце, горы алели от брусники и чернели от черники.
Рассказы Шаламова приправлены краткими намеками на его предков среди русских писателей, жестами, которые читаются как тихое почтение и которые устанавливают преемственность с культурой, разорванной большевистской революцией. Его самый известный рассказ, вероятно, «Вишневый бренди», пересказ последних часов поэта Осипа Мандельштама в пересыльном лагере, и он входит в число наиболее убедительных литературных рассказов о смерти, вытекающей из угасающего сознания поэта. Шаламов пишет с холодным, художественным реализмом, без мелодрамы и проповеди. Наблюдает почти клинически, а фактически работал фельдшером в хирургическом отделении лагерного госпиталя. Он был поэтом до того, как написал художественную литературу. Детали бесценны. История начинается:
Шаламов пишет с холодным, художественным реализмом, без мелодрамы и проповеди. Наблюдает почти клинически, а фактически работал фельдшером в хирургическом отделении лагерного госпиталя. Он был поэтом до того, как написал художественную литературу. Детали бесценны. История начинается:
Поэт умирал. Его большие, распухшие от голода руки с обескровленными белыми пальцами и грязными, отросшими, вьющимися ногтями лежали на груди, несмотря на холод. Раньше он прижимал их к своему обнаженному телу, но теперь в этом теле было слишком мало тепла. Его перчатки были украдены давным-давно.
Название «Вишневый бренди» происходит от стихотворения, которое Мандельштам написал в 1931 году, за семь лет до своей смерти. В рассказе Шаламова поэт говорит нам, что верит в «бессмертие своего стиха» и что «только в стихах он нашел то, что для поэзии новое и важное, как он всегда думал. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгами, сказками, мечтами, и только сегодняшний день был настоящей жизнью». Трудно себе представить более чуждое присутствие в этом замерзшем лагере. Шаламов подтверждает все, что мы знаем о поэтической практике Мандельштама, ее священном долге: «Даже теперь строфы вставали легко, одна за другой, и хотя он давно уже не записывал и не мог записать своего стиха, слова по-прежнему приходили без усилий в заранее заданном и во всех случаях необычном ритме».
Трудно себе представить более чуждое присутствие в этом замерзшем лагере. Шаламов подтверждает все, что мы знаем о поэтической практике Мандельштама, ее священном долге: «Даже теперь строфы вставали легко, одна за другой, и хотя он давно уже не записывал и не мог записать своего стиха, слова по-прежнему приходили без усилий в заранее заданном и во всех случаях необычном ритме».
Грусть финала истории невыносима. Его последние слова: «Что ты имеешь в виду, позже?» и читателю вспоминаются последние слова Исаака Бабеля перед судом, приговорившим его к смерти: «Я прошу только об одном — дайте мне закончить мою работу». Вот заключительные абзацы «Вишневого бренди». Сначала «К вечеру он умер», а затем: «Но списали его через два дня. Его предприимчивые соседи сумели за два дня добыть хлеб мертвеца; когда его раздали, рука мертвеца поднялась, как у марионетки. Поэтому он умер раньше даты своей смерти, что является весьма важной деталью для его будущих биографов».
В отличие от Солженицына, Шаламов не дожил до распада советской системы. Он умер в 1982 году в возрасте 74 лет глухим и почти слепым и попал в психиатрическую больницу.
Он умер в 1982 году в возрасте 74 лет глухим и почти слепым и попал в психиатрическую больницу.
¤
Патрик Курп — писатель, живущий в Хьюстоне и автор литературного блога Анекдотические свидетельства .
Литература Учебные пособия и конспекты
Спасибо за знакомство с этим SuperSummary Краткое изложение сюжета «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Современная альтернатива SparkNotes и CliffsNotes, SuperSummary предлагает высококачественные учебные пособия, которые содержат подробные резюме глав и анализ основных тем, персонажей, цитат и тем эссе.
Колымские рассказы — сборник рассказов Варлама Шаламова. Он работал над книгой, находясь в российском трудовом лагере с 1954 по 1973 год. Ранняя версия книги была опубликована в США в 1966 году, а законченная версия — в 1976 году. Ни один из рассказов не был опубликован в России до 1978 года. Окончательный сборник содержит 24 рассказа о жизни в ГУЛАГе. Вот некоторые из них:
Вот некоторые из них:
Бездельник Работа: Банда заключенных использует иглы сибирского карликового кедра для изготовления лекарства от цинги. Рассказчик знает, что лекарство не работает. Однако ему нравится эта работа, потому что она легче, чем копать золото.
Ночью: Два заключенных по имени Глебов и Багрецов тайком пробираются ночью, чтобы ограбить могилу заключенного, умершего в тот день. Они крадут нижнее белье заключенного и сбегают с ним, надеясь продать его за еду.
Шоковая терапия: Мерзлаков крупный заключенный, который недоедает. Он пробует несколько уловок, чтобы получить больше еды, но его всегда ловят и разоблачают другие заключенные, которые знают его уловки. В конце концов он придумывает уловку, чтобы остаться в больнице на неопределенный срок, но врач, бывший заключенный, мучает Мерзлакова, пока он не выпишется.
В бане: Баня — это испытание для заключенных, поскольку она сокращает время, которое у них есть на отдых. Даже зимой вода недостаточно теплая. Поскольку бараки убираются, пока заключенных нет, их вещи также часто крадут, пока их нет.
Даже зимой вода недостаточно теплая. Поскольку бараки убираются, пока заключенных нет, их вещи также часто крадут, пока их нет.
Плотники: Поташников врет и говорит, что он плотник, хотя на самом деле им не является. В результате его пускают в лагерную мастерскую, где он может спастись от холода. Вскоре мастер понимает, что он не настоящий плотник, но позволяет Поташникову продолжать работу, пока не станет теплее.
Сухие пайки: Несколько заключенных отправляются в лес, чтобы убрать мусор с дороги. Задание — отдых от лагерной жизни, а вечером перед возвращением мужчин один из них убивает себя, а другой отрезает себе несколько пальцев, чтобы поранить себя.
Sententious: Рассказчик очень болен и думает, что умрет. Однако его состояние начинает улучшаться, потому что он больше не находится в ГУЛАГе. Сейчас он в изгнании и имеет доступ к лучшей еде и удобствам. Когда он начинает выздоравливать, в воздухе витает надежда.
Мой первый зуб: Сазанов — заключенный начальника охраны Щербакова. Однажды Щербаков приказывает избить заключенного по имени Заяц за то, что тот не стоял по стойке смирно. Сазанов возражает против избиения, и Щербаков истязает его до тех пор, пока он не боится жаловаться. Автор предлагает два варианта концовки этой истории. В первом Сазанов продвигается по Щербакову, а в другом Заяц становится сломленным в лагере.
Адвокатский сюжет: Заключенный, бывший студент юридического факультета по имени Андреев, обвиняется в участии в заговоре, организованном адвокатами. Он перемещается между несколькими тюрьмами и, наконец, узнает, что предполагаемый заговор был делом рук одного человека, который пытался добиться помилования своего друга-адвоката из одного из лагерей. Как только заговор раскрыт, Андреев возвращается в свой лагерь, сытый и отдохнувший.
Ленд-лиз: Пожертвования помощи из США доставляются в лагеря. Большая часть товаров разграблена, но некоторые продовольственные пайки и другие предметы доходят до заключенных.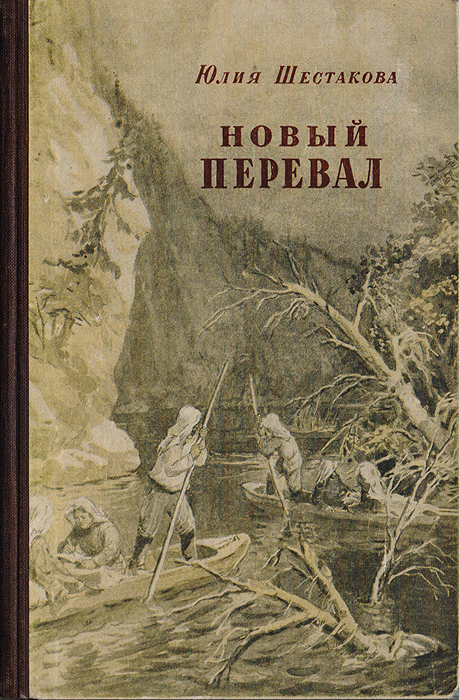 Большое оборудование вызывается для перемещения трупов из неглубоких могил в более глубокие. Хотя некоторые тела датированы 1938 годом, они до сих пор сохранились из-за вечной мерзлоты.
Большое оборудование вызывается для перемещения трупов из неглубоких могил в более глубокие. Хотя некоторые тела датированы 1938 годом, они до сих пор сохранились из-за вечной мерзлоты.
Сгущенка: Лагерный геолог по имени Шестаков просит другого заключенного, работающего в шахте, помочь ему сбежать. Шахтер знает, что побег невозможен, но соглашается помочь в обмен на две банки сгущенки. Шестаков сбегает с несколькими другими заключенными. Их быстро отбивают, двое убиты. Шестакова судят, но в конечном итоге ему разрешают вернуться на прежнюю работу.
Эсперанто: Рассказчик работает с заключенным по имени Скоросеев, который доносит на рассказчика властям за небрежное замечание. Рассказчика наказывают дополнительными трудовыми обязанностями, где он узнает, что Скоросеев был правительственным осведомителем, когда был гражданским лицом. Рассказчик снова встречает Скоросеева после его освобождения из тюрьмы. Скоросеев относится к нему дружелюбно, но затем обвиняет рассказчика в том, что он ночевал в его доме.
Поезд: Рассказчик наконец уезжает, чтобы вернуться в Москву с Колымы. В этой истории он описывает различных других людей, которые путешествуют с ним, в том числе молодого человека, которого лагеря превратили в преступника, а также отца и сына, которые оставляют мать ребенка в Сибири.
Колыма Рассказы Варлама Шаламова
- Варлам Шаламов
Купить у…
Книгатопия Амазонка Даймоки КБД Чтения Ангус и Робертсон Аббатства Бумеранг Глибуки Коллинз Пруд для разведения рыбы Гарри Хартог Кинокуния Робинзоны Нил Найдите местных ритейлеров Жизнь в русском ГУЛАГе, основанная на собственных годах автора в ГУЛАГе, описанных в эпическом шедевре.
Шедевр гулаговской литературы, полное собрание Колымских рассказов — это тысячестраничный эпос, составленный из коротких художественных рассказов, основанных на пятнадцати годах пребывания русского писателя Варлама Шаламова в ГУЛАГе. Он провел шесть лет в качестве раба на золотых приисках Колымы, далекого северо-восточного региона СССР и одного из самых холодных и негостеприимных мест на земле, прежде чем нашел менее невыносимую жизнь в качестве фельдшера в лагерях для военнопленных. Свой шеститомный прозаический рассказ о жизни на Колыме он начал писать после смерти Сталина в 1953 и продолжался до его собственного физического и умственного упадка в конце 1970-х. Колымские рассказы – это первые три тома сказок Шаламова. Грань между автобиографией и вымыслом нечеткая: все в этих рассказах было пережито или свидетелем Шаламова. В его работе записаны настоящие имена заключенных и их угнетателей; сам он выступает просто как «я» или «Шаламов», а иногда и под псевдонимом, например, Андреев или Крист. Эти собранные рассказы составляют биографию редкого выжившего, исторический отчет о ГУЛАГе и, поскольку рассказы имеют не только документальную ценность, литературное произведение творческой силы и убедительности.
Эти собранные рассказы составляют биографию редкого выжившего, исторический отчет о ГУЛАГе и, поскольку рассказы имеют не только документальную ценность, литературное произведение творческой силы и убедительности.
Также Варлам Шаламов
Просмотреть все
Похожие заголовки
Ревнивый мужчина
Джо Несбо
Первое лицо Единственное число
Харуки Мураками
Белые ночи
Федор Достоевский
Истории призовых путешествий 33
Дэвид Чарианди
Раненый век и восточные сказки
Ферит Эдгю
Как уволить
Э. Р. Белич
Р. Белич
Пути белых людей
Лэнгстон Хьюз
Bloodchild и другие истории
Октавия Э. Батлер
Книга французских рассказов о пингвинах: 2
Шестеро, пришедшие на обед
Энн Янгсон
О призраках и гоблинах
Лафкадио Хирн
Лотерея
Джонатан Таллох
Немецкое Рождество
Различные
большая блондинка
Дороти Паркер
Ночной поезд к звездам
Кенджи Миядзава
Лучшие дебютные рассказы 2022 года
Юка Игараши
Длинные выходные
Джуди Нанн
Лучшие рассказы 2022 года
Валерия Луизелли
Щепка тьмы
Си Джей Тюдор
Новые расследования инспектора Мегрэ
Жорж Сименон
Наши лучшие книги, эксклюзивный контент и конкурсы.
 Прямо на ваш почтовый ящик.
Прямо на ваш почтовый ящик.Подпишитесь на нашу рассылку, используя свой адрес электронной почты.
Введите адрес электронной почты, чтобы зарегистрироваться
Нажимая «Подписаться», я подтверждаю, что прочитал и согласен с Условиями использования и Политикой конфиденциальности Penguin Books Australia.
Спасибо! Ваша подписка на Читать дальше прошла успешно.
Чтобы мы могли порекомендовать вашу следующую книгу, расскажите, что вам нравится читать.
Добавить свои интересы
Дальнейшие истории о колиме от Вараламова, рассмотренная Диланом Куком • Журнал Cleaver
Эскизы «Криминального мира: дальнейшие истории Kolymaот Varlam Shalamov
». Книги обзоров, 576 страниц рецензию сделал Дилан Кук
Купите эту книгу, чтобы получить пользу от Кливера
Щелкните здесь, чтобы приобрести эту книгу
Босс с киркой готовится к убийству.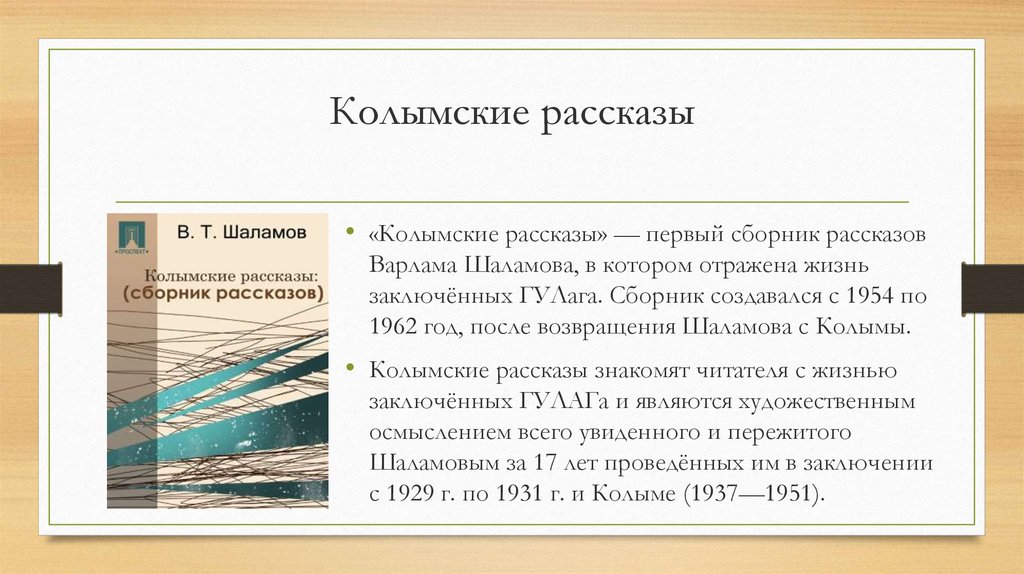 Женщина благодарна, что ее новорожденные близнецы не выживают. Врач отказывается лечить новых пациентов, опасаясь, что кого-то послали убить его. Подобные персонажи населяют преступный мир Варлама Шаламова, развратную изнанку общества, рожденную и выросшую в советской тюремной системе. Многие граждане преступного мира оказались за решеткой под смутными предлогами «контрреволюционной деятельности», так почему же они должны соблюдать законы, которые их изначально подвели? Почему бы не убить и не украсть, прежде чем ваш сосед опередит вас в этом? Мораль через некоторое время может стать относительной. Жизнь в тюрьме может стать проще без властного начальника, дешевле без заботы о детях и безопаснее без новых лиц в палате.
Женщина благодарна, что ее новорожденные близнецы не выживают. Врач отказывается лечить новых пациентов, опасаясь, что кого-то послали убить его. Подобные персонажи населяют преступный мир Варлама Шаламова, развратную изнанку общества, рожденную и выросшую в советской тюремной системе. Многие граждане преступного мира оказались за решеткой под смутными предлогами «контрреволюционной деятельности», так почему же они должны соблюдать законы, которые их изначально подвели? Почему бы не убить и не украсть, прежде чем ваш сосед опередит вас в этом? Мораль через некоторое время может стать относительной. Жизнь в тюрьме может стать проще без властного начальника, дешевле без заботы о детях и безопаснее без новых лиц в палате.
Варлам Шаламов был прирожденным инакомыслящим. Родившийся в семье православного священника в 1907 году, Шаламов жил убежденным атеистом. Когда Иосиф Сталин пришел к власти, Шаламов присоединился к троцкистской группе, которая находилась в прямой оппозиции новому правительству. Там он помогал распространять брошюры с резкой критикой Сталина, что привело к его первому тюремному заключению с 1929 по 1932 год. 1951. В последующие десятилетия Шаламов задокументировал свой опыт через тонко завуалированные вымыслы в шестисерийных «Колымских рассказах». Первый том, изданный два года назад, содержит обновленный перевод первых трех частей с рассказами, широко известными с 1980-х годов. Напротив, многие истории из «Очерков криминального мира» были обнаружены совсем недавно и впервые появляются здесь на английском языке. Вместе эти два тома составляют первый полный английский перевод произведений Шаламова. В то время как его сочинения были запрещены в Советском Союзе, его рассказы просочились в Европу и за ее пределы, что сделало его известным на мировой арене одним из ведущих летописцев ГУЛАГа. Александр Солженицын, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», признал, что личный опыт Шаламова в тюремной системе был «более долгим и горьким» и что Шаламов пролил необходимый свет на жизнь в советских тюрьмах.
Там он помогал распространять брошюры с резкой критикой Сталина, что привело к его первому тюремному заключению с 1929 по 1932 год. 1951. В последующие десятилетия Шаламов задокументировал свой опыт через тонко завуалированные вымыслы в шестисерийных «Колымских рассказах». Первый том, изданный два года назад, содержит обновленный перевод первых трех частей с рассказами, широко известными с 1980-х годов. Напротив, многие истории из «Очерков криминального мира» были обнаружены совсем недавно и впервые появляются здесь на английском языке. Вместе эти два тома составляют первый полный английский перевод произведений Шаламова. В то время как его сочинения были запрещены в Советском Союзе, его рассказы просочились в Европу и за ее пределы, что сделало его известным на мировой арене одним из ведущих летописцев ГУЛАГа. Александр Солженицын, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», признал, что личный опыт Шаламова в тюремной системе был «более долгим и горьким» и что Шаламов пролил необходимый свет на жизнь в советских тюрьмах. Только в 1987, через пять лет после его смерти, рассказы Шаламова были опубликованы в Советском Союзе при более мягкой политике Михаила Горбачева. Учитывая его историю, неудивительно, что работа Шаламова сама по себе является протестом, борющимся мнениями на нескольких фронтах. Многие «рассказы» в этом сборнике — просто эссе, замаскированные под художественную литературу, предлагающие Шаламову платформу для комментариев о литературе, заключении и их пересечении. Русские литературные гиганты, такие как Толстой, Достоевский, Горький и Бабель, были слишком сентиментальны на вкус Шаламова, и их попытки точно написать о преступниках просто не достигли цели. Никто из этих авторов не жил среди преступников, настоящих преступников, достаточно долго, чтобы правильно понять их ритуалы и влияние. Шаламов сделал. Написав эти рассказы, Шаламов представил то, что он считал наиболее достоверным описанием бандитов, которые жили в советских ГУЛАГах и контролировали их. В этих персонажах нет ничего искупительного — они не Робин Гуды и не Жаны Вальжаны.
Только в 1987, через пять лет после его смерти, рассказы Шаламова были опубликованы в Советском Союзе при более мягкой политике Михаила Горбачева. Учитывая его историю, неудивительно, что работа Шаламова сама по себе является протестом, борющимся мнениями на нескольких фронтах. Многие «рассказы» в этом сборнике — просто эссе, замаскированные под художественную литературу, предлагающие Шаламову платформу для комментариев о литературе, заключении и их пересечении. Русские литературные гиганты, такие как Толстой, Достоевский, Горький и Бабель, были слишком сентиментальны на вкус Шаламова, и их попытки точно написать о преступниках просто не достигли цели. Никто из этих авторов не жил среди преступников, настоящих преступников, достаточно долго, чтобы правильно понять их ритуалы и влияние. Шаламов сделал. Написав эти рассказы, Шаламов представил то, что он считал наиболее достоверным описанием бандитов, которые жили в советских ГУЛАГах и контролировали их. В этих персонажах нет ничего искупительного — они не Робин Гуды и не Жаны Вальжаны. Для Шаламова преступники не романтические идеалы; скорее, они представляют надир человеческой морали.
Для Шаламова преступники не романтические идеалы; скорее, они представляют надир человеческой морали.
На Колыме есть две породы преступников. Во-первых, это freiers , мелкие преступники, которым нет места в криминальном мире. Большинство этих людей были арестованы по статье 58 советского уголовного кодекса, которая позволяла властям арестовывать граждан по любому подозрению в нелояльности государству. Эти обычные люди, которые борются с системой, и есть «преступники», которых, как опасается Шаламов, причисляют к лику святых. Они далеки от закоренелых преступников, бандитов, которые живут и процветают в этой системе. Быть гангстером — это больше, чем карьера, это призвание поколения. Бандиты в произведениях Шаламова — это сыновья и внуки бандитов, и они рожают детей, чтобы однажды занять их место. Естественно, гангстеры охотятся на freiers , крадя у них хлебные пайки и убивая их, когда это удобно. фриера хотят выжить; гангстеры хотят иметь больше власти. Шаламов в своем повествовании от первого лица твердо не причисляет себя ни к одному лагерю. Он одинаково относится к обеим сторонам и тем самым указывает на переход от freier к гангстеру, от человека к бесчеловечному. В «Войне сук» рассказчик становится свидетелем конфликта соперничающих банд. По мере того, как «война» продолжается, банды начинают вербовать как freiers и гангстеры в свои ряды. Рассказчик наблюдает, как заключенные безуспешно присоединяются и переходят на другую сторону, спрашивая:
Шаламов в своем повествовании от первого лица твердо не причисляет себя ни к одному лагерю. Он одинаково относится к обеим сторонам и тем самым указывает на переход от freier к гангстеру, от человека к бесчеловечному. В «Войне сук» рассказчик становится свидетелем конфликта соперничающих банд. По мере того, как «война» продолжается, банды начинают вербовать как freiers и гангстеры в свои ряды. Рассказчик наблюдает, как заключенные безуспешно присоединяются и переходят на другую сторону, спрашивая:
Как? Может ли церемония целования ножа изменить душу преступника? Или кровь пресловутого мошенника изменила свой химический состав в жилах старого мошенника только потому, что его губы коснулись стального лезвия?
Чтение Шаламова часто кажется быстрым провалом в темноту. Многие из его рассказов очень короткие, часто меньше пяти страниц, а некоторые не больше абзаца. Сегодня их, скорее всего, отнесли бы к категории флеш-фантастики, предлагающей заглянуть в жизнь персонажей без какого-либо прямого сюжета.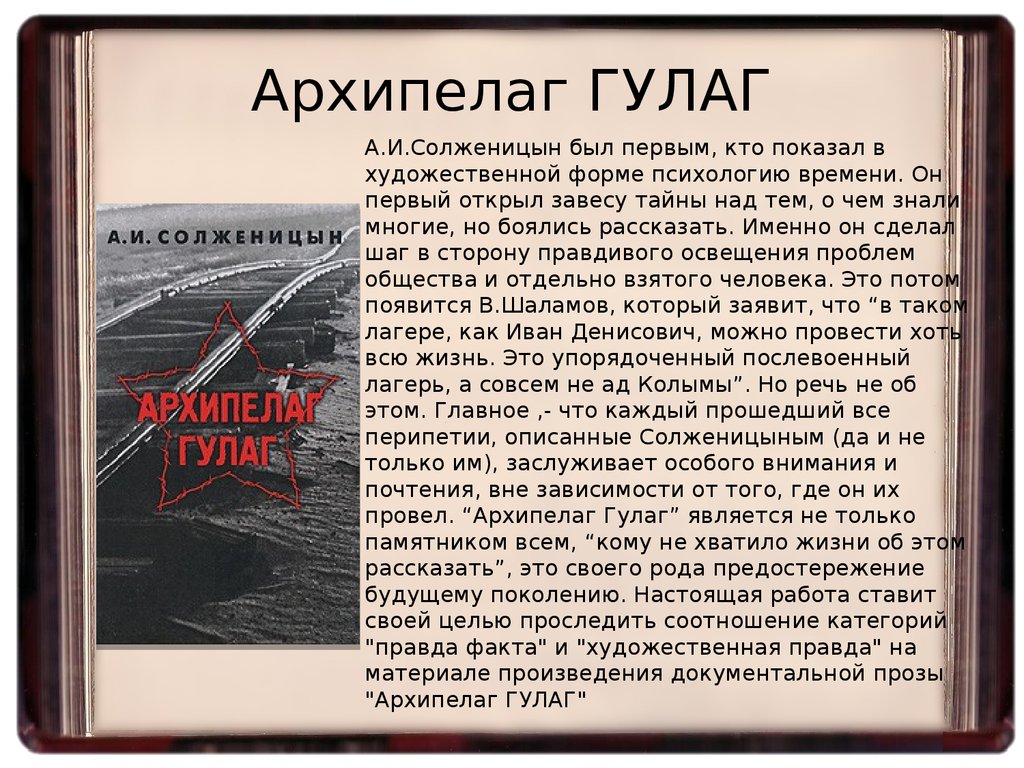 Шаламов знал действие этой длины и пользовался ею с большой точностью. Его самые короткие рассказы фокусируются на объекте или моменте и лишают их привычности. В «Графите», одном из самых известных рассказов сборника, Шаламов обращает внимание на карандаши. Ручки, по его словам, являются предпочтительным письменным орудием в тюрьмах. Только несмываемые чернила гарантируют, что гангстеры не смогут сжульничать в карточной игре или что врачи не смогут изменить свидетельство о смерти. Карандашные пометки можно стирать и менять, чтобы изменить судьбу, поэтому на Колыме карандаши встречаются редко. На нескольких страницах Шаламов превращает графит в недостижимую роскошь. Он показывает, что уголовный мир не полностью изолирован от гражданского мира, а проходит параллельно ему. Карандаши — это просто одна из тех свобод, которые становятся чуждыми при переходе в лагерь вроде Колымы.
Шаламов знал действие этой длины и пользовался ею с большой точностью. Его самые короткие рассказы фокусируются на объекте или моменте и лишают их привычности. В «Графите», одном из самых известных рассказов сборника, Шаламов обращает внимание на карандаши. Ручки, по его словам, являются предпочтительным письменным орудием в тюрьмах. Только несмываемые чернила гарантируют, что гангстеры не смогут сжульничать в карточной игре или что врачи не смогут изменить свидетельство о смерти. Карандашные пометки можно стирать и менять, чтобы изменить судьбу, поэтому на Колыме карандаши встречаются редко. На нескольких страницах Шаламов превращает графит в недостижимую роскошь. Он показывает, что уголовный мир не полностью изолирован от гражданского мира, а проходит параллельно ему. Карандаши — это просто одна из тех свобод, которые становятся чуждыми при переходе в лагерь вроде Колымы.
Мир природы, в котором живут эти заключенные, столь же антагонистичен, как и любой гангстер или главарь мафии. Высоко за Полярным кругом колымские зимы длятся девять месяцев в году, а короткого лета едва ли хватает, чтобы лед растаял. Короткая прогулка может стать опасной, так как обморожение может произойти в течение нескольких минут. Из уважения и страха перед этой средой Шаламов пишет натуралистически. Описание флоры и фауны — единственный случай, когда Шаламов приукрашивает свой обычно лаконичный стиль прозы. В таких рассказах, как «Путь» и «Водопад», рассказывается о коротком колымском лете и о той передышке, которую оно давало. Подобное природное тепло было подарком гостеприимства в безжалостной окружающей среде. «Воскресение лиственницы» как никакая другая повесть показывает неразрывную связь узников с природой. Заключенные обычно посылали ветки лиственницы своим семьям не потому, что они были особенно красивы, а потому, что они могли ожить в стакане воды. Отправляя домой жизнь, заключенные могли послать сообщение, более осязаемое, чем письмо, о том, что они все еще там. В начале рассказа рассказчик пишет:
Высоко за Полярным кругом колымские зимы длятся девять месяцев в году, а короткого лета едва ли хватает, чтобы лед растаял. Короткая прогулка может стать опасной, так как обморожение может произойти в течение нескольких минут. Из уважения и страха перед этой средой Шаламов пишет натуралистически. Описание флоры и фауны — единственный случай, когда Шаламов приукрашивает свой обычно лаконичный стиль прозы. В таких рассказах, как «Путь» и «Водопад», рассказывается о коротком колымском лете и о той передышке, которую оно давало. Подобное природное тепло было подарком гостеприимства в безжалостной окружающей среде. «Воскресение лиственницы» как никакая другая повесть показывает неразрывную связь узников с природой. Заключенные обычно посылали ветки лиственницы своим семьям не потому, что они были особенно красивы, а потому, что они могли ожить в стакане воды. Отправляя домой жизнь, заключенные могли послать сообщение, более осязаемое, чем письмо, о том, что они все еще там. В начале рассказа рассказчик пишет:
На Крайнем Севере человек ищет выход своей чувствительности, пока она не уничтожена и не отравлена десятилетиями жизни на Колыме. Человек отправляет авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.
Человек отправляет авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.
Карта России с Колымским краем, выделенным красным цветом. Изменено из Викисклада.
Для Шаламова само выживание было актом неповиновения. Остаться в живых означало, что твоя воля сильнее тюремной системы. В самом личном, автобиографическом рассказе сборника «Экспертиза» Шаламов рассказывает о процессе становления фельдшером. В первые годы пребывания в заключении Шаламов работал на угольных и золотых приисках. Он боролся за то, чтобы стать фельдшером, менее напряженной работой, прекрасно понимая, что его тело, скорее всего, не выдержит большего насилия в шахтах. Жизнь Шаламова сводится к сдаче экзамена по химии равнодушным проктором. Химия, как мы узнаем, является одной из его слабостей, потому что его учитель химии был казнен за контрреволюционную деятельность. Теперь знание, которого у него украли, — единственное, что может его спасти.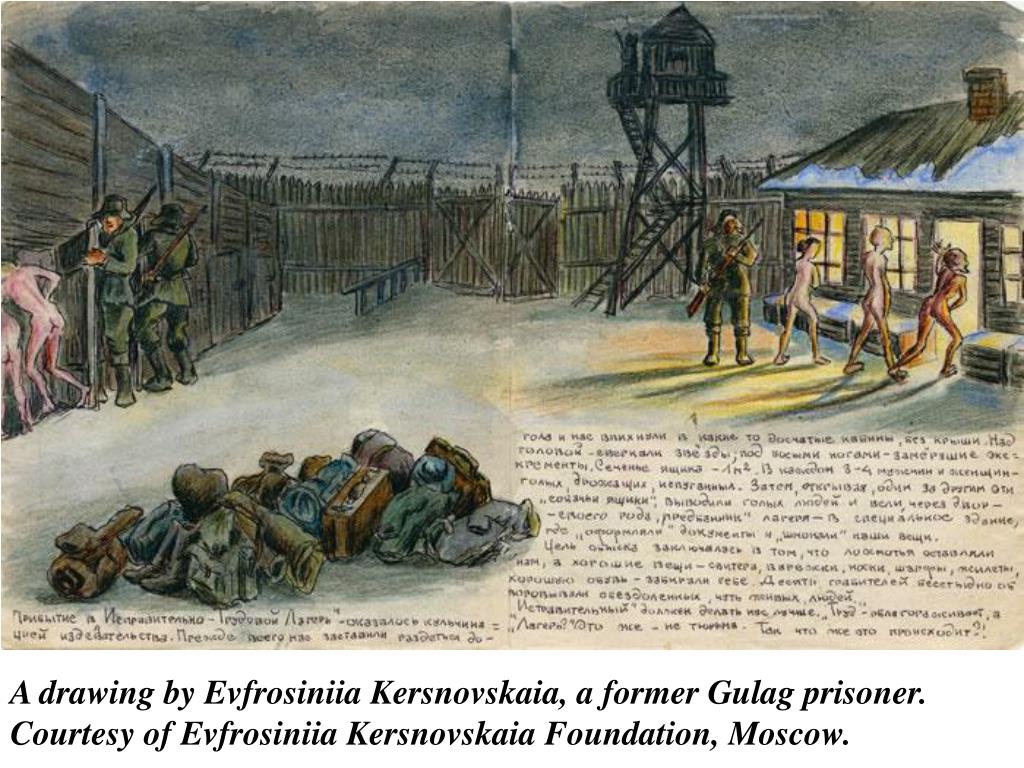 Дожить до экзамена означало дожить до приговора, победить советскую власть. «Я выжил, — пишет он. «Я вышел из ада. Я закончил курсы, отбыл срок, пережил Сталина и вернулся в Москву». В мире, окруженном сталинским железным занавесом, генеральный секретарь упоминается очень редко. Шаламов использует это имя скупо, только когда уверен в победе.
Дожить до экзамена означало дожить до приговора, победить советскую власть. «Я выжил, — пишет он. «Я вышел из ада. Я закончил курсы, отбыл срок, пережил Сталина и вернулся в Москву». В мире, окруженном сталинским железным занавесом, генеральный секретарь упоминается очень редко. Шаламов использует это имя скупо, только когда уверен в победе.
«Как можно перестать быть человеком?» Шаламов много раз ставит этот вопрос перед читателем в своих рассказах. Постепенно он начинает отвечать на него, предлагая миниатюрные портреты в жизнь в советском ГУЛАГе. Вносить ясность в самые мрачные моменты репрессивного режима Шаламову было неприятно, но необходимо. Это могло легко вернуть его на Колыму, но такие политические диссиденты, как Шаламов, должны идти на такой риск. Его безжалостные, жуткие образы причиняют боль как героям, так и автору, переживающему эти моменты заново. Тот факт, что Шаламов вообще смог создать эти рассказы, свидетельствует о его честности как художника и документалиста.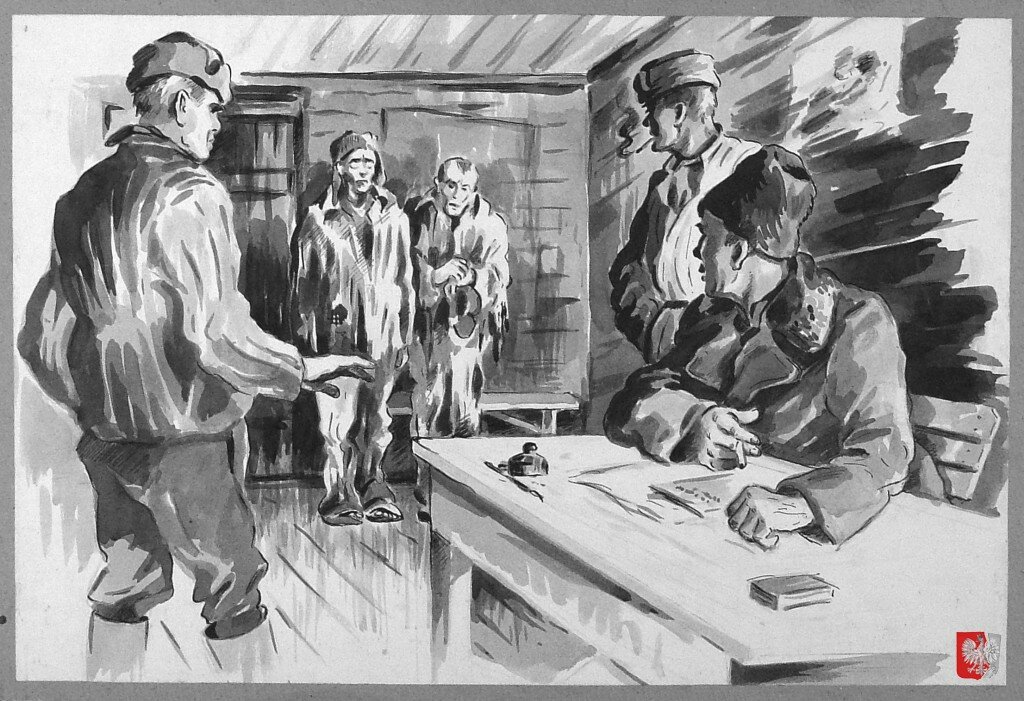 Он ведет нас по пути бесчеловечности. Он показывает нам, что этот путь усеян кражами, убийствами и непристойностями, но никогда не обвиняет кого-либо прямо за то, что они идут по нему. Преступный мир не мог бы существовать без создавшего его правительства, так что это путешествие — всего лишь симптом аморальной, корыстной политики Советов. Шаламов обнажает это, доводя нас до бесчеловечности. Только тогда, потерянные и разбитые, мы сможем начать отвечать на более важный вопрос: как нам вернуться?
Он ведет нас по пути бесчеловечности. Он показывает нам, что этот путь усеян кражами, убийствами и непристойностями, но никогда не обвиняет кого-либо прямо за то, что они идут по нему. Преступный мир не мог бы существовать без создавшего его правительства, так что это путешествие — всего лишь симптом аморальной, корыстной политики Советов. Шаламов обнажает это, доводя нас до бесчеловечности. Только тогда, потерянные и разбитые, мы сможем начать отвечать на более важный вопрос: как нам вернуться?
Дилан Кук фото автора
Дилан Кук учится в Пенсильванском университете, где изучает английский язык, сосредотачиваясь на творческом письме и биологии. Он часто читает и пишет, а когда он не занимается ни тем, ни другим, его можно найти работающим в лаборатории, заблудившимся где-нибудь в лесу или в [email protected].
Колымские сказки | Стивен Джонс: блог
Этот пост продолжает мою серию статей о травмах — например, о травмах. в разделе «Жизнь за железным занавесом» для советского блока, а также для Германии; и для Китая, например. Китай: память о травме, Признания, Храм воспоминаний и Го Юхуа.
Китай: память о травме, Признания, Храм воспоминаний и Го Юхуа.
Среди всех обширных лагерей ГУЛАГа , разбросанных по территории СССР (например, Соловки), самым отдаленным и ужасающим был арктический регион Колыма на северо-востоке Сибири (вики: под Колымой, Севвостлагом и Дальстроем; также, например, здесь). Как отмечает Энн Эпплбаум,
Точно так же, как Освенцим стал в народной памяти лагерем, символизирующим все другие нацистские лагеря, так и слово «Колыма» стало обозначать величайшие лишения ГУЛАГа.
Раннее исследование на английском языке было
- Роберт Конквест, Колыма: арктические лагеря смерти (1978) — ср. его главная книга о голоде на Украине, предшественница книги Энн Эпплбаум « Красный голод ».
Основным источником является
- Варлам Шаламов (1907–82) (вики; веб-сайт), отбывавший последовательные сроки на Колыме с 1937 по 1953 год.
Его Колымские сказки , громоздкий сборник рассказов, большинство из которых состоит всего из нескольких страниц, читается мрачно и убедительно.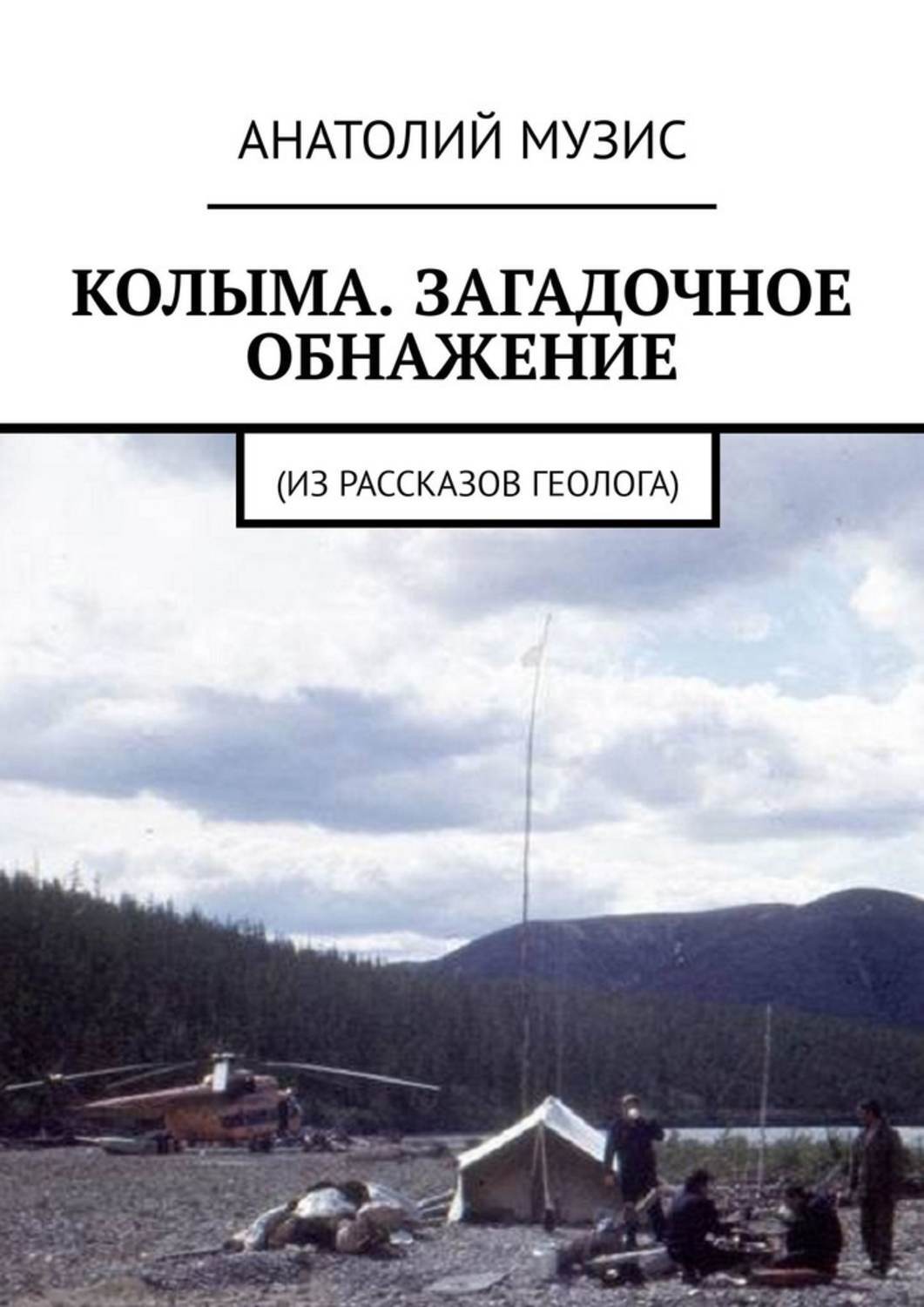 [1]
[1]
Для более широкой истории лагерей, блестящее исследование
- Энн Эпплбаум , ГУЛАГ: история (2003).
Она широко использует работу Шаламова среди самых разных источников, и стоит прочитать криминалистический обзор историка лагерной системы в сочетании с колымскими мемуарами.
Как отмечает Эпплбаум во введении, невозможно рассматривать ГУЛАГ как изолированное явление. Разница между жизнью внутри и вне лагерей заключалась в степени.
ГУЛАГ не возник полностью сформированным из моря, а скорее отражал общие стандарты общества вокруг него. Если лагеря были грязны, если охрана была жестока, если рабочие бригады были неряшливы, то отчасти потому, что грязи, жестокости и неряшливости было достаточно в других сферах советской жизни. Если жизнь в лагерях была ужасной, невыносимой, бесчеловечной, если смертность была высока, — это тоже неудивительно. В определенные периоды жизнь в Советском Союзе также была ужасной, невыносимой и бесчеловечной, а смертность за пределами лагерей была такой же высокой, как и внутри них.
Отметив жалкую судьбу «особых ссыльных» (отдельная, но связанная тема), она продолжает резюмировать «долгую, многонациональную, межкультурную историю тюрем, ссылок, заключений и концентрационных лагерей из Древнего Рима и От Греции до грузинской Британии, Франции и Португалии XIX века и самой царской России. Затем она заключает в себе сходства и различия между нацистским и советским лагерями.
Эпплбаум поясняет:
Чтобы добраться до лагерей Колымы, заключенные проезжали поездом через весь СССР — иногда в трехмесячном пути — до Владивостока. Остаток пути они проделали на лодке, двигаясь на север мимо Японии, через Охотское море, в порт Магадан, ворота в долину реки Колымы.
Транспортники сами по себе были смертоносны, как показано в Шаламовском «Прокуроре Иудеи» и в документальном фильме ниже.
Источник здесь.
Часть II из ГУЛАГ: история , «Жизнь и работа в лагерях» — особенно душераздирающий обзор, с главами об аресте, тюрьме; транспорт, прибытие, подбор; жизнь и работа в лагерях; наказание и награда; охранники, заключенные; женщины и дети; умирающий; стратегии выживания; восстание и бегство.
Отметив, что охранники не жили в совершенно иной социальной сфере, чем заключенные, в проницательном анализе Эпплбаум отмечает, что ни «политические», ни «преступники» не были простыми категориями. В то время как такие заключенные, как ученые, агрономы, бывшие сотрудники НКВД и художники, в основном лояльные коммунисты, имеют более высокий статус, «политическая» рубрика была ловушкой для многих простых людей без твердых политических взглядов, которые сделали некоторые невинные, но роковые «ошибка», и большинство заключенных были простыми рабочими и крестьянами. В 1934, 42,6% всего населения ГУЛАГа были полуграмотными; даже в 1938 году только 1,1% имели высшее образование. Доля «политических» заключенных выросла во время войны, достигнув почти 60% в 1946 году после амнистии для уголовных заключенных.
Постоянно голодные, подвергающиеся неустанной, изнурительной работе на страшных золотых приисках и в бескрайних таежных лесах, они оказались во власти урков уголовников; деградация и дегуманизация были необходимы для выживания.
Эпплбаум приводит опыт Евгении Гинзбург при посадке на Колыму:
Это были сливки преступного мира: убийцы, садисты, знатоки всех видов сексуальных извращений… », обрадовались, обнаружив, что «враги народа» были существами еще более презираемыми и отверженными, чем они сами… Они хватали наши куски хлеба, выхватывали последние наши тряпки с нашими узлами, выталкивали нас из мест, которые мы успели найти …
Шаламов, «Красный Крест»:
Десятки тысяч людей забиты насмерть ворами. Сотни тысяч людей, побывавших в лагерях, навсегда соблазнились идеологией этих уголовников и перестали быть людьми. Что-то преступное навсегда вошло в их души. Воры и их мораль оставили неизгладимый след в душе каждого. […]
Молодой крестьянин, ставший заключенным, видит, что в этом аду сравнительно хорошо живут только уголовники, что они важны, что их боится всемогущее лагерное начальство. У преступников всегда есть одежда и еда, и они поддерживают друг друга.
Молодого крестьянина это не может не впечатлить. Ему начинает казаться, что преступники владеют правдой лагерной жизни, что только подражая им, он вступит на путь, который спасет его жизнь. […]
Ему начинает казаться, что преступники владеют правдой лагерной жизни, что только подражая им, он вступит на путь, который спасет его жизнь. […]
Интеллектуальный каторжник раздавлен лагерем. Все, чем он дорожил, превращается в пыль, а цивилизация и культура от него уходят в течение нескольких недель. Метод убеждения в ссоре – кулак или палка. Способ побудить кого-то сделать что-то — прикладом, ударом по зубам. […]
Интеллигент постоянно напуган. Его дух сломлен, и он берет этот испуганный и сломленный дух с собой в мирную жизнь.
Эпплбаум описывает воровской сленг, известный как блатная музыка «воровская музыка».
Меньшинство женщин-заключенных ( ГУЛАГ , глава 15), опять же как политических, так и уголовных, тоже были ужасно уязвимы. «Женщины в криминальном мире» Шаламова — содержательный отчет, также посвященный мужскому гомосексуализму. Как он отмечает, единственным исключением из предписанного в лагерях презрения к женщинам является лицемерный культ почитания матери преступника (ср. фламенко):
фламенко):
Даже это, казалось бы, возвышенное чувство — ложь от начала до конца, как и все остальное. […] Это чувство к его матери не что иное, как набор лжи и театрального притворства. Культ матери — своеобразная дымовая завеса, прикрывающая отвратительный криминальный мир.
Решающее значение для отчаянных стратегий выживания заключенных ( ГУЛАГ , глава 17) имела иерархия больниц и медиков со своими собственными тревожными историями. Они часто фигурируют в колымских сказках, таких как «Тифозный карантин»:
Царапины на руках и руках Андреева зажили быстрее, чем другие его раны. Мало-помалу панцирь черепахи, в который превратилась его кожа, исчез. Ярко-розовые кончики его обмороженных пальцев начали темнеть; микроскопически тонкая кожа, покрывавшая их после вскрытия волдырей от обморожения, немного утолщалась. А главное, он мог согнуть пальцы левой руки. За полтора года на рудниках обе руки Андреева сплелись вокруг черенков кирки и лопаты. Он никак не ожидал, что сможет снова выпрямить руки. […]
[…]
Кровавые трещины на ступнях уже не так болят, как раньше. Цинговые язвы на ногах еще не зажили и требовали перевязок, но ран его становилось все меньше и меньше, и они сменялись иссиня-черными пятнами, похожими на клеймо какого-то рабовладельца. Не заживали только его большие пальцы ног; обморожение дошло до костей, и из них медленно сочился гной. Гноя, конечно, было меньше, чем было на руднике, где резиновые галоши, служившие летней обувью, были так налиты гноем и кровью, что ноги хлюпали при каждом шаге, как по луже.
Пройдет много лет, прежде чем у Андреева заживут пальцы на ногах. И долгие годы после исцеления, когда бы ни было холодно или даже слегка зябко по ночам, они напоминали ему о северном руднике. Но Андреев думал о будущем. На шахте он научился не планировать свою жизнь дальше, чем на день вперед. Он стремился к близким целям, как и всякий человек, находящийся недалеко от смерти. Теперь он желал только одного — чтобы тифозный карантин длился вечно. Но этого не могло быть, и настал день окончания карантина.
Среди их стратегий было членовредительство, навеянное Шаламовым в «Коммерсанте».
Главный город области Магадан строился принудительным трудом с 1932 года. Евгения Гинзбург отмечала «своеобразный парадокс»:
ГУЛАГ медленно нес «цивилизацию» — если это можно так назвать — в глухую глушь. Там, где раньше был только лес, строились дороги, на болотах появлялись дома. Коренные народы [2] оттеснялись, уступая место городам, фабрикам и железным дорогам. […]
Вся моя душа проклинала тех, кто придумал строить город на этой вечной мерзлоте, оттаивая землю кровью и слезами невинных людей. Но в то же время я чувствовал какую-то нелепую гордость…
Первые годы Эдуарда Берзина потом вспоминались с некоторой ностальгией. Но
Из 16000 заключенных, отправившихся на Колыму в первый год правления Берзина [1932], только 9928 добрались живыми до Магадана. Остальные были брошены, одетые в нижнее белье и без защиты, в зимние бури: выжившие после первого года позже утверждали, что выжила только половина их числа.
Сам Берзин был казнен во время чисток 1938 года, когда сталинский Большой террор нанес еще больший урон лагерям.
Во время американской программы ленд-лиза по оказанию помощи своим советским союзникам вице-президент Генри Уоллес посетил ее в мае 1944 года и был успешно обманут. В жуткой истории самой неотложной задачей бульдозера, подаренного в рамках программы, является перезахоронение замороженных трупов заключенных, выставленных напоказ, когда братские могилы 1938 года начали сползать с холма. А для фанатов «Монти Пайтона» Шаламов также приводит испепеляющую оценку спама заключенными.
Во время и после войны ряды пополнялись украинскими, польскими, немецкими, японскими и корейскими заключенными (ср. ГУЛАГ , глава 20), а также советскими военнопленными, считавшимися предателями.
После войны надежды населения на менее карательное общество вскоре рухнули (см. Шептуны ).
В «Прокаженных» Шаламов описывает еще одну тревожную историю.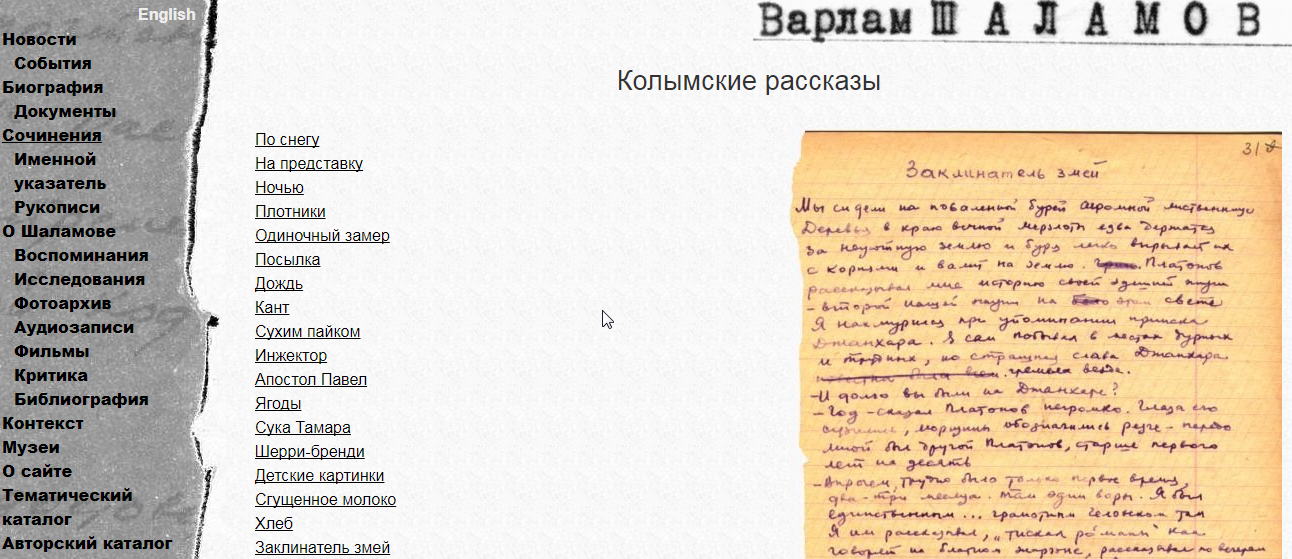
В ходе войны лепрозории были уничтожены, а больные слились с остальным населением. […] Больные проказой легко выдавали себя за раненых или искалеченных на войне. Прокаженные смешивались с бежавшими на восток и возвращались к настоящей, хотя и страшной жизни, где их принимали как жертв или даже героев войны.
Эти люди жили и работали. Война должна была закончиться для того, чтобы о них вспомнили врачи и чтобы снова пополнились страшные картотеки лепрозорийцев.
Прокаженные жили среди простых людей, разделяя отступление и наступление, радость и горечь победы. Они работали на заводе и в колхозах. Они устроились на работу и даже стали надзирателями. Но солдатами они так и не стали — обрубки пальцев, видимо, поврежденные на войне, помешали им заняться этим последним занятием. Прокаженные выдавали себя за инвалидов войны и терялись в толпе.
* * *
Восстания и попытки побега были редки и обречены ( ГУЛАГ , Глава 18). Как и в Китае, бежать было некуда (по иронии судьбы до Америки было всего 55 миль через Берингов пролив). В «Последнем бою майора Пугачева» Шаламов отмечает некоторую перемену после войны:
В «Последнем бою майора Пугачева» Шаламов отмечает некоторую перемену после войны:
Аресты тридцатых годов были арестами случайных жертв на ложной и ужасающей теории обострения классовой борьбы, сопровождавшей укрепление социализма. Профессорам, профсоюзным деятелям, солдатам и рабочим, заполнявшим в то время тюрьмы до отказа, нечем было защищаться, кроме личной честности и наивности — именно тех качеств, которые скорее облегчали, чем мешали карательному «правосудию» того времени. Отсутствие какой-либо объединяющей идеи необычайно подрывало моральное сопротивление заключенных. Они не были ни врагами правительства, ни государственными преступниками и погибли, даже не понимая, за что должны были умереть. Их самоуважение и озлобленность не имели точки опоры. Разлученные, они погибли в белой Колымской пустыне от голода, холода, работы, побоев и болезней. Они сразу научились не защищать и не поддерживать друг друга. Именно это и было целью властей. Души оставшихся в живых были совершенно испорчены, а их тела не обладали качествами, необходимыми для физического труда.
После войны корабль за кораблем доставляли пополнение — бывших советских граждан, «репатриированных» прямо на крайний северо-восток.
Среди них было много людей с разным опытом и привычками, приобретенными во время войны, мужественных людей, умевших рисковать и веривших только в оружие. Там были офицеры и солдаты, летчики и разведчики…
Привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», лагерная администрация нисколько не беспокоилась и не ждала ничего нового.
Итак, попытки побега участились, но так же тщетны. Еще одну такую попытку Шаламов вызывает в «Зеленом прокуроре».
Вот документальный фильм 1992 года, если вытерпите:
* * *
1930-е и 40-е годы были самыми ужасными годами для системы ГУЛАГа. После военной амнистии ( ГУЛАГ , глава 21) смерть Сталина в 1953 году создала новые настроения, и Хрущев объявил в 1956 году более длительную амнистию, освободив многих. Но, как описывает Эпплбаум в своих заключительных главах, у некоторых все еще не было другого выбора, кроме как остаться до 19-го века.90-е.
После военной амнистии ( ГУЛАГ , глава 21) смерть Сталина в 1953 году создала новые настроения, и Хрущев объявил в 1956 году более длительную амнистию, освободив многих. Но, как описывает Эпплбаум в своих заключительных главах, у некоторых все еще не было другого выбора, кроме как остаться до 19-го века.90-е.
Окончание войны могло положить конец нацистским лагерям как таковым, но в СССР продолжала действовать сеть ГУЛАГа; и как раз в тот момент, когда после смерти Сталина он сходил на нет, в Китае Мао расширял свою собственную систему трудовых лагерей.
Как подробно объясняет Эпплбаум в Приложении к ГУЛАГ , попытки оценить число погибших оказались безрезультатными; для сравнения с оценками жертв при Гитлере и Мао см. Тимоти Снайдер и Ян Джонсон.
Наследие
Память всей системы ГУЛАГа — сложная тема, которую Эпплбаум исследует в своем проницательном Эпилоге (см. рис.). В более поздних отчетах о колымском регионе говорится о памяти, невежестве и почитании Сталина. Яцек Хьюго-Бадер повторно посетил этот регион в колымских дневниках (2014 г.), обзор здесь Капка Кассабова (см. эту статью).
Яцек Хьюго-Бадер повторно посетил этот регион в колымских дневниках (2014 г.), обзор здесь Капка Кассабова (см. эту статью).
И Юрий Дудь бросает вызов современной амнезии в Колыма: дом нашего страха (2019):
[1] Я читал перевод Джона Глэда 1994 года; недавняя версия Дональда Рэйфилда (« колымских рассказа ») хорошо рассмотрена здесь, включая ее неприятную историю публикации и сравнение с Солженицыным. Смотрите также продолжение Зарисовки криминального мира . Другие рассказы выживших на Колыме включают рассказы поляка Станислава Й. Ковальского, Страна золота и смерти , Владимира Николаевича Петрова, Евгении Гинзбург и румына Майкла М.

 , 2017
, 2017 , 2017
, 2017 , 2018
, 2018