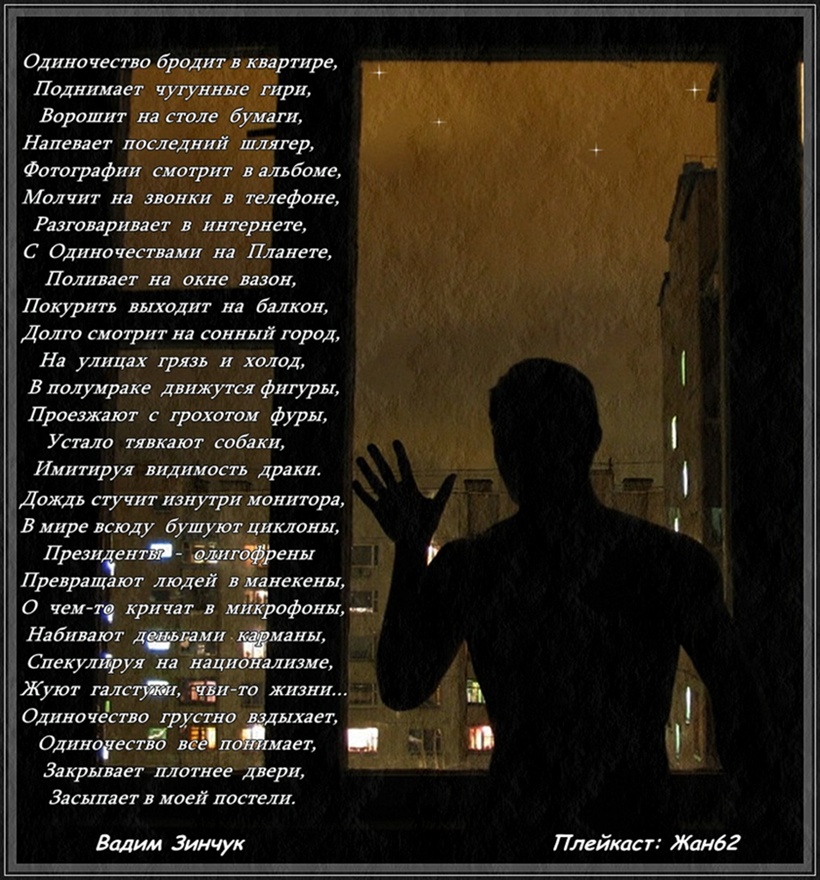Одиночество рассказ: Рассказы об одиночестве — Журнальный зал
Рассказы об одиночестве — Журнальный зал
Долгопят Елена Олеговна родилась в Муроме Владимирской обл. Закончила сценарный факультет ВГИка. Печаталась в журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Дружба народов” и др. Живет в Подмосковье.
СОН
Дом старый деревянный, обои зеленые, с серебром; серебро — как иней нетающий, хотя тепло в доме.
Девочка, ее дочь, ей лет пять, стоит коленками на стуле и смотрит в окошко, ждет ее. Метет белый снег.
Проснулась и не поверила, что дочери нет, казалось, она ждет ее где-то, смотрит в окно. Метет белый снег, и если бы знать, где этот дом, бегом бы бежала, а не лежала бы в постели с мокрым лицом.
На чужой даче зеленые обои в серебряной патине, увидела, и сон вспомнился.
Подошла к окну. Мел белый снег. Стояла, смотрела. В доме были люди, накрывали стол, звали ужинать.
Отпуск
Необходимо было освободиться, чтобы совершенно ничего не тревожило, не смущало, не занимало мысли, чтобы можно было спокойно закрыть эту дверь и не думать о том, чтбо за ней, чтобы из какого-нибудь пустяка — там — не вырос монстр, который вырвется наружу до того, как она вернется. Проще говоря, до отпуска она хотела завершить на работе все дела.
Три и семь минут ночи показал компьютер, когда она откатилась в кресле от экрана. Она была уже свободна.
Домой возвращалась пешком. Обходила лужу, останавливалась перед одиноко и страшно летящей по проспекту машиной (и водителя в ней не увидела; да был ли?). Человек курил на балконе. Небо над Москвой стояло коричневое и как будто горящее в глубине. Странное небо, неземное; Земля давно превратилась в другую планету, вот что, а мы — в инопланетян. Или Земля — всегда другая планета?
До дому она добралась в начале пятого. С трудом нашла в сумочке ключи.
С трудом нашла в сумочке ключи.
Вошла в темную, затхлую квартиру, затворила дверь и поняла, как устала. Стащила туфли и пошла по холодному полу босиком. Цветам на подоконнике сказала “здравствуйте”, потрогала землю в горшках, полила и сама почувствовала вкус этой воды; сама была сухой землей, постепенно насыщающейся, и была растением, корнями его, сосущими воду. Отворила форточку. Небо из коричневого становилось бледно-розовым. Солнце всходило. Она задвинула занавески и легла на диван под плед. Прежде чем уснуть, удивилась, что не побоялась идти одна пешком в такой глухой час; она же всегда была трусихой. От усталости забыла бояться. И от радости — что отпуск впереди.
Спала она сладко и проснулась со сладким вкусом сна на губах. Она улыбнулась, потянулась. Вставать было лень. Даже глаза было лень открывать. Она лежала и гадала, сколько сейчас времени, да и число какое, она не знала, могла и больше суток проспать. Судя по звукам с улицы, был день, в крайнем случае — ранний вечер: дети еще гуляли и перекрикивались птичьими голосами.
Часы показывали пять, пять вечера, судя по всему. Она встала и побрела в ванную. В грохоте душа ей почудилось, что кто-то звонит в дверь. Она поскорей завернула кран. Все было тихо. Вода со всхлипом уходила в сток.
Она вышла с приятным ощущением собственной тишины и чистоты. В кухне пахло от соседей жареной картошкой. Ей тоже захотелось, и она нашла в холодильнике несколько картофелин; в корзинке под столом, в шелухе, — проросшую луковицу. Масла растительного стояла почти целая бутылка. Нажарила картошки, съела прямо со сковородки. Включила радио, ноги положила на табуретку. И слушала дурацкий разговор про перемещения в верхних эшелонах власти, а представляла эшелоны военные, с солдатами и боевой техникой, они стояли на перегонах, солдаты спрыгивали на насыпь черными сапогами. Кто-то упал — засмеялись. Видела она это в каком-то фильме, черно-белом, и потому солдат представляла черно-белыми, и траву, и небо; что-то и в нем было черное, туча, должно быть.
Выпал патрон помады и покатился. Она держала в руке трубку. Из светящегося окошка смотрело на нее имя: Петя. Звонок отзвенел, и имя исчезло, появилась надпись: “1 непринятый звонок”. Как название триллера. Она отключила мобильный: ей не хотелось ни говорить, ни слушать. Отключила стационарный телефон и домофон. И тогда почувствовала себя недоступной никому, свободной. Никто не мог втянуть ее в свою орбиту и закружить.
Она раскрыла окно. Стояла середина лета, а вечерний воздух казался уже осенним, усталым.
В этот вечер она лениво смотрела телевизор, переключая с одного канала на другой, люди рассказывали о себе в разных ток-шоу, они были как жители иной планеты, а она сидела в своей квартире, в своем космическом корабле, и лишь наблюдала за происходящим. Была ото всех в безопасном далеке.
Была ото всех в безопасном далеке.
Она устала от телевизора и выключила. Увидела, что уже темно в комнате, что небо коричневое за окном. Подумала, что надо выйти и посмотреть почту. Подошла к двери, взялась за ручку. И не смогла повернуть замок. Услышала голос соседки на площадке, не захотела встречаться, отвечать на вопросы.
Соседка ушла, но она дверь не отворила. Она осознала, стоя перед этой дверью, что самое большое ее желание сейчас — остаться дома. Ей и подумать было страшно, что надо пройти мимо кого-то, пусть даже незнакомого. Ей казалось, любой взгляд отнимет у нее все силы. Любой вопрос (“Сколько времени?”) убьет.
Кое-что она сделала по дому: постирала, окно вымыла наконец-то в кухне, но только изнутри. Такая трата энергии была расточительством, и в дальнейшем она старалась больше спать, лежать, не двигаться, не думать о еде, которой становилось все меньше и меньше; а от соседей так вкусно пахло, беспрерывно они что-то готовили, то баклажаны томили с помидорами и чесноком, то борщ варили, то курицу жарили, от одних только запахов можно было умереть, она закрывала дверь в кухню, но они все равно просачивались.
Такая трата энергии была расточительством, и в дальнейшем она старалась больше спать, лежать, не двигаться, не думать о еде, которой становилось все меньше и меньше; а от соседей так вкусно пахло, беспрерывно они что-то готовили, то баклажаны томили с помидорами и чесноком, то борщ варили, то курицу жарили, от одних только запахов можно было умереть, она закрывала дверь в кухню, но они все равно просачивались.
Она ничего не могла с собой поделать, отвращение — люди кругом, люди! — перебивало страх смерти. Умереть казалось легче. Без особого ужаса она представляла, как доедает последнюю крупинку гречки или последнюю макаронину и остается ей одна вода, на ней еще можно протянуть с месяц. А дальше? Тишина. К которой она так стремительно приближалась.
В первый день после отпуска она проснулась в семь утра, как будто будильник прозвонил. Встала, легкая от голода, пустая. Приняла душ. Выпила кипятка, чай и кофе все вышли. С конфетой, которую нашла накануне в запылившейся вазочке.
В лифте с ней поздоровались, и она ответила. Удивилась своему голосу. Кружилась голова, и она зашла в булочную. Булку брать побоялась, слышала, как умирают вдруг наевшиеся с голодухи люди. Взяла сухарик и кофе и выпила с сухариком, удивляясь новизне вкуса. И тому, что сидит здесь, среди людей, в тепле и уюте, как будто бы только сейчас прилетела издалека-издалека.
На работе она так и сказала, что прибыла только утром, что самолет опоздал, что побывала в стране, совсем маленькой и далекой, высоко в горах, в Южной Америке. Что немножко странно себя чувствует, нужно акклиматизироваться. “Как ты похудела”, — с завистью сказала приятельница.
Рассказывала в самых общих словах, что отельчик был неплохой, кормили просто и сытно, на экскурсии ездила. Фотографии нашла в Интернете — горы на фоне синего неба, ущелье, стадо белых овец. Ее на этих фотографиях не было — неудивительно, она бы никому не доверила свой дорогущий фотоаппарат.
Леха сканировал фотографии и вернул. Она спрятала их в белый плотный конверт. Он попросил ее встать и взял камеру. Конверт она не выпускала, Леха сказал, что никуда он не денется, пусть положит на стол.
Она стояла, как он велел, у стены и смотрела на этот белый конверт. Леха сказал, чтобы посмотрела прямо в объектив. И еще:
— Вы хотите, чтобы с таким лицом? А смысл?
Она улыбнулась и даже рассмеялась. И головой тряхнула, и склонила голову, и посмотрела — в сторону. Но счастливых глаз все-таки не получалось, испуг из них не уходил. И Леха сказал, что сделает все возможное, но ничего не гарантирует. Она заплатила аванс, Леха пересчитал и сказал, что позвонит через пару недель и чтобы сама она не звонила, не торопила, спешить в таком деле невозможно. Местба они выбрали: средневековая улочка, мощенная белым камнем, кафе на набережной, веранда, белый песок, самая гуща уличной летней толпы.
Она вышла из студии и направилась, сжимая сумочку, в которой лежал белый плотный конверт, к остановке.
Через две недели он не позвонил.
После работы она не выдержала и поехала к салону. Войти не решилась. Спряталась за газетным киоском. За широкой стеклянной дверью горел свет, она знала, что там сидит охранник и, наверно, читает газету, и всякий вошедший говорит ему, куда идет. “В салон”. — “Третий этаж”. Что там еще было, кроме салона? Турагентство, нотариальная контора, какие-то офисы, запиравшиеся на кодовые замки.
Леха вышел из стеклянной двери около восьми, она уже думала, что его там нет, и, если бы он не появился, она простояла бы до ночи. Леха вышел, посмотрел на низкое небо и направился к своей машине.
Он давно уехал, а она все не отступала от киоска.
Народ схлынул, и автобус был почти пустой. Она смотрела в окно. Дождь начался, капли чертили линии по пыльному стеклу. Зазвонил телефон, она выхватила его из сумочки как оружие, из которого будет сейчас выстрел.
Дождь начался, капли чертили линии по пыльному стеклу. Зазвонил телефон, она выхватила его из сумочки как оружие, из которого будет сейчас выстрел.
— Все готово, — сказал Леха.
— Все?
— Увидите.
Белые крахмальные скатерти пришпилены к столешнице — от ветра. Салфетка улетает.
Она сидит за столиком в светлой кофточке, пьет кофе, чашка белая, сияющая, с ослепительным золотым ободком. Она смотрит вниз, на море.
Вадим Сергеевич сидит напротив нее. Смотрит на нее. На нем рубашка с распахнутым воротом, волосы растрепаны ветром.
— Где вы достали эту кофточку? — спросила Леху.
— В Интернете.
— Как вы думаете, она дорогая?
— Не знаю. Оставить вам ссылку?
Улочка, мощенная белым камнем. Катит мотоциклист. Пешеходы прижимаются к стенам. Они стоят в арке. Вадим Сергеевич положил руку ей на талию. За ними аквамарином светится море. Справа от арки — сувенирная лавка: ракушки, бусы, магниты, керамика. Бусы у нее на шее — из такой лавки, круглые бусы из прозрачного камня, они очень ей идут.
Пешеходы прижимаются к стенам. Они стоят в арке. Вадим Сергеевич положил руку ей на талию. За ними аквамарином светится море. Справа от арки — сувенирная лавка: ракушки, бусы, магниты, керамика. Бусы у нее на шее — из такой лавки, круглые бусы из прозрачного камня, они очень ей идут.
— Где бы такие достать?
— А вы зайдите в “Подарки” на Московской.
Вадим Сергеевич за рулем. Из окна открываются пропасть, скалы, на вершине стоят сосны, черные на фоне неба. Она сидит возле Вадима Сергеевича. Ее внимание захвачено космическим видом из окна. В глазах — безумный восторг.
— Где вы мне такие глаза достали?
— Само вышло. На фоне такой красоты.
Где они, не очень понятно. Скорей всего, в гостиничном номере. Полумрак. Они стоят, тесно прижавшись друг к другу. В зеркале отражается его голая спина. Они целуются.
— Возникает вопрос: кто снимал? — говорит она Лехе.
— Какая разница?
— Тогда получается, что мы позируем, это фальшиво.
— Можем убрать.
Она молчит, смотрит. На отражение голой спины в зеркале. Ее спина размыта, прямо перед объективом, не совсем в фокусе. Губы полураскрыты, волосы откинуты его рукой.
— Пусть, — решает она. — Ладно.
Леха сказал:
— Не хочу вам голову морочить, эксперт сразу поймет, что это подделка.
— Подделка?
— Ну разумеется. Я, конечно, мастер, но всего не предусмотришь, во-первых; во-вторых, половина здесь додумана, не так много у меня было исходного материала. Так что вы поосторожнее с этим делом. На испуг еще можно взять, а что-то серьезное лучше не надо. И, если что, я дам показания.
— Какие?
— Что это фальшивка, что я ее изготовил по вашей просьбе и все такое.
— Думаю, до этого дело не дойдет.
— Хотелось бы.
Она никому и не собиралась показывать эти снимки. Они лежали у нее в альбоме. Иногда она доставала и смотрела, как чудесно они провели с Вадимом Сергеевичем эти семь дней в Хорватии. Бусы у нее лежали в шкатулке, иногда она брала их в руки, перекатывала. Светлая кофточка висела в шкафу. Ни разу она ее не надела — здесь.
Вадим Сергеевич работал этажом выше, встречались они в основном в столовой. Иногда в лифте. Как-то раз она увидела его с женой и детьми в парке. Поздоровались. У нее сжалось сердце, ей показалось, он задержал на ней свой взгляд. Глаза у него были серые.
Прощание
В глухом мраке, под землей, под чугунной плитой. Плита опускается медленно и неотвратимо, как в рассказе Эдгара По. Чем тише сидеть, тем тише она будет опускаться.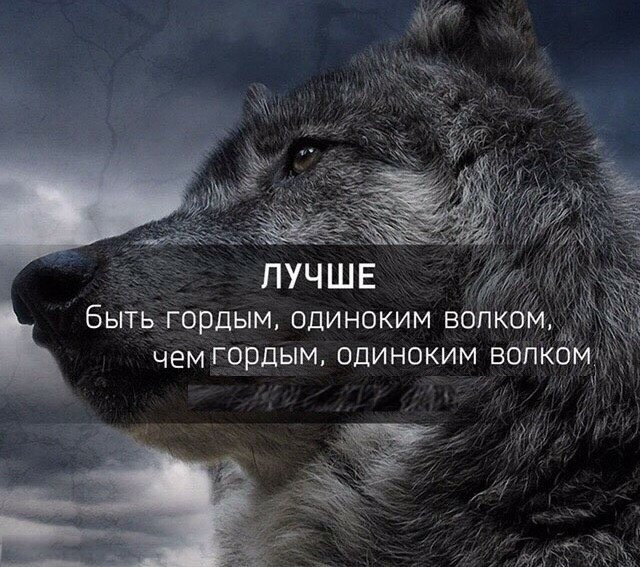 Глядишь, и не придавит, не заметит, не успеет, всему свой срок, а ей — один год, три месяца и две недели, если считать с сегодняшнего утра. Так думала, идя от метро просторной обледенелой улицей.
Глядишь, и не придавит, не заметит, не успеет, всему свой срок, а ей — один год, три месяца и две недели, если считать с сегодняшнего утра. Так думала, идя от метро просторной обледенелой улицей.
Она не спешила, время у нее было. Через голый сквер перешла на другую сторону. Ветер шумел в черных ветвях.
Зашла в гастроном. Он был как привал в дальней дороге, лучшая часть путешествия, роздых перед предстоящим. В кафетерии она брала кофе и бутерброд с колбасой. В те, давние уже, времена кофе в таких кафетериях наливали в граненые стаканы, и был он с молоком. Бутерброд стоил десять копеек, кофе — двадцать. Она несла свой стакан к высокому столику. Стояла облокотившись о высокую столешницу, бутерброд с лепестком колбасы лежал на салфетке. За высоким окном казалось совсем темно, и тоскливо было выходить. Она смотрела на часы, я уже и не помню, как они выглядели. Опоздать она боялась, на проходной отмечали время прихода.
В это утро умер человек, который и был ее чугунной плитой, кто преграждал ей воздух и свет, и когда она пришла на работу и узнала, чуть-чуть не рассмеялась. Плиту сняли, вышла амнистия.
Плиту сняли, вышла амнистия.
Сказали, что сегодня работы не будет, отдел едет на похороны, собрали деньги на цветы. Деньги она сдала и подумала, что совсем не обязательно ехать ей на его похороны, она выйдет со всеми и отстанет, свернет в какой-нибудь переулок, никто и не хватится, кому она нужна.
Был ей двадцать один год, и работала она на этом заводе по распределению и по закону должна была еще отработать один год, три месяца и две недели. Но теперь, после его смерти, это уже казалось легко, несущественно, понарошку.
Дождались всех и отправились. Странно было выходить так рано с завода, странно, что выпускали. Время отвлеклось, как отвлекся бы часовой на посту, и они проскочили. За проходной их ждал автобус. Она замешкалась, отстала, задержалась с рассеянным лицом у щита с газетами. Подошел пожилой мужчина с палкой и загородил ее. Он читал, близко наклоняясь к газетным буквам. Она видела автобус из-за его плеча.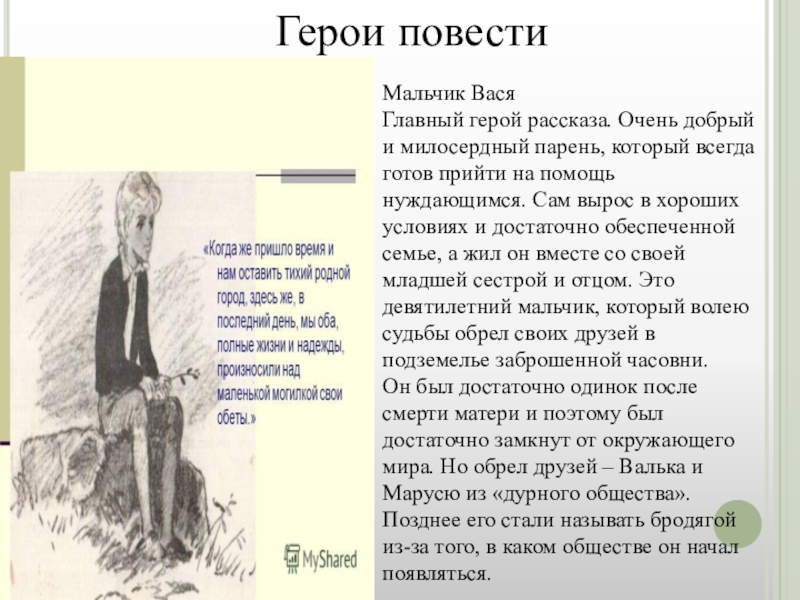 Все уже сели, но он стоял, мотор работал вхолостую. Наверно, шофер закуривал.
Все уже сели, но он стоял, мотор работал вхолостую. Наверно, шофер закуривал.
Из автобуса вдруг вышла Анна Сергеевна. Направилась к газетному щиту.
Она сжалась за большим, тепло дышащим мужчиной. Анна Сергеевна обошла мужчину. Пахнуло всегдашними ее духами.
— Тебя ждем.
— Да?
— Нашла время газеты читать.
— У меня голова болит, Анна Сергеевна, я на воздухе постоять.
— Я тебе таблетку дам, а воздухом мы сегодня на месяц вперед надышимся.
— Я бы домой лучше…
— Я бы тоже.
— А…
— У тебя во сколько рабочий день заканчивается?
— В шесть.
— Вот и будь добра до шести — с трудовым коллективом. Здесь не детский сад.
Весь автобус на нее смотрел, когда шла по проходу, все двадцать человек, первый раз так — все взгляды на нее. Села в самый хвост, притиснулась к окну, затаилась.
Села в самый хвост, притиснулась к окну, затаилась.
Ехали очень долго, больше часа, при том, что в те времена дороги были почти пустынны.
Прощались в каком-то как будто ангаре с воротами и без окон. Дурно пахло цветами. Незнакомый человек сказал, что помнит покойного маленьким мальчиком и всегда в нем видел этого мальчика, и заплакал. Она смотрела на него удивленно. Начальник отдела сказал, что покойный был прекрасным работником и товарищем. “Нам всем его будет не хватать”.
В гроб заглянула почти нечаянно и оторопела, не узнала лежащего и сейчас только поняла, что он совсем ушел, что его уже нет, что это тело — не он, это почти сама земля, и радостно стало и жутко от этой радости. Радость была понятная, простая, что он не посмотрит больше никогда на нее бледно-голубыми неподвижными глазами, от которых и она становилась неподвижной и не могла уже даже думать, едва только дышала. Никогда он не скажет громко, на весь отдел: “У вас три ошибки в программе!”, не швырнет распечатку о стол.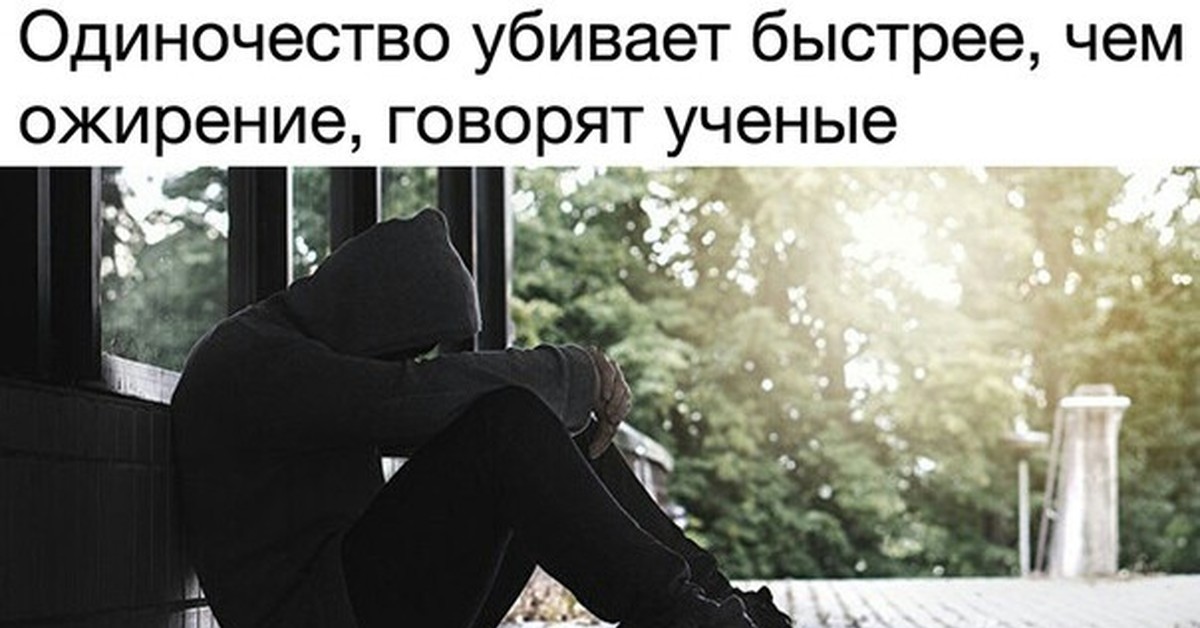 “Будьте любезны, разберитесь”. И не добавит, не добьет: “На первом курсе такие ошибки студенты делают, и то не все, самые тупые”. И не будет он сидеть с чашкой чая и громыхать в ней ложкой! Не услышит она ни его голоса, ни его ложки, ни шагов, которые всегда узнавала. И не увидит она больше его носовой платок, у него часто был насморк, и она помнила все его платки. И никто не обзовет ее дурой набитой, объясняя задачу. Она его боялась, а теперь бояться некого, и слава Богу, спасибо ему, если Он есть, что прибрал это чудище, иначе бы она уже не смогла, не вынесла. И она поняла, как хорошо, что поехала со всеми прощаться, ей очень нужно с ним попрощаться, навсегда, попрощаться, чтобы уже забыть.
“Будьте любезны, разберитесь”. И не добавит, не добьет: “На первом курсе такие ошибки студенты делают, и то не все, самые тупые”. И не будет он сидеть с чашкой чая и громыхать в ней ложкой! Не услышит она ни его голоса, ни его ложки, ни шагов, которые всегда узнавала. И не увидит она больше его носовой платок, у него часто был насморк, и она помнила все его платки. И никто не обзовет ее дурой набитой, объясняя задачу. Она его боялась, а теперь бояться некого, и слава Богу, спасибо ему, если Он есть, что прибрал это чудище, иначе бы она уже не смогла, не вынесла. И она поняла, как хорошо, что поехала со всеми прощаться, ей очень нужно с ним попрощаться, навсегда, попрощаться, чтобы уже забыть.
Вдалеке темнел лесок. Ноги скользили по глинистой земле, дул ветер. Дождь начался и шел все сильнее. Мужчина, который помнил его маленьким, сказал, что душа покойного не хочет нас покидать и стонет и плачет. “Уходи, уходи, — думалось, — не стони, не поможет, а я тоже плакала, но тебе все равно было”.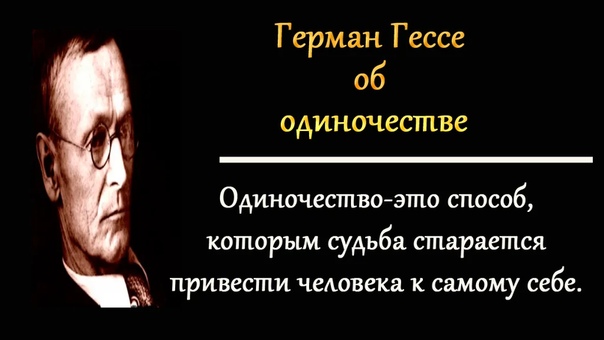 Зонта она с собой не захватила, и Анна Сергеевна взяла ее за локоть и притянула к себе. “Чего-то ты, подруга, дрожишь, первый раз хоронишь?” Точно, первый раз.
Зонта она с собой не захватила, и Анна Сергеевна взяла ее за локоть и притянула к себе. “Чего-то ты, подруга, дрожишь, первый раз хоронишь?” Точно, первый раз.
Анна Сергеевна сама, своей рукой, налила ей водки и велела выпить сразу, чтоб не заболеть. И горячего ей подкладывала, и чаю покрепче наливала, с коньяком.
А ей интересно оказалось посмотреть, где он жил, так бы и не побывала никогда. Квартирка была в панельном доме, на окраине, холостяцкая, холодная, в окна дуло из щелей. В ванной висела его рубашка, она ее не видала, наверно, домашняя, с обтрепанными манжетами. Уж могли бы и снять ее, ни у кого руки не дошли. Незнакомый мужчина оказался дядей покойного. Рассказал, что тот рос сиротой и всего сам добился. А чего добился? Квартиры этой щелястой на птичьей высоте? Работы в затхлой конторе от девяти до шести? Это, наверно, не она одна так подумала, по глазам было видно. Жена у него, оказывается, была — пять лет назад. Ничего от нее не осталось, даже фотокарточки, все порвал, она ему изменяла. Книжки он читал — воспоминания маршалов о Великой Отечественной войне. В одной была закладка, она открыла. Схема сражения со стрелками передвижений войск, с речкой и сараем на том, на ненашем, берегу.
Книжки он читал — воспоминания маршалов о Великой Отечественной войне. В одной была закладка, она открыла. Схема сражения со стрелками передвижений войск, с речкой и сараем на том, на ненашем, берегу.
От выпитого ей не сиделось на месте, какое-то беспокойство появилось во всем теле и томление, она вышла на балкон, там курили мужчины и седая женщина, соседка. С такой высоты она и не видела никогда мир. И балкон казался совсем крохотным, приступочкой.
— А тебя я знаю, — сказала соседка.
— Да?
— С его слов. Ты у него, прямо скажем, с языка не сходила. И походка твоя его раздражала, и голос, и всякий раз, как ни зайду, он помянет тебя. Я не вытерпела, сказала: “Покоя она тебе не дает, влюбился, наверно”. Так он пирожки мои шваркнул с балкона, представляешь?
Дом
Выход из метро закрыли, пришлось через радиальную. Шла незнакомым переулком под утренним небом. Сказали, что переулок приведет к третьему корпусу. Прозвенел невидимый трамвай. С пустого серого неба слетел, вращаясь, листок, откуда его принесло? Не желтый, помутневший. Все, кончилась сентябрьская ясность.
Шла незнакомым переулком под утренним небом. Сказали, что переулок приведет к третьему корпусу. Прозвенел невидимый трамвай. С пустого серого неба слетел, вращаясь, листок, откуда его принесло? Не желтый, помутневший. Все, кончилась сентябрьская ясность.
В приземистом одноэтажном доме горели огни. Он стоял здесь лет сто, у дверей памятная табличка, можно бы прочитать; издали она не могла различить, а подойти, отворить калитку, подняться на крыльцо времени не было, она на секунду только задержалась у желтых огней. Ей подумалось, что там все как сто лет назад, люди сидят за круглым столом, поет самовар, печи уже растоплены. Она бежала на работу и улыбалась, представляя тепло того дома. Но уже на проходной забыла о его существовании. На другое утро опять он встал перед ней, за невысокой оградкой, в окружении старых лип, и подумалось о летнем их сладком запахе, как проникал он сквозь открытые окна в дом, где все еще спали, и какая тишина тогда стояла в Москве, в глухом ее этом углу.
Настали заморозки, она бежала по черному, сырому асфальту, посыпанному солью, а раньше бы здесь все оледенело и дворники бы сбивали лед ломом, и вдруг она остановилась. В доме горели огни, а из печной трубы шел дым. И так ей захотелось войти и приблизиться по дощатому полу к изразцовой, наверно, печи, жарко гудящей.
Она приехала в субботу. Волновалась, так что не сразу решилась пройти через калитку. Боялась, что не увидит того, что придумала, — ни дощатого пола, ни изразцовой печи. Людей за самоваром точно не будет, это она понимала. Снег нападал за ночь, за оградкой он был белый, и черные липы стояли в нем торжественно. В окнах горел свет, скрипело крыльцо под ногами. Она отворила обитую ватином дверь и вошла в прихожую. За столом сидела женщина в платочке. Пол под ногами был деревянный, серый, некрашеный. Она заплатила пятьдесят копеек, и женщина дала ей билет, зеленый, как в кинотеатр, разве что не был указан ряд и место.
Дом был, конечно, не жилой, музей, но самовар стоял на круглом столе, и печь топилась, изразцовая. Подойти к ней было нельзя, ее ограждали бархатные шнуры, но жар от нее исходил, и немного надо было воображения, чтобы представить себя сидящей на корточках у приоткрытой дверцы, за которой пляшет огонь.
Подойти к ней было нельзя, ее ограждали бархатные шнуры, но жар от нее исходил, и немного надо было воображения, чтобы представить себя сидящей на корточках у приоткрытой дверцы, за которой пляшет огонь.
Она прошла вереницу комнат, рассмотрела кожаные, твердые, наверно, диваны, горки с посудой, сундуки, девичьи кровати в спаленке, и подумалось почему-то о мяче, закатившемся под кровать. Мучительно хотелось знать, кто же здесь жил, в этом доме, как жили, как проводили время, какие здесь звучали разговоры, а вот здесь, в темном закутке возле чулана, поцелуи. Экскурсоводша в очках все рассказала. Посетителей других не было, и рассказывала она спокойно, неспешно, с удовольствием отвечала на вопросы. И даже книжку подарила о всех жителях этого дома, об их судьбе.
Книжку она прочитала не только эту, в библиотеке ей все нашли, что только можно, об этих людях, о доме, о вещах в нем, у каждой была история. И каждый почти выходной, если только не болезнь или еще какое происшествие, трубу, например, прорвало под Новый год, наведывалась в этот дом и с экскурсоводшей уже говорила как с равной, но больше любила ходить одна, сидеть на стульях для посетителей, смотреть на убранство, все о нем зная, всю подноготную. Но ей хотелось большего. Не просто вплотную подойти к этой жизни, а сделать шаг за грань, за бархатные-то шнуры она проходила уже как своя, и ладони ее ложились на горячие изразцы, но все это было не то. Близко она подходила к той жизни, близко та ее к себе подпускала, но не впускала, а все-таки оставалась сама по себе, как бы за гранью. И дело было не в разных временах: она в настоящем, они — в прошедшем. Они просто не хотели ее впускать к себе, так ей чувствовалось. После она догадалась, что не только они. И те, кого она любила в настоящем, с кем хотела бы быть и, кажется, могла бы, ее не допускали. Никогда не было последней близости, самой. Не в плотском смысле, в плотском смысле такая близость меньше всего достигалась — из ее опыта. Ей оставалось только чувствовать их жизнь, издали, всегда как чужую, всегда как из другого времени, всегда как прошедшую. Их жизни уже прошли, а ее все еще длится. Но ничего в ней уже не будет.
Но ей хотелось большего. Не просто вплотную подойти к этой жизни, а сделать шаг за грань, за бархатные-то шнуры она проходила уже как своя, и ладони ее ложились на горячие изразцы, но все это было не то. Близко она подходила к той жизни, близко та ее к себе подпускала, но не впускала, а все-таки оставалась сама по себе, как бы за гранью. И дело было не в разных временах: она в настоящем, они — в прошедшем. Они просто не хотели ее впускать к себе, так ей чувствовалось. После она догадалась, что не только они. И те, кого она любила в настоящем, с кем хотела бы быть и, кажется, могла бы, ее не допускали. Никогда не было последней близости, самой. Не в плотском смысле, в плотском смысле такая близость меньше всего достигалась — из ее опыта. Ей оставалось только чувствовать их жизнь, издали, всегда как чужую, всегда как из другого времени, всегда как прошедшую. Их жизни уже прошли, а ее все еще длится. Но ничего в ней уже не будет.
«Одиночество» рассказ Льва Толстого
После веселого обеда в холостой компании мой старый приятель сказал мне:
– Не хочешь ли пройтись по Елисейским Полям?
И мы пошли, медленно шагая, по длинной аллее между деревьями, слабо одетыми листвой.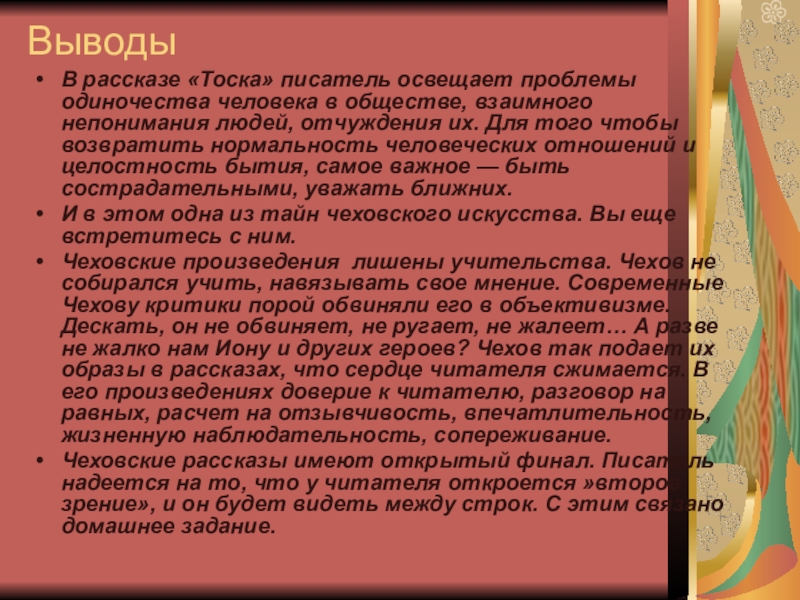 Ни малейшего шума, кроме этого вечного глухого гула от непрерывного парижского движения. Свежий ветерок дул нам в лицо, и по темному небу рассыпалась золотистая пыль бесчисленных звезд.
Ни малейшего шума, кроме этого вечного глухого гула от непрерывного парижского движения. Свежий ветерок дул нам в лицо, и по темному небу рассыпалась золотистая пыль бесчисленных звезд.
Товарищ мой заговорил:
– Не знаю почему, но ночью мне здесь дышится легче, чем где-либо. Мысль моя как будто растет. Минутами ум мой озаряется яркими проблесками света; и мне в эти мгновения кажется, что мы отгадаем божественную тайну жизни. Но окно захлопывается… И кончено.
Двойные тени мелькали порой между деревьями; мы прошли мимо скамейки; рядком сидевшая на ней парочка сливалась в одно темное пятно.
Мой приятель проговорил:
– Жалкие люди! Не отвращение, а беспредельную жалость чувствую я к ним. Из всех тайн человеческой жизни я постиг только одну: пытка нашего существования в том, что мы вечно одиноки, и все, что мы делаем, мы делаем, чтобы бежать от этого одиночества. Вон и эти влюбленные парочки на скамейках под открытым небом ищут возможности, как и мы, как и все живые существа, хотя бы на мгновение избежать своего одиночества, но они остаются и вечно останутся одинокими, и мы тоже.
Одни люди чувствуют это сильнее, другие слабее, вот и все.
С некоторого времени я испытываю невыносимую пытку: я понял, я постиг мое страшное одиночество и знаю, что ничто – понимаешь ли? – ничто в мире не в силах прекратить его. Все наши попытки, старания, порывы сердца, все призывы наших уст, все наши объятия тщетны и тщетны – мы всегда одиноки.
Я увлек тебя сюда на эту прогулку, чтобы не идти домой, – меня теперь невыносимо мучает одиночество моей квартиры. Но и это ни к чему. Я говорю, ты меня слушаешь, мы идем вдвоем, рядом, вместе, но каждый из нас один. Понимаешь ли ты меня?
«Блаженны нищие духом», – говорит Писание. Эти не утратили призрака счастья. Они не ведают нашего горя одиночества, они не бредут по жизненному пути, как я, соприкасаясь с людьми только локтями, без иной радости, кроме эгоистического удовлетворения тем, что понимаешь, видишь, угадываешь и без конца страдаешь от сознания своего вечного одиночества.
Ты думаешь, что я сошел с ума. Правда?
Но выслушай меня. С тех пор, как я почувствовал одиночество моего существования, мне кажется, что я с каждым днем все больше погружаюсь в какое-то мрачное подземелье, краев и конца которого я не вижу и из которого, может быть, нет и выхода. Я иду по нему, но ни со мной, ни рядом нет ни одного живого существа. Подземелье – это наша жизнь. Порой я слышу шум, голоса, крики… Я ощупью спешу на них. Но откуда они раздаются, я никогда наверное не знаю; я не встречаю никого, не нахожу руки другого человека в мраке, окружающем меня. Понимаешь ли?
С тех пор, как я почувствовал одиночество моего существования, мне кажется, что я с каждым днем все больше погружаюсь в какое-то мрачное подземелье, краев и конца которого я не вижу и из которого, может быть, нет и выхода. Я иду по нему, но ни со мной, ни рядом нет ни одного живого существа. Подземелье – это наша жизнь. Порой я слышу шум, голоса, крики… Я ощупью спешу на них. Но откуда они раздаются, я никогда наверное не знаю; я не встречаю никого, не нахожу руки другого человека в мраке, окружающем меня. Понимаешь ли?
Были люди, которые иногда угадывали это ужасное страдание. Мюссе восклицает:
Кто там идет? Зовет меня?
– Никто.
Один я, как всегда, – пробил час.
О, одиночество!
О, нищета!
Но у него это было мимолетное сомнение, а не полная достоверность, как у меня. Он был поэт, наполнял жизнь призраками, грезами. Он никогда не был вполне одинок, как я.
Густав Флобер, этот великий несчастный мира сего, потому что был из числа немногих великих провидцев, писал другу-женщине следующие отчаянные слова: «Мы все в пустыне; никто никого не понимает».
Да, никто никого не понимает; что бы мы ни думали, что бы ни говорили, что бы мы ни делали, – никто никого не понимает.
Знает ли земля, что творится на этих звездах, разбросанных, как огненные зерна в пространстве, так далеко, что мы видим только самую незначительную часть их, тогда как остальные бесчисленные их полчища теряются в бесконечности? А может быть, эти звезды так близки друг к другу, что составляют одно целое, как молекулы одного тела?
И как земля не знает, что творится на этих звездах, так и человек не знает, что происходит в другом человеке. Мы дальше друг от друга, чем эти светила, а главное – более разъединены, потому что мысль бездонна.
Что может быть ужаснее этого постоянного соприкосновения существ при невозможности слиться с ними? Мы любим так, как будто мы прикованы близко друг к другу, и, простирая руки, мы не можем соединиться. Мучительная потребность единения гложет; но все наши усилия тщетны, порывы бесплодны, излияния бесполезны, объятия бессильны, ласки пусты.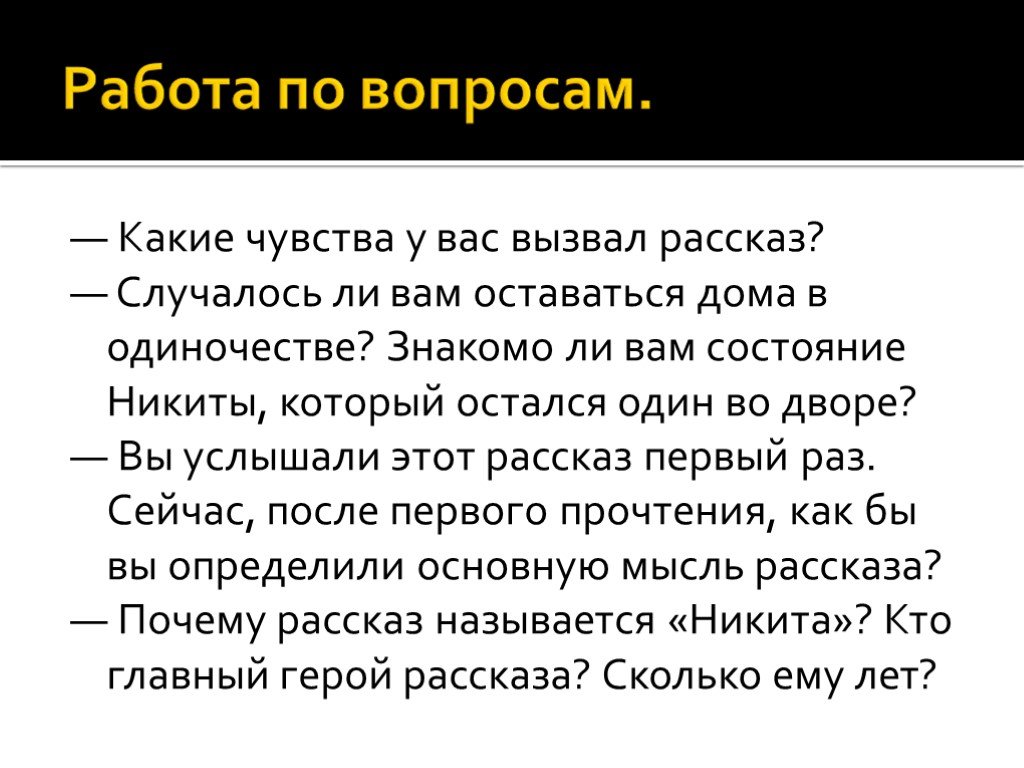 Мы хотим слиться, но, при всех наших стремлениях, мы только стукаемся друг о друга. Я больше всего чувствую себя одиноким, когда отдаю свое сердце другому человеку: тогда эта невозможность становится мне еще очевиднее. Вот он – этот человек, – он смотрит на меня своими ясными глазами, но душу его, позади их я не знаю. Он слушает меня. А что он думает? Да, что он думает? Ты не понимаешь этой муки? Может быть, он ненавидит, презирает меня, насмехается надо мной? Он взвешивает все мои слова, судит, глумится, осуждает меня, считает меня посредственностью или глупцом? Как знать, что он думает? Как знать, любит ли он меня так же, как я его, и что шевелится в его маленькой круглой голове? Какая страшная тайна – неизвестная мысль другого существа, мысль скрытая и свободная, которую мы не можем ни знать, ни направлять, ни обуздать, ни победить.
Мы хотим слиться, но, при всех наших стремлениях, мы только стукаемся друг о друга. Я больше всего чувствую себя одиноким, когда отдаю свое сердце другому человеку: тогда эта невозможность становится мне еще очевиднее. Вот он – этот человек, – он смотрит на меня своими ясными глазами, но душу его, позади их я не знаю. Он слушает меня. А что он думает? Да, что он думает? Ты не понимаешь этой муки? Может быть, он ненавидит, презирает меня, насмехается надо мной? Он взвешивает все мои слова, судит, глумится, осуждает меня, считает меня посредственностью или глупцом? Как знать, что он думает? Как знать, любит ли он меня так же, как я его, и что шевелится в его маленькой круглой голове? Какая страшная тайна – неизвестная мысль другого существа, мысль скрытая и свободная, которую мы не можем ни знать, ни направлять, ни обуздать, ни победить.
А я?.. Как я ни стараюсь отдаться, раскрыть все двери моей души, – мне это невозможно. Всегда на дне, на самом дне остается тайный уголок моего «я», куда никто не проникает.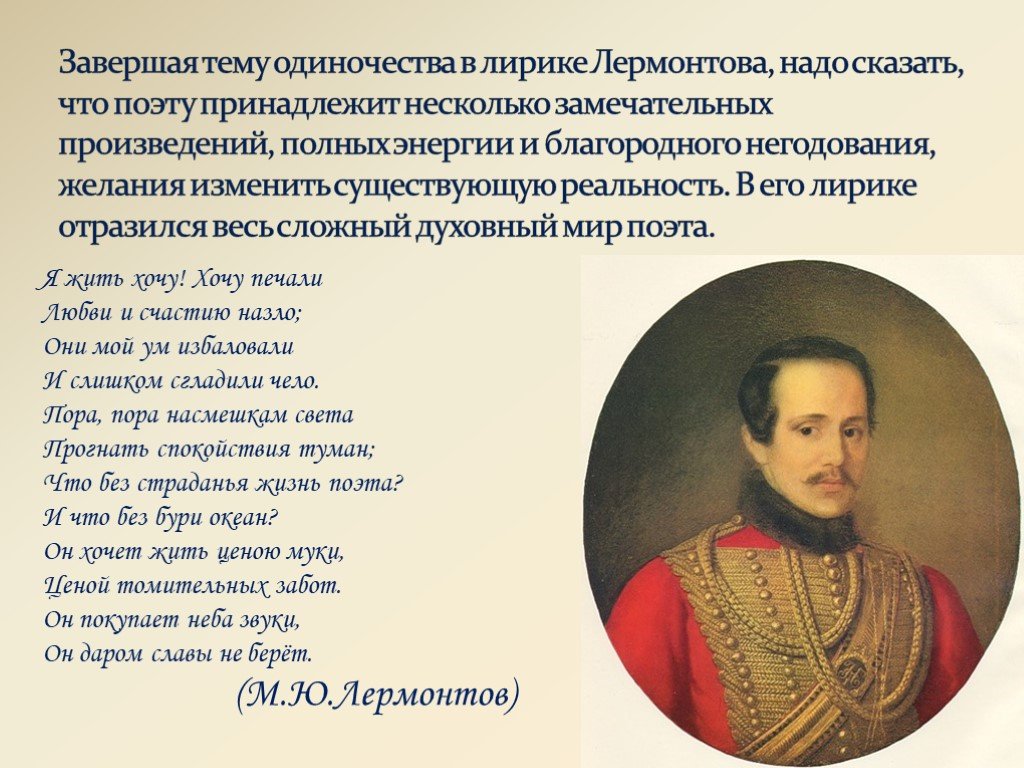 Никто не в силах открыть его, войти туда, потому что никто не похож на меня, и никто никого не понимает. По крайней мере, в эту минуту понимаешь ли ты меня?
Никто не в силах открыть его, войти туда, потому что никто не похож на меня, и никто никого не понимает. По крайней мере, в эту минуту понимаешь ли ты меня?
Нет. Ты считаешь меня безумным! Ты меня рассматриваешь, ты остерегаешься меня! Ты задаешь себе вопрос: что с ним?
Но если когда-нибудь тебе удастся понять мое ужасное и утонченное страдание, о, приди тогда, чтобы сказать только: «Я понял тебя», – и я хоть на мгновение буду счастлив.
Женщины в особенности заставляют меня сильнее чувствовать мое одиночество.
О, горе, горе! Как я страдал от них! Они чаще мужчин вызывали во мне ложную надежду на то, что я не одинок.
Когда вступаешь в любовь, кажется, что расширяешься, тебя охватывает нечеловеческое блаженство. Знаешь ли отчего? Знаешь ли, откуда это ощущение огромного счастья? Единственно оттого, что воображаешь себя уже не одиноким. Одиночество, отчуждение человеческого существа, по-видимому, кончилось. Какое жалкое заблуждение.
Женщина еще сильнее нас мучится тою вечною потребностью любви, которая гложет наше одинокое сердце; эта-то женщина и составляет главную ложь мечты.
Тебе знакомы сладостные часы лицом к лицу с этим существом, длинноволосым, пленительным, одни взоры которого сводят нас с ума. Безумный восторг туманит ум! Чудная иллюзия охватывает нас! Кажется, что вот-вот она и я сольемся в одно. Но это только кажется, и после недель ожиданий, надежд и лживых радостей я еще сильнее, чем прежде, чувствую себя одиноким.
После каждого поцелуя, после каждого объятия одиночество растет. И как оно ужасно, как мучительно! Поэт Сюлли Прюдом говорит:
Все ласки – одни безумные порывы,
Бесплодные попытки жалкой любви
Достигнуть союзом тел невозможного слияния душ.
И потом прощай. Все кончено! Мы едва узнаем ту женщину, которая на мгновение была для нас всем и задушевную мысль которой, конечно, пошлую, мы даже никогда не знали.
Даже в те минуты, когда нам кажется, что в таинственном согласии наших существ, в полном смешении желаний и всех стремлений мы проникли в самую глубь ее души, – слово, одно слово, случайно сказанное ею, раскрывает наш самообман и, как молния ночью, освещает пропасть, лежащую между нами.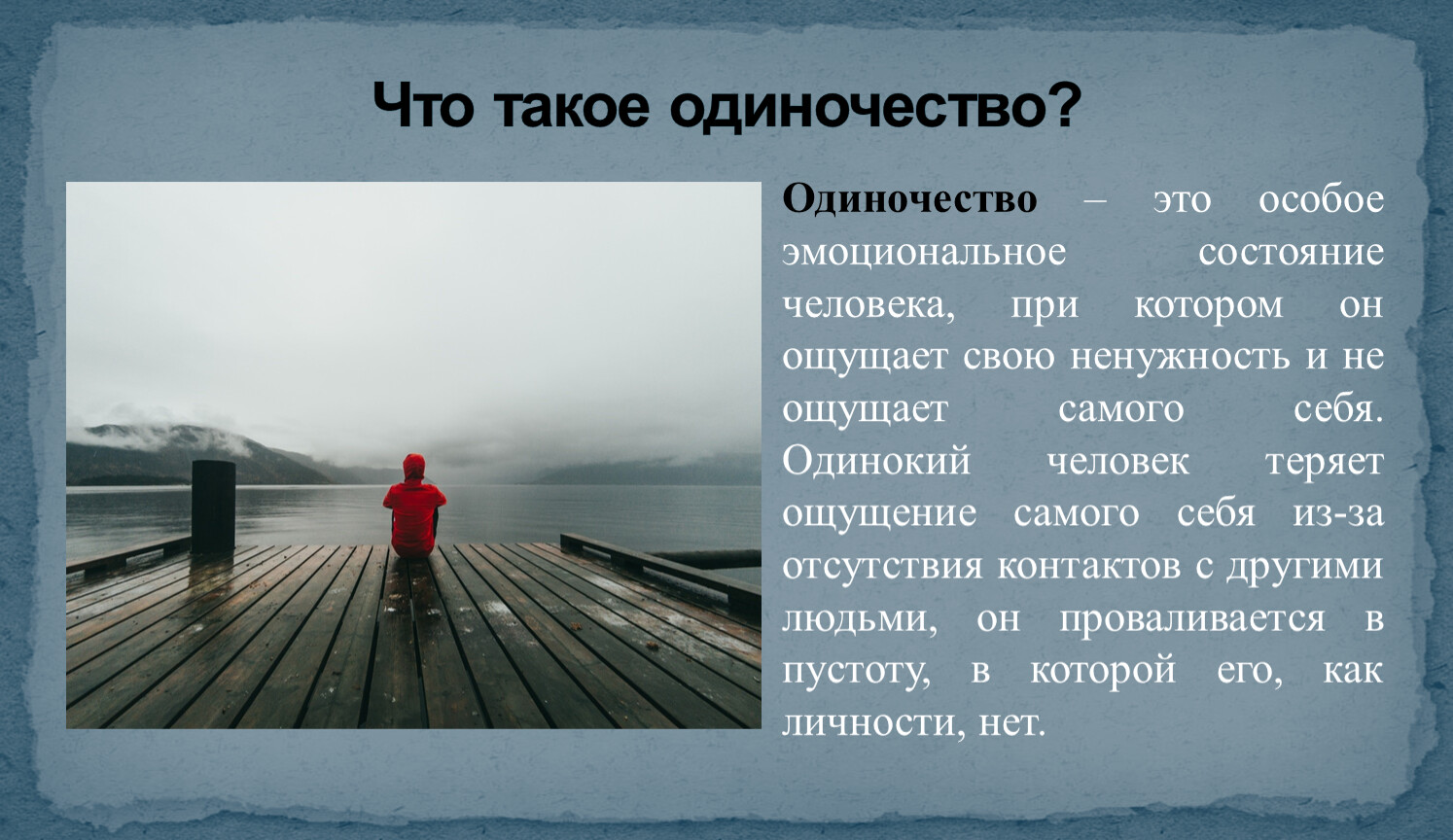
И все-таки ничего нет лучше этих вечеров с любимою женщиной – вечеров молчаливых, когда чувствуешь себя почти счастливым от одного ее присутствия. Не будем требовать большего, потому что никогда два существа не сольются вместе!
Что до меня касается, то я теперь от всех замкнул свою душу. Я никому не говорю, во что я верю, что я думаю, что люблю. Зная, что я осужден на ужасное одиночество, я равнодушно гляжу на все и не высказываюсь. Что мне за дело до чужих мнений, ссор, удовольствий и верований. Не будучи в состоянии делиться ничем с людьми, я безучастен ко всему.
Моя невидимая мысль остается неизведанной. У меня есть банальные фразы в ответ на обыденные вопросы и улыбка, когда мне не хочется отвечать.
Понимаешь ли ты меня?
Мы прошли всю длинную аллею до Триумфальной арки. Звезды, спустились до площади Согласия; он говорил медленно и высказал еще многое другое, чего я даже не запомнил.
Наконец он остановился перед гранитным обелиском, стоящим на парижской мостовой. При свете звезд едва обрисовывался длинный египетский профиль этого памятника в изгнании, на боках которого странными знаками начертана история его страны. И вдруг движением руки мой приятель указал на этот обелиск и воскликнул:
При свете звезд едва обрисовывался длинный египетский профиль этого памятника в изгнании, на боках которого странными знаками начертана история его страны. И вдруг движением руки мой приятель указал на этот обелиск и воскликнул:
– Все мы – как этот камень!
И он ушел, не сказав больше ни слова. Был ли он пьян, сумасшедший или мудрый, я и теперь не знаю. Порой мне кажется, что он прав, порой – что он сошел с ума.
Ги де Мопассан
Моя история одиночества | Одинокий парень
Моя история
Нисхождение
У меня было смутное подозрение, что я был одинок, когда мне было далеко за 30.
Я так отчаянно не хотел быть одиноким. Одиночество кажется таким грустным. Одинокие люди казались такими прилипчивыми и нуждающимися. Введите «одинокий» в текстовом сообщении и обратите внимание на предлагаемые смайлики. Я не плакал. У меня не было грустного лица. У меня была замечательная работа, которую я любил. В моей жизни было так много людей. У меня была замечательная семья, которая, как я знала, любила меня. У меня были друзья. Но у меня не было никого, кому я мог бы позвонить и сказать: «Мне нужно, чтобы ты выслушал меня», не чувствуя, что я вторгаюсь или прошу слишком многого.
У меня была замечательная семья, которая, как я знала, любила меня. У меня были друзья. Но у меня не было никого, кому я мог бы позвонить и сказать: «Мне нужно, чтобы ты выслушал меня», не чувствуя, что я вторгаюсь или прошу слишком многого.
Я просто думал, что разлука — это мой удел в жизни. Я думал, что одиночество было ценой, которую потребовала моя жизнь. Я удвоил свою работу и искал похвалы и внимания других. Я опустил голову и продолжил делать то, что делал. Это, несомненно, был выход из этого чувства. Я усердно работал над тем, чтобы избегать и подавлять свои чувства.
Я тоже чувствовал, что не могу говорить. Я жил, казалось бы, идеальной жизнью, ради которой я так много работал. Мне было ужасно, что я уже не чувствовал такой восторженной благодарности за все. Жизнь, которую я вел, имела свою цену, и мне было страшно подумать, что я больше не хочу ее платить. Мне нравилась моя работа, но она стоила мне эмоционально. Я не мог больше игнорировать это. Более того, я думал, что я один, потому что никто никогда не говорил о физических, умственных или эмоциональных затратах. Когда мы это делали, тема быстро менялась после того, как кто-то говорил вариант «смирись с этим» или «просто так обстоят дела».
Более того, я думал, что я один, потому что никто никогда не говорил о физических, умственных или эмоциональных затратах. Когда мы это делали, тема быстро менялась после того, как кто-то говорил вариант «смирись с этим» или «просто так обстоят дела».
В Австралии нехорошо иметь репутацию нытика.
Но что-то внутри меня отказывалось принимать все это. Я знал, что моя жизнь не должна быть такой. Так не должно было быть, но мне нужна была помощь. Я обратился к доктору Гуглу. Если вы делали это, вы также знаете, что стандартный совет состоит в том, чтобы поставить себя на место и делать то, что вы любите делать, и делать это с другими людьми. Связь важна. Это разумный совет, в точку. Откуда волшебным образом появится на этот раз время для моих увлечений? Я был так занят на работе и дома. Что может дать?
Кто-то предложил мне выбраться на выходные, чтобы заняться любимым делом. Я присоединился к группе по плаванию. Но через несколько месяцев это прекратилось, и плавание — это не тот вид спорта, где можно слишком много болтать с другими. Кроме того, я чувствовал себя очень усталым. Одна только мысль о том, чтобы выйти в воскресенье днем, чтобы встретиться с людьми, была утомительной.
Кроме того, я чувствовал себя очень усталым. Одна только мысль о том, чтобы выйти в воскресенье днем, чтобы встретиться с людьми, была утомительной.
У моего работодателя есть контрактный поставщик консультационных услуг, поэтому я позвонил ему через несколько месяцев. Я поговорил с милым человеком, который выслушал меня с сочувствием, а затем сказал мне найти то, что я люблю делать, и «поставить себя на ноги». Когда я напомнил консультанту, что «там» находится в неанглоязычной стране, они радостно сказали: «О. Ну попробуй в любом случае». Это было не то простое решение, на которое я надеялась, поговорив с консультантом в течение нескольких минут.
Но вот что я начал понимать в одиночестве: любое лечение или лечение казалось слишком сложным; утомительная гора для восхождения.
Прошли недели. Мой фанк стал глубже. Я понял, что бывали дни, когда никто, НИКТО не спрашивал меня, как я. Если подумать, моя маска компетентности и хорошего настроения означала, что я не давал людям особых поводов для вопросов.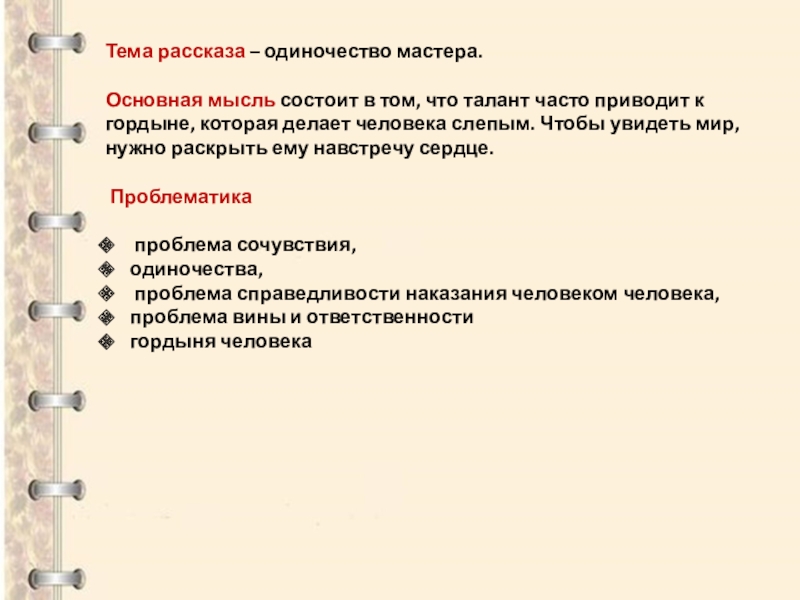 Просто оказалось, что у меня все отлично.
Просто оказалось, что у меня все отлично.
Я также знаю, что это обычное чувство для тех, кто одинок.
Я боялся, что люди сформировали отношения с моими масками, а не с настоящим мной. Любое лекарство от одиночества неизбежно включало бы в себя снятие масок и надежду на то, что люди в моей жизни по-прежнему будут любить меня, что они по-прежнему будут любить меня. Это было ужасно и удерживало меня от поиска дополнительной помощи. Даже когда меня спрашивали, как я себя чувствую, я не снимал маску из-за страха.
Вдобавок к этому страху я почувствовал стыд за то, что не могу справиться со всем внутри себя с легкостью. Быть мужчиной, безусловно, означало, что мне нужно было со всем справляться самостоятельно.
Однажды в октябре 2016 года я получил электронное письмо от Майка Кэмпбелла. Я прочитал книгу Майка в 2014 году и сразу же подписался на его блог и в социальных сетях. Я даже отправил ему электронное письмо, чтобы сообщить, насколько хороша, по моему мнению, его книга.
Я был удивлен, когда получил от него сообщение по электронной почте о программе, которую он разрабатывает, и о том, сможем ли мы поговорить. Мы говорили дважды в течение следующих нескольких дней. Каждый раз, когда мы разговаривали, я знал, что он видел меня и мои оправдания насквозь, и поощрял меня присоединиться к его программе.
Я был в ужасе и с таким трудом пытался выбраться из этого. Но я сделал самое сложное.
Воссоединение — восхождение
Это было как раз то, что мне было нужно. У меня была поддержка Майка и некоторых других замечательных мужчин в программе. В конце пятимесячной программы в марте 2017 года и после большой тяжелой работы я почувствовал, что впервые зашел в себя. Это сильное чувство.
Критически я разобрался с тем, что меня тревожило в мантре «просто покажи себя и общайся с людьми, которые разделяют твои интересы». Я сосредоточился на внешнем и на интересах. Моя проблема была с самим собой.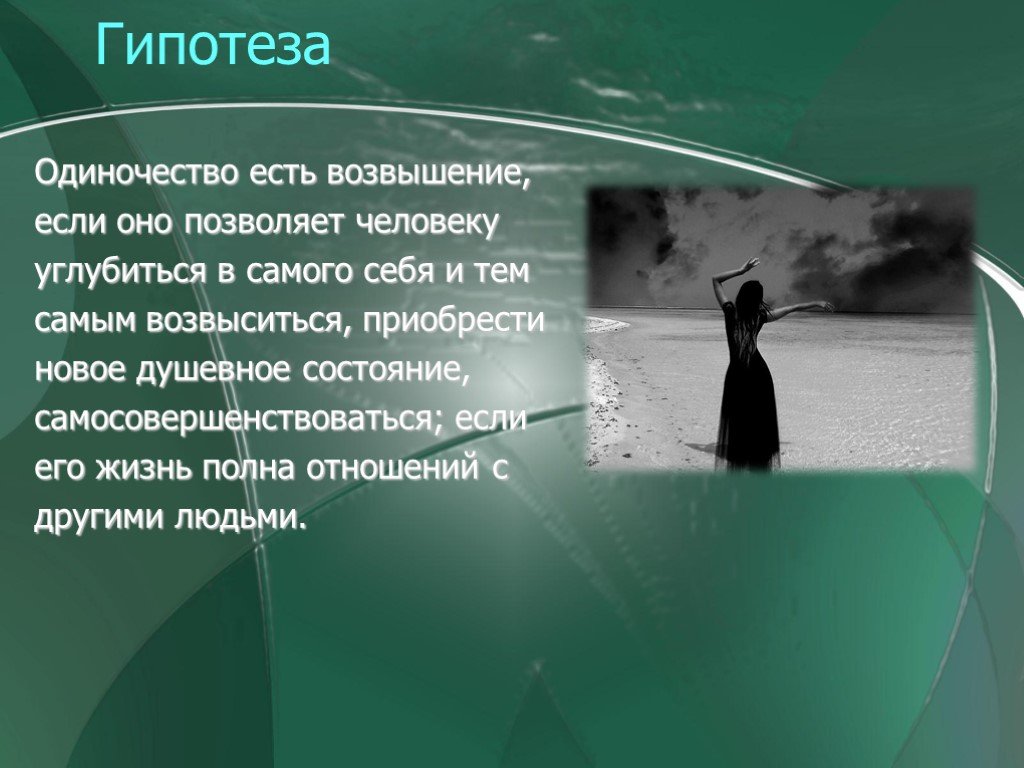
Из-за цикла работа/семья, усердно работая для одобрения других и прислушиваясь к голосу в своей голове, который говорил мне, что я недостаточно хорош и недостоин любви, если я покажу настоящий я слишком долго, я потерял себя. Я боялась того, что обо мне подумают другие люди.
Черт, я боялся того, что обо мне думают.
Связь, в которой я нуждался, была не только с другими людьми, но и с самой собой. Мне нужно было собственное одобрение.
Это было откровением. Мне нужно было узнать и принять себя, прежде чем я смогу общаться с другими людьми и миром вокруг меня. Я узнал, что то, что заставляло меня стыдиться и прятаться от других, включая мою попытку самоубийства в 14 лет и мою сексуальность, не было поводом для стыда: они стали моими сверхспособностями и дали мне глубокое понимание одиночества и состояния человека. .
Я достоин любви и принадлежности. Великие дела могут прийти из этого осознания.
Начав воссоединяться с самим собой, я начал вкладывать в мир свое подлинное я. Я начал связываться с людьми в своей жизни — как в прошлом, так и в настоящем, — с которыми я хотел связаться. Сюда входили те люди, которые физически находились рядом со мной, и другие, с которыми я все еще общался в социальных сетях, но, возможно, не видел их лично в течение многих лет. Я решил использовать социальные сети во благо.
Основным препятствием для этого соединения была занятость. Я сбился со счета из-за ответов типа «с удовольствием, но я очень занят».
Когда соединения происходили, они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО происходили. У меня были настоящие, открытые, честные, смелые и ранимые разговоры с людьми. Дерьмо стало действительно реальным. Это был я, действительно я, подключающийся. Это они, на самом деле они, соединились. Это было красиво.
Я вел эти настоящие разговоры внутри себя. У меня они были дома. У меня были эти разговоры в офисе. Я вел эти разговоры по телефону, по электронной почте, по тексту. И теперь я веду эти беседы с людьми через этот сайт и на www.thelonelydiplomat.com.
И теперь я веду эти беседы с людьми через этот сайт и на www.thelonelydiplomat.com.
Но эти попытки подключения не всегда заканчивались успешно. С некоторыми людьми я заметил, что мы отдалились друг от друга. Наш жизненный опыт привел к тому, что у меня больше не было общих интересов с некоторыми людьми из моего прошлого. Это было грустно, так как это была дружба с людьми, которые, как я верил, всегда будут рядом со мной, а я буду рядом с ними. Я изменился, и некоторые друзья изменились. Мне нужно было позволить другим людям развиваться и меняться.
Более того, я сказал некоторым людям, что я одинок, хочу воссоединиться, и сказал им, что я гей, и несколько раз меня встречали со словами или чувствами вроде «ты это заслужил», «такой образ жизни это ваш выбор» или «вы должны были ожидать, что почувствуете себя одиноким».
Это тяжело слышать, когда я выкладываю настоящего себя. Это действительно больно.
К счастью, я быстрее дохожу до точки, где я знаю, что те, кто говорят, что я заслуживаю своего одиночества, любезно признались мне, что не достойны меня в своей жизни.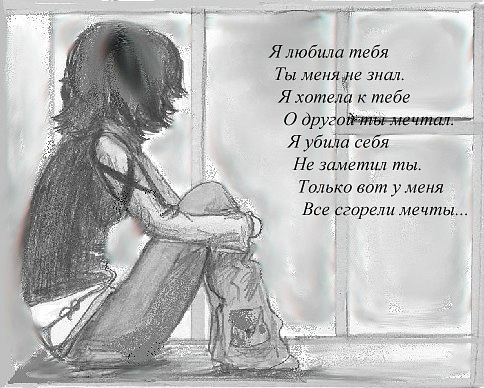 Кроме того, я могу просто поговорить с теми особенными людьми в моей жизни, которые, я знаю, любят меня за то, что я есть я, и я знаю, что они могут слушать меня, и что я буду слушать их.
Кроме того, я могу просто поговорить с теми особенными людьми в моей жизни, которые, я знаю, любят меня за то, что я есть я, и я знаю, что они могут слушать меня, и что я буду слушать их.
Иногда я вижу, что моя искренность и открытость зеркально отражается на людях. Это может заставить их чувствовать себя некомфортно. Я могу обратиться к голосу внутри них, который говорит им, что вещи внутри них не так хороши, как им хотелось бы. Это нормально. Мне потребовались годы, чтобы добраться до этого момента. Я знаком с дискомфортом.
Хотя вы можете чувствовать себя одиноким и напуганным, вы больше не одиноки. Давай будем одиноки и напуганы вместе.
Вот я. Я Фил. Я все еще склонен чувствовать себя одиноким, но я знаю выход. Пойдем вместе.
Lonely People — ваши истории: «Такое одиночество, от которого у меня болит сердце» — The Irish Times
Я 44-летняя профессиональная женщина, очень счастлива в браке, у меня двое прекрасных детей. Повезло, а? Я никогда не думал, что почувствую такое одиночество, от которого у меня болит сердце. Но я делаю.
Повезло, а? Я никогда не думал, что почувствую такое одиночество, от которого у меня болит сердце. Но я делаю.
Я родом из Ирландии. Я переехала в Уэльс двадцать лет назад по работе, встретила своего мужа (тоже ирландца) и устроилась там жить. У меня была большая группа подруг, приобретенных в детских игровых группах, в школе и на работе.
Два года назад мы приняли решение вернуться в Ирландию, чтобы жить, чтобы быть ближе к семье и чтобы наши дети росли в Ирландии.
Я не жалею об этом решении — мы как семья хорошо устроились, и я понимаю, что никогда не чувствовал себя в Великобритании как дома.
ПОДРОБНЕЕОднако я оставил всех своих подруг позади. У меня есть одна близкая подруга, ирландка, но она больше не живет в этой стране. Мои университетские друзья разбросаны по Ирландии.
Я работаю полный рабочий день, поэтому у меня мало времени на хобби.
Мое одиночество иногда застает меня врасплох. Я могу ехать и вижу, например, группу прогуливающихся женщин; просто ходить и болтать, приводя мир в порядок.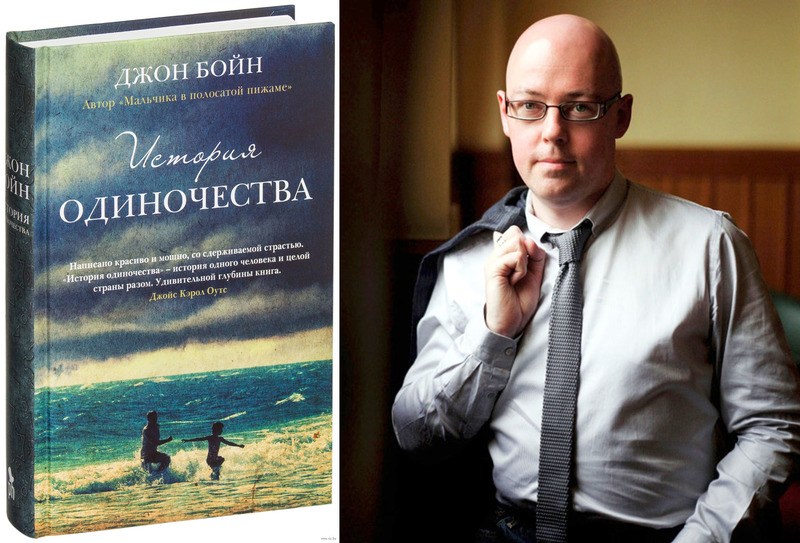
Или я могу выйти с мужем и увидеть группу женщин в пабе, которые смеются над чем-то глупым.
У меня больше нет той близкой женской дружбы, с кем можно выпить кофе или прогуляться, а я так жажду и скучаю по ней. Даже написание этого письма доводит меня до слез.
Я не знаю, как завести новых друзей; в моем возрасте у всех, кажется, есть свои группы друзей.
Я знаю, что должен выложиться, так сказать, но это легче сказать, чем сделать.
— Имя с редактором
«Я отправил групповое сообщение через Whatsapp и не получил ответа»
Мне 33 года. У меня отличная компания друзей, как парней, так и девушек. У меня тоже огромный круг знакомых. Но многие из моих основных друзей женятся и заводят детей. У меня никого нет.
Становится очень одиноко. Было время года два-три назад, когда я страдал от депрессии, и если я отправлял групповое сообщение через Whatsapp и не получал ответа, мой разум метался: «Они все где-то ушли и не хотят, чтобы я был с ними?
Даже сейчас, когда я прошел через это, по выходным по-прежнему одиноко. Я работаю в маленьком офисе, и пока я лажу со своими товарищами по работе, это не очень общительная работа. Я тоже из маленького городка, поэтому, если бы я вышел один, чтобы познакомиться с новыми людьми, я бы торчал, как больной палец.
Я работаю в маленьком офисе, и пока я лажу со своими товарищами по работе, это не очень общительная работа. Я тоже из маленького городка, поэтому, если бы я вышел один, чтобы познакомиться с новыми людьми, я бы торчал, как больной палец.
С возрастом определенно трудно знакомиться с новыми людьми. Я все еще вижу своих друзей, но не так часто, но жизнь развивается и движется вперед.
— Имя с редактором
«Другие виды одиночества допустимы, но не этот. Как, в конце концов, можно быть женатым и одиноким?»
Существует особый тип одиночества, которое расцветает, когда вы женаты на ком-то, кто вас не любит.
Это не периодическое одиночество, это не то одиночество, которое подкрадывается и кладет руку на плечо, когда ты на вечеринке без супруга и вдруг скучаешь по ним. Это не то одиночество, которое накатывает на вас по ночам, когда вы одиноки, а ваш супруг находится за границей в недельной командировке. Это даже не то одиночество, которое проявляется, когда умирает ваш супруг, и вы остаетесь без его физического присутствия.
Нет. Это постоянное одиночество, сопровождающее каждый час бодрствования и сна. Это одиночество, которое останавливает приток крови к сердцу и от него, когда вы делитесь своими самыми глубокими чувствами только для того, чтобы их не принимали во внимание, пренебрегали или высмеивали.
Одиночество заставляет вас так жаждать физического контакта, что вы сгребаете странную улыбку, направляющую вас, и пытаетесь превратить ее в любящую ласку. Даже если это только в твоей голове.
Это одиночество, которое пронизывает вашу душу, когда вы делаете себя настолько уязвимой, насколько вы умеете – рискуете и выставляете напоказ свои страхи, надежды и мечты в равной мере – и ваш муж отвечает. Однако не с добротой и пониманием, как вы надеялись; но с рассказом о том, как он хотел биться за Индию, но этого не произошло. И ты прикусываешь язык, чтобы не напоминать ему, что на самом деле он не играет в крикет.
Это одиночество, которое видит вас за ужином с несколькими другими людьми, играющими свою роль: искусно представляя себя половинкой сплоченной, счастливой пары в надежде, что жизнь будет подражать искусству.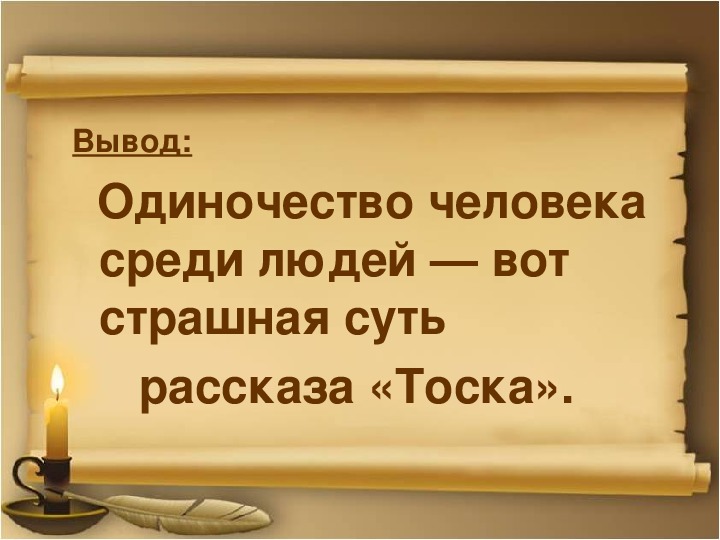 В надежде, что ваша жеманность связи будет вознаграждена настоящей связью.
В надежде, что ваша жеманность связи будет вознаграждена настоящей связью.
Это единственный вид одиночества, который нельзя назвать по стыду, который оно на тебя навлекает. Другие виды одиночества законны, но не этот. Как, в конце концов, можно быть женатым и одиноким?
Это тип одиночества, с которым, чтобы бороться с ним, вы пытаетесь его игнорировать. Вы отдаете частички себя в молчаливом обмене на принятие. Если вы сможете быть меньше собой и больше кем-то другим, тогда вас примут и, следовательно, вы будете менее одиноки.
Пока однажды утром ты не проснешься и не поймешь, что отдала так много, что стала тенью оболочки женщины, которой когда-то была.
И тогда ты одинок для себя. Ты хочешь вернуть прежнюю себя. Вы понимаете, что особый тип одиночества, который расцветает, когда вы женаты на ком-то, кто вас не любит, пустил корни внутри вас и задушил вас из себя.
У каждого одиночества есть лекарство, и единственное лекарство от такого одиночества — уйти. Лекарство от такого одиночества — побыть в одиночестве. Хейзел Кэтрин Ларкин
Лекарство от такого одиночества — побыть в одиночестве. Хейзел Кэтрин Ларкин
«Это безмолвное внутреннее преследование сохранялось в бывшей психологической пытке»
В моем характере всегда была аура простоты. Несмотря на амбивертность и часто детальную наблюдательность в моем взгляде на людей, роль «беззаботного Дейва» была признана и редко оспаривалась среди семьи и друзей.
Шустрый, общительный, спортивный и активный; все громкие черты саморекламной биографии с перепадами настроения, драмой и горькими выдержками рассматриваются просто как порывы подростковой тоски.
Мне всегда нравилось быть в компании, болтать и смеяться. Но скрытое презрение к паранойе и незащищенности может легко испортить ожидаемое удовольствие от общения и общения. Разговорчивый, привлекательный, но тихо сомневающийся. Боязнь личных точек зрения на том основании, что я могу кому-то не нравиться из-за того, что я думал или говорил.
Это безмолвное преследование внутри сохранялось в прежней мысленной пытке; ежедневная рутина подстрекательства к зеркалу, отмеченная оскорблениями и напоминаниями о том, что я ничего не стою, я никому не нравлюсь и что мне лучше быть одной.
Последующие минуты наедине с собой позволили мне тревожно упиваться триумфом вынужденной солидарности; игнорирование текстовых сообщений, избегание вечеринок и встреч с уверенностью, что обо мне не будут скучать, что семья и друзья будут рады, что я решил держаться подальше.
Пик разврата в вынужденном выходе из круга общения наступил, когда он неохотно соглашался присоединиться к друзьям на выходных. Сославшись на работу как на оправдание позднего прибытия, я смог путешествовать один. Я также забронировал отдельное жилье с возвратом финансовых ограничений наготове, если кто-то поднимет вопрос.
По возвращении в общежитие поздно ночью я понял, что забыл свою карту доступа. Не имея возможности попасть внутрь, я избегал общения с ближайшими друзьями, предпочитая вместо этого спать в машине.
Один друг, который, скорее всего, уловил мою сдержанную манеру поведения той ночью, позвонил мне на телефон. Несмотря на полотенце в качестве одеяла, джемпер вместо подушки и твердый ковер подо мной, место на полу его гостиничного номера в ту ночь было, пожалуй, самым большим комфортом, который я когда-либо знал.
Эти переживания обесценивания и бессмысленного наказания — лишь немногие из многих омраченных мгновений замешательства и непонимания в самом моем существе. Однако они сыграли жизненно важную роль в моей окончательной готовности найти способ справиться с сомнением и страхом, которые возникают, когда жизнь прерывается.
Изучение внимательности очень помогло найти руководство к жизни. Признание того, что хотя в жизни нет ничего абсолютного, все относительно. Осознание своих эмоций и рассуждений о пережитом опыте дает мне силу и уверенность, чтобы продолжать и с состраданием принимать ценность себя и, что не менее важно, ценность семьи и друзей.
— Дэвид О’Коннор, Дублин
«Одиночество, если бы оно было цветом, должно было бы быть темно-серым, слизистым цветом»
Я девушка, я полагаю, сейчас действительно женщина, мне за сорок, у меня большая семья из пяти детей. Любящий муж, две замечательные сестры, много прекрасных друзей и насыщенная насыщенная жизнь. Так как же вы могли себе представить, что я могу страдать от одиночества?
Так как же вы могли себе представить, что я могу страдать от одиночества?
Но да, поскольку мой отец умер шесть лет назад, я иногда так по нему скучаю, что мне становится очень одиноко. Интересно, когда я занимаюсь своими делами, делаю покупки, иду на прогулку, незаконно накрашиваю губы помадой в машине по дороге на работу или набираю электронное письмо — почему одиночество просто поражает вас?
Это может быть кто-то, кто идет впереди меня по улице, как папа, наклон чьей-то головы, наблюдение за стариком, ищущим свою кредитную карту в очереди супермаркета, как это делал папа, или встреча взглядов в пробке с кем-то темным и черноволосым, который выглядит немного похожим.
Одиночество, если бы оно было цветом, должно было бы быть темно-серым, слизистым цветом, потому что именно на это похоже ощущение, когда оно попадает прямо в живот — ужасное выворачивающее чувство. Я часто задаюсь вопросом, когда занимаюсь своими делами, сколько людей чувствуют то же самое и испытывают ли они такое же облегчение, когда это чувство проходит?
Я всегда думал, что одиночество присуще только людям, живущим в одиночестве, когда никого нет рядом, но иногда одиночество становится более острым, когда вы находитесь в людном месте, потому что никто не знает, что вы чувствуете внутри, и удивительно видеть, как люди занимаются своими делами, а не зная, что кто-то в пределах досягаемости так сильно болит внутри.
Будьте добры к другим людям. Никто не знает, какие у людей личные потрясения, и если вы знаете, что можете облегчить чье-то одиночество, просто сделайте это — может быть, когда мы задаем кому-то заезженный вопрос «как дела?» мы могли бы остановиться и на самом деле выслушать ответ, потому что одиночество — ужасное, ужасное чувство, и я верю, что каждый испытывает его на каком-то этапе своей жизни.
— Клэр Ронан
«С двумя малышами я никогда не была одна, но отчаянно одинока каждый божий день».
Быть молодой матерью-одиночкой означало, что я осталась позади, когда мои сверстники продолжали жить своей жизнью, путешествуя и учась. С двумя малышами я никогда не была одна, но отчаянно одинока каждый божий день. Я думаю, что это важное различие, и это, безусловно, то, от чего могут страдать люди, занимающиеся воспитанием детей, особенно воспитанием в одиночку.
Когда мальчики пошли в школу, я вернулся к работе, но коллеги не всегда приравниваются к друзьям, и хотя это снимало остроту, я работал, учился, воспитывал мальчиков и занимался домом. Мои потребности были в буквальном смысле последними в списке тех, которые должны были быть удовлетворены.
Мои потребности были в буквальном смысле последними в списке тех, которые должны были быть удовлетворены.
Пять лет назад, когда у моих друзей появились собственные новорожденные, я завела свой блог CherrySue Doin’ the Do как творческое и социальное средство, и он изменил всю нашу жизнь к лучшему. Я смог не только выпустить пар через сообщения в блоге, но и пообщаться онлайн с людьми в такой же ситуации.
В то время как мальчикам сейчас 18 и 19 лет, я полностью доверяю своей общественной жизни и подавляющему большинству моих социальных кругов с людьми, которых я встретил в Интернете и через мою работу в блоге. Это определенно помогло с моим психическим здоровьем и, как прямой результат, с психическим здоровьем и психикой моих сыновей.
Я не могу порекомендовать больше общаться в Интернете.
Это фантастическая беседа, которую можно вести открыто и инклюзивно. Большое спасибо за то, что вы ее начали.
— Сью Джордан cherrysuedointhedo. com
com
«Будучи взрослым подростком-геем, я задаюсь вопросом, было бы все иначе, если бы я был молодым сейчас? Интересно, буду ли я чувствовать себя менее одиноким».
1999 Мне 13 лет, я живу в маленьком городке на берегу Атлантического океана, и мой самый большой страх, от которого у меня кружится голова, если я слишком долго принимаю его правду, это моя сексуальность. Я мучаюсь над этим, обдумываю это со всех сторон, отрицаю это. Как ни странно, мои одноклассники не склонны к такому пучеглазию: педики, пидоры и геи — часть моего ежедневного фонового шума. Я практически могу провести научное исследование роста, падения и возрождения популярности определенных гомофобных оскорблений среди подростков.
Я изолирую себя и удивляюсь, как другие могут так легко интуитивно понять то, в чем я даже себе не признаюсь. Во всяком случае, я думаю, что оскорбления не очень касаются меня, но они все равно жалят. Они имеют странный смысл, как если бы вы слушали иностранный язык и узнавали некоторые слова как близкие к вашему родному языку.
Единственная моя точка отсчета для геев в это время — это перелистнутая копия «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина, поп-звезды, которую насильно уволили, и странный фильм с субтитрами на ночном канале 4. (Я предполагаю, что все иностранные фильмы содержат хотя бы один гейский сюжет, так что однажды я не спал допоздна, чтобы с затуманенным взором проглотить трехчасовой французский фильм о пенсионере и его собаке.)
Издевательства усиливаются. Я регулярно жду после школы, чтобы избежать группы мальчиков, притворяясь, что что-то забыл в моем шкафчике; во время послеобеденной прогулки кто-то бросает мне в голову банку из-под кока-колы из проезжающей машины и кричит «педик». Мне не приходит в голову рассказать кому-нибудь. Я боюсь, что люди узнают, что меня называют геем, больше, чем издевательств. Учительница по металлу называет мальчиков педиками в классе; учитель естественных наук рассказывает нам о мужчинах и женщинах, «естественном порядке вещей»; на уроке полового воспитания учитель утверждает, что гомосексуалы не используют секс так, как задумал Бог. Никто не считает эти замечания странными. Мы не сообщаем о них. Мы не делаем ажиотажа. Нам и в голову не приходит что-то делать. Так обстоят дела, и, во всяком случае, все, кажется, в основном согласны.
Никто не считает эти замечания странными. Мы не сообщаем о них. Мы не делаем ажиотажа. Нам и в голову не приходит что-то делать. Так обстоят дела, и, во всяком случае, все, кажется, в основном согласны.
Я все больше беспокоюсь, тревога подпитывает одиночество, а одиночество подпитывает депрессию. Я знаю, что настоящие геи существуют, но они существуют абстрактно, как и гравитация: неопровержимо существуют, но невидимы.
Тогда все меняется. Со скрипучим коммутируемым интернет-соединением со скоростью 56 кбит/с моя маленькая комната в маленьком городке, в маленькой стране внезапно подключается через жужжащую телефонную линию к миру, и я провожу свое время, часы за часами. времени, в гей-чатах.
Я рассказываю парням во Франции, Техасе и Южной Африке то, чего не знают самые близкие мне люди. Я не даю никаких идентифицирующих подробностей о себе, но я менее одинок. Меня могут узнать, не будучи известным, и это захватывающе. Я разговариваю с BloodyValentinex088, который живет в Коннектикуте.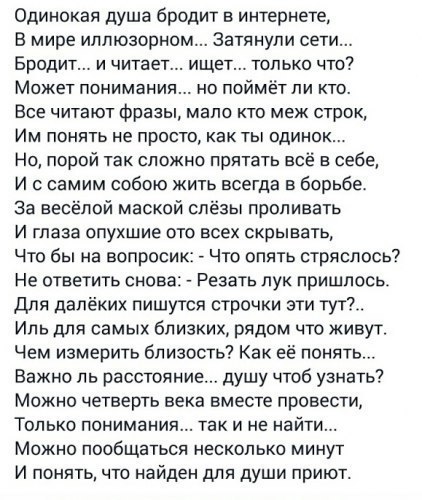 Он любит рок-группы и пишет научно-фантастические рассказы о геях, что делает его самым крутым человеком, которого я когда-либо (почти) встречал. В других случаях, когда одиночество угрожает переполнить мою грудь настолько, что кажется, будто моя грудная клетка вот-вот взорвется, я назначаю свидания, которые знаю, что не смогу сдержать: обещания выпить кофе с мальчиками в Айове или прогуляться в парке в Лондоне. Все, что угодно, чтобы почувствовать близость.
Он любит рок-группы и пишет научно-фантастические рассказы о геях, что делает его самым крутым человеком, которого я когда-либо (почти) встречал. В других случаях, когда одиночество угрожает переполнить мою грудь настолько, что кажется, будто моя грудная клетка вот-вот взорвется, я назначаю свидания, которые знаю, что не смогу сдержать: обещания выпить кофе с мальчиками в Айове или прогуляться в парке в Лондоне. Все, что угодно, чтобы почувствовать близость.
Я болтаю с парнем ближе к дому, который не знает, кто он: он живет в Слайго, Роскоммоне, Голуэе или Мейо (определенно НЕ в Лейтриме), среднего роста и телосложения, у него либо светлые, либо темные волосы, ему где-то между 14 и 19. Электронные отношения длятся недолго: его близость увеличивает вероятность того, что мы когда-либо встретимся. Идея интимной близости с мужчиной по-прежнему напоминает посещение далекой и незнакомой страны: осязаемой, технически возможной, но места, куда я никогда не поеду. Идея отношений с мужчиной может также быть другой планетой: одной из тех далеких галактик, которые находятся в световых годах от нас.
2015
Мне 29 лет, я снова в Ирландии, небо грозит дождем, и я хожу от двери к двери, чтобы участвовать в кампании.
‘Привет, я Джон. Я здесь от имени организации «Брачное равенство». Вы думали, как будете голосовать 22 мая?»
Несколько подростков сидят на стене и наблюдают за благонамеренными добровольцами. Один мальчик подталкивает свою пару, ухмыляется и кричит: «Пидоры! Голосуйте против!» Никто не смеется. Его друг говорит: «Голосуй за!» Одна девочка как ни в чем не бывало рассказывает мне, что сегодня в школе провели фиктивный референдум, и все проголосовали «за».
Позже я задаю себе вопрос, который неизбежно задают себе взрослые геи, когда проводят какое-то время с подростками: было бы все иначе, если бы я был сейчас молодым? Интересно, буду ли я чувствовать себя менее одиноким? Будут ли мои родители говорить мне, 17-летнему, держать это при себе и предупреждать, что я потеряю всех своих друзей? Буду ли я когда-нибудь чувствовать себя таким одиноким в свои 18 лет, что буду думать, что самоубийство — мой единственный выход? Разве я не проведу десятилетие, будучи неспособным открыться, отдаляясь от своей семьи, друзей и всех, кто знал меня до того, как я поступил в колледж?
Оглядываясь назад на 16 лет спустя, я спрашиваю себя, чего я так боялся, но сразу же знаю ответ.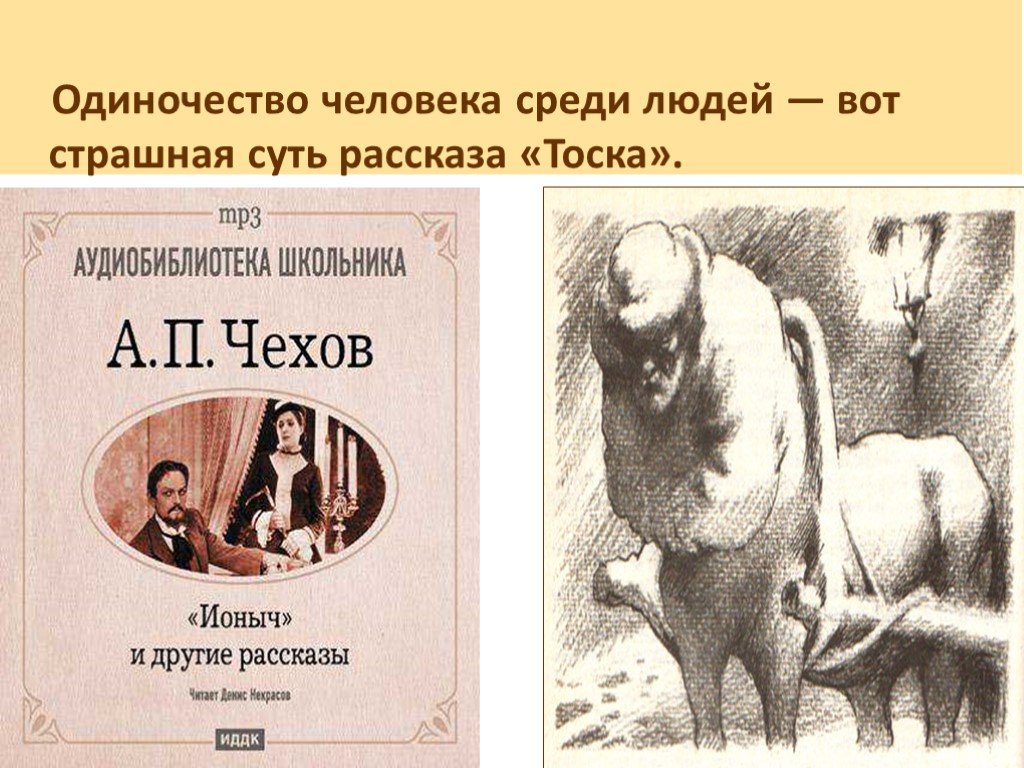 Я боялся (весьма реальной) угрозы физического насилия и боялся потерять всех вокруг меня, если они узнают, что я гей — страх, по сути, настоящего, истинного одиночества. Оба эти страха очень рациональны, и за 16 лет мы коллективно сделали многое для того, чтобы подростки-геи больше не чувствовали страха или одиночества, но это еще не все.
Я боялся (весьма реальной) угрозы физического насилия и боялся потерять всех вокруг меня, если они узнают, что я гей — страх, по сути, настоящего, истинного одиночества. Оба эти страха очень рациональны, и за 16 лет мы коллективно сделали многое для того, чтобы подростки-геи больше не чувствовали страха или одиночества, но это еще не все.
По правде говоря, я не знаю, насколько все было бы по-другому: эти подростковые годы теперь так же далеки, как и та странная, далекая страна, которую я когда-то думал, что никогда не посещу. Я знаю, что быть подростком-геем все еще должно быть тяжело, все еще неизмеримо и болезненно трудно, все еще глубоко одиноко, но я надеюсь, что теперь это легче. Я очень, очень на это надеюсь. Никто не должен проходить через это. Я надеюсь, что молодые ЛГБТ-люди знают, что они могут связаться с такими организациями, как BeLonG To, OutWest и Национальная линия помощи ЛГБТ, которые отлично работают.
Теперь я счастлив. Я живу за границей в либеральном городе, и моя работа нестабильна, но приносит удовлетворение. Я любила мужчин, и мужчины любили меня. Я счастлив, и как далеко чувствуется одиночество, когда ты счастлив. Но если все так хорошо сработало, почему мне кажется, что я так много упустил? Имя с редактором
Я любила мужчин, и мужчины любили меня. Я счастлив, и как далеко чувствуется одиночество, когда ты счастлив. Но если все так хорошо сработало, почему мне кажется, что я так много упустил? Имя с редактором
На этой неделе на страницах Life мы будем исследовать одиночество со всех сторон в нашей серии All The Lonely People. Мы хотим услышать от читателей об их опыте одиночества. Ты одинок? Испытывали ли вы когда-нибудь чувство изоляции? Что помогло вам преодолеть эти чувства?
Присылайте свои рассказы по адресу [email protected]
Мы можем использовать некоторые напечатанные рассказы. Пожалуйста, укажите, предпочитаете ли вы остаться анонимным
Если вас затронули эти проблемы ALONE — это независимая благотворительная организация, которая работает с 1 из 5 пожилых людей, которые являются бездомными, социально изолированными, живущими в лишениях или в кризисе. 01 679 1032 only.ie Jigsaw управляет сетью программ по всей Ирландии, работающих с молодыми людьми в возрасте от 12 до 25 лет.