Образцового гражданина конфуций называл: Глава 7. Конфуцианство, История религий — митрополит Иларион (Алфеев) — читать онлайн и скачать
Наука, Образование : Научная литература: прочее : продолжение 3 : читать онлайн
Выразители экономической мысли древнего мира – крупные мыслители (философы) и отдельные правители рабовладельческих государств – стремились идеализировать и сохранить навсегда рабовладение и натуральное хозяйство.
Доказательства идеологов древнего мира основывались преимущественно на категориях морали, этики, нравственности и были направлены против крупных торгово-ростовщических операций, то есть против свободного функционирования денежного и торгового капитала.
Источники экономической мысли Древнего Востока:
• Вавилон – кодекс царя Хаммурапи;
• Китай – Конфуций, Бодхидхарма или Бато (монастырь Шаолинь), монахи горы «Удан»;
• Индия – трактат «Архашастра».
Свод законов царя Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н. э.) создан около 1760 г. до н. э. Он уделяет особое внимание укреплению власти рабовладельцев над рабами, частной собственности вообще и охране интересов царских служилых людей; дает возможность сделать вывод о весьма значительном развитии товарно-денежных отношений в Вавилонии.
Шаолинь. Суншань Шаолиньсы – монастырь Шаолинь в горах Сун был основан в 19 году эры Тхайхэ в период Северная Вэй (495г) индийским монахом Бато. Торжественное открытие монастыря состоялось 19 числа 2 месяца (~ 31 марта) . Согласно шаолиньской летописи, название монастыря происходит от его географического расположения и буквально означает – монастырь в лесу на горе Шао-ши.
Надо сказать, что за всю историю Китая монастырей с названием Шаолинь было около 10 (включая самый знаменитый Южный Шаолинь), также в силу широкого распространения китайской культуры во всей Юго-восточной Азии существовали аналогичные монастыри в Японии, Корее и Вьетнаме. Но до нынешних дней все же уцелел лишь один, тот самый Северный монастырь Суншань Шаолиньсы. Несмотря на многочисленные пожары, стоит и поныне, вдохновляя массы поклонников. И хотя современная жизнь значительно отличается от того легендарного времени, но и сейчас, как в прошлом, можно встретить людей, порой лишь с одной котомкой за плечами, приходящих в Шаолинь только по одному искреннему движению души.
Монастырь расположен на склоне горы Шаоши. Нижние его ворота представляют собой вход в монастырь с южной стороны (они также имеют название «Горные ворота» – shan men), Северных задних ворот в настоящее время не существует. Склон горы довольно крут, так что внутри монастыря каждый последующий двор расположен значительно выше предыдущего, и т.о. сам монастырь напоминает лестницу. По периметру около 800-900 метров стена, окружающая его высотой 2,5-3 метров, выкрашена в традиционно киноварный (густо-красный) цвет, черепица же крыш по древнему китайскому регламенту покрыта зеленой глазурью.
Конфуций (Кун-цзы) (551 – 479 гг. до н. э.) заложил основы конфуцианства – этико-политического учения, оказывавшего огромное влияние на развитие духовной культуры, политической жизни и общественного строя Китая на протяжении более чем двух тысяч лет. Конфуцианство призывало государей управлять народом не на основе законов и наказаний, а при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения, на основе обычного права, не обременять народ тяжелыми налогами и повинностями.
Индийский трактат «Артхашастра» (буквально – «наука о пользе, о практической жизни») – это собрание наставлений по вопросам управления государством. В трактате описывается идеальное государство с разветвленной полицейской системой и сильной царской властью, для укрепления которой допускаются любые средства. Важнейший источник сведений об общественных отношениях, экономике, политических институтах Древней Индии. Автором трактата считается Каутилья (IV в. до н. э.) – древнеиндийский государственный деятель.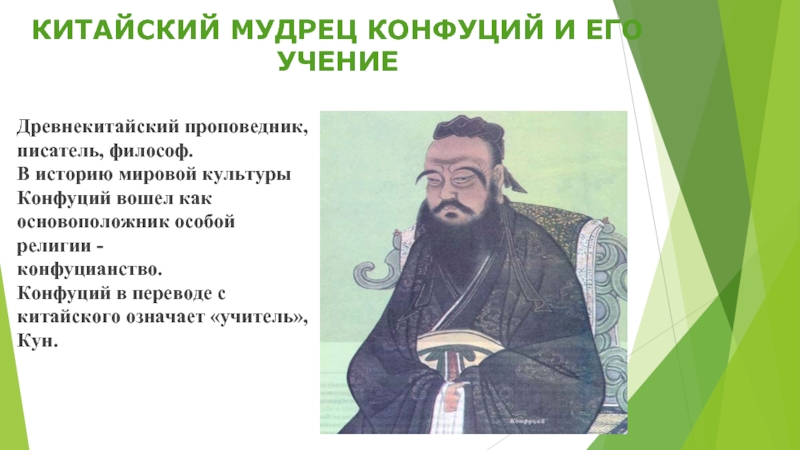
В соответствии с этими источниками для азиатского способа производства характерны:
• чрезмерное регулирование хозяйства посредством регламентации сферы ссудных операций и торговли;
• ведущая роль в экономике отводится собственности государства;
• неприкосновенность частной собственности.
Экономическая мысль Древней Греции связана с именами Ксенофонта, Платона и Аристотеля.
Ксенофонт (430 – 354 гг. до н. э.) в трактате «О домашнем хозяйстве» дал характеристику образцового, с его точки зрения, хозяйства и образцового гражданина. Его труд «О доходах» – попытка найти выход из экономических трудностей Афин. Важнейшие идеи трактата «О домашнем хозяйстве» сводятся к следующему:
• естественным происхождением является разделение труда на умственный и физический, а людей – на свободных и рабов;
• любой товар обладает полезными свойствами (потребительная стоимость) и способен обмениваться на другой товар (меновая стоимость).
Платон (428 – 347 гг. до н. э.) создал теорию идеального общественного устройства и изложил ее в своем труде «Государство». Коренной идеей такого устройства является идея справедливости; каждый занимается тем, к чему более приспособлен. Под справедливостью философ подразумевал так называемую цельную добродетель, объединяющую мудрость, мужество и просветленное (аффектное) состояние и представляющую их равновесие. Платон проповедовал уничтожение частной собственности, общность жен и детей, государственную регулируемость браков, общественное воспитание детей, которые не должны знать своих родителей.
Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) основывал свое экономическое учение на предпосылке, что рабство – явление естественное и всегда должно быть основой производства. Ключевые положения его труда «Политика»:
• обязательным является наличие частной собственности;
• все виды деятельности разделены на две группы: экономию и хрематистику.
Под экономией Аристотель понимал изучение естественных явлений, связанных с производством потребительных стоимостей; к ней же относил мелкую торговлю, необходимую для удовлетворения потребностей людей. Под хрематистикой – изучение противоестественных, с его точки зрения, явлений, связанных с накоплением денег; сюда же причислял и крупную торговлю. В соответствии с этим Аристотель установил два вида богатства: как совокупность потребительских стоимостей и как накопление денег, или как совокупность меновых стоимостей.
Под хрематистикой – изучение противоестественных, с его точки зрения, явлений, связанных с накоплением денег; сюда же причислял и крупную торговлю. В соответствии с этим Аристотель установил два вида богатства: как совокупность потребительских стоимостей и как накопление денег, или как совокупность меновых стоимостей.
Источником первого вида богатства он считал земледелие и ремесло и называл его естественным, поскольку оно возникает в результате производственной деятельности, направлено на удовлетворение потребностей людей и его размеры ограничены этими потребностями. Второй вид богатства Аристотель называл противоестественным, так как оно возникает из обращения, не состоит из предметов непосредственного потребления, и размеры его ничем не ограничиваются. Таким образом, Аристотель одобряет экономическую деятельность и порицает хрематистику;
• деньги выступают в роли соизмерителя при обмене, и поэтому их нельзя ссужать (монета не может рождать монету). Аристотель считал, что деньги стали «всеобщим средством обмена» в результате соглашения;
• человек, по мнению Аристотеля, есть существо, которое не может жить вне общества и государства.
Лекция 2. Зарождение экономической мысли . История экономических учений [Конспект лекций]
Чтение – вот лучшее учение! Книгу ничто не заменит.
Выразители экономической мысли древнего мира – крупные мыслители (философы) и отдельные правители рабовладельческих государств – стремились идеализировать и сохранить навсегда рабовладение и натуральное хозяйство.
Доказательства идеологов древнего мира основывались преимущественно на категориях морали, этики, нравственности и были направлены против крупных торгово-ростовщических операций, то есть против свободного функционирования денежного и торгового капитала.
Источники экономической мысли Древнего Востока:
• Вавилон – кодекс царя Хаммурапи;
• Китай – Конфуций, Бодхидхарма или Бато (монастырь Шаолинь), монахи горы «Удан»;
• Индия – трактат «Архашастра».
Свод законов царя Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н. э.) создан около 1760 г. до н. э. Он уделяет особое внимание укреплению власти рабовладельцев над рабами, частной собственности вообще и охране интересов царских служилых людей; дает возможность сделать вывод о весьма значительном развитии товарно-денежных отношений в Вавилонии.
Шаолинь. Суншань Шаолиньсы – монастырь Шаолинь в горах Сун был основан в 19 году эры Тхайхэ в период Северная Вэй (495г) индийским монахом Бато. Торжественное открытие монастыря состоялось 19 числа 2 месяца (~ 31 марта) . Согласно шаолиньской летописи, название монастыря происходит от его географического расположения и буквально означает – монастырь в лесу на горе Шао-ши.
Надо сказать, что за всю историю Китая монастырей с названием Шаолинь было около 10 (включая самый знаменитый Южный Шаолинь), также в силу широкого распространения китайской культуры во всей Юго-восточной Азии существовали аналогичные монастыри в Японии, Корее и Вьетнаме. Но до нынешних дней все же уцелел лишь один, тот самый Северный монастырь Суншань Шаолиньсы. Несмотря на многочисленные пожары, стоит и поныне, вдохновляя массы поклонников. И хотя современная жизнь значительно отличается от того легендарного времени, но и сейчас, как в прошлом, можно встретить людей, порой лишь с одной котомкой за плечами, приходящих в Шаолинь только по одному искреннему движению души. Шаолинь, кажется, уже невозможно сжечь, возрождаясь каждый раз из пепла, вновь торжествует его вечная идея гармонии духа и тела. И она, как бы уже, независима от того реального места, где расположен сам монастырь (чаньская задача гласит: – Где находится монастырь Шаолинь? – Он находится там, где ты есть). Напоминаем о том, что кунфу в Шаолине есть следствие буддийской практики, а не наоборот.
Но до нынешних дней все же уцелел лишь один, тот самый Северный монастырь Суншань Шаолиньсы. Несмотря на многочисленные пожары, стоит и поныне, вдохновляя массы поклонников. И хотя современная жизнь значительно отличается от того легендарного времени, но и сейчас, как в прошлом, можно встретить людей, порой лишь с одной котомкой за плечами, приходящих в Шаолинь только по одному искреннему движению души. Шаолинь, кажется, уже невозможно сжечь, возрождаясь каждый раз из пепла, вновь торжествует его вечная идея гармонии духа и тела. И она, как бы уже, независима от того реального места, где расположен сам монастырь (чаньская задача гласит: – Где находится монастырь Шаолинь? – Он находится там, где ты есть). Напоминаем о том, что кунфу в Шаолине есть следствие буддийской практики, а не наоборот.
Монастырь расположен на склоне горы Шаоши. Нижние его ворота представляют собой вход в монастырь с южной стороны (они также имеют название «Горные ворота» – shan men), Северных задних ворот в настоящее время не существует. Склон горы довольно крут, так что внутри монастыря каждый последующий двор расположен значительно выше предыдущего, и т.о. сам монастырь напоминает лестницу. По периметру около 800-900 метров стена, окружающая его высотой 2,5-3 метров, выкрашена в традиционно киноварный (густо-красный) цвет, черепица же крыш по древнему китайскому регламенту покрыта зеленой глазурью.
Склон горы довольно крут, так что внутри монастыря каждый последующий двор расположен значительно выше предыдущего, и т.о. сам монастырь напоминает лестницу. По периметру около 800-900 метров стена, окружающая его высотой 2,5-3 метров, выкрашена в традиционно киноварный (густо-красный) цвет, черепица же крыш по древнему китайскому регламенту покрыта зеленой глазурью.
Конфуций (Кун-цзы) (551 – 479 гг. до н. э.) заложил основы конфуцианства – этико-политического учения, оказывавшего огромное влияние на развитие духовной культуры, политической жизни и общественного строя Китая на протяжении более чем двух тысяч лет. Конфуцианство призывало государей управлять народом не на основе законов и наказаний, а при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения, на основе обычного права, не обременять народ тяжелыми налогами и повинностями.
Индийский трактат «Артхашастра» (буквально – «наука о пользе, о практической жизни») – это собрание наставлений по вопросам управления государством. В трактате описывается идеальное государство с разветвленной полицейской системой и сильной царской властью, для укрепления которой допускаются любые средства. Важнейший источник сведений об общественных отношениях, экономике, политических институтах Древней Индии. Автором трактата считается Каутилья (IV в. до н. э.) – древнеиндийский государственный деятель.
В трактате описывается идеальное государство с разветвленной полицейской системой и сильной царской властью, для укрепления которой допускаются любые средства. Важнейший источник сведений об общественных отношениях, экономике, политических институтах Древней Индии. Автором трактата считается Каутилья (IV в. до н. э.) – древнеиндийский государственный деятель.
В соответствии с этими источниками для азиатского способа производства характерны:
• чрезмерное регулирование хозяйства посредством регламентации сферы ссудных операций и торговли;
• ведущая роль в экономике отводится собственности государства;
• неприкосновенность частной собственности.
Экономическая мысль Древней Греции связана с именами Ксенофонта, Платона и Аристотеля.
Ксенофонт (430 – 354 гг. до н. э.) в трактате «О домашнем хозяйстве» дал характеристику образцового, с его точки зрения, хозяйства и образцового гражданина. Его труд «О доходах» – попытка найти выход из экономических трудностей Афин. Важнейшие идеи трактата «О домашнем хозяйстве» сводятся к следующему:
Важнейшие идеи трактата «О домашнем хозяйстве» сводятся к следующему:
• естественным происхождением является разделение труда на умственный и физический, а людей – на свободных и рабов;
• любой товар обладает полезными свойствами (потребительная стоимость) и способен обмениваться на другой товар (меновая стоимость).
Платон (428 – 347 гг. до н. э.) создал теорию идеального общественного устройства и изложил ее в своем труде «Государство». Коренной идеей такого устройства является идея справедливости; каждый занимается тем, к чему более приспособлен. Под справедливостью философ подразумевал так называемую цельную добродетель, объединяющую мудрость, мужество и просветленное (аффектное) состояние и представляющую их равновесие. Платон проповедовал уничтожение частной собственности, общность жен и детей, государственную регулируемость браков, общественное воспитание детей, которые не должны знать своих родителей.
Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) основывал свое экономическое учение на предпосылке, что рабство – явление естественное и всегда должно быть основой производства. Ключевые положения его труда «Политика»:
Ключевые положения его труда «Политика»:
• обязательным является наличие частной собственности;
• все виды деятельности разделены на две группы: экономию и хрематистику.
Под экономией Аристотель понимал изучение естественных явлений, связанных с производством потребительных стоимостей; к ней же относил мелкую торговлю, необходимую для удовлетворения потребностей людей. Под хрематистикой – изучение противоестественных, с его точки зрения, явлений, связанных с накоплением денег; сюда же причислял и крупную торговлю. В соответствии с этим Аристотель установил два вида богатства: как совокупность потребительских стоимостей и как накопление денег, или как совокупность меновых стоимостей.
Источником первого вида богатства он считал земледелие и ремесло и называл его естественным, поскольку оно возникает в результате производственной деятельности, направлено на удовлетворение потребностей людей и его размеры ограничены этими потребностями. Второй вид богатства Аристотель называл противоестественным, так как оно возникает из обращения, не состоит из предметов непосредственного потребления, и размеры его ничем не ограничиваются. Таким образом, Аристотель одобряет экономическую деятельность и порицает хрематистику;
Таким образом, Аристотель одобряет экономическую деятельность и порицает хрематистику;
• деньги выступают в роли соизмерителя при обмене, и поэтому их нельзя ссужать (монета не может рождать монету). Аристотель считал, что деньги стали «всеобщим средством обмена» в результате соглашения;
• человек, по мнению Аристотеля, есть существо, которое не может жить вне общества и государства. Следовательно, государство важнее семьи и отдельной личности. Рассматривая воспитание как средство укрепления государственного строя, философ считал, что школы должны быть только государственными и в них все граждане, исключая рабов, должны получать одинаковое воспитание, приучающее их к государственному порядку.
Теоретическое обоснование конфуцианской политики добродетели: политическая философия Мэн-цзы и Сюньцзы | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews
Конфуцианская политическая теория предлагает нормативное видение современных обществ, основанное на концепциях мыслителей китайской философской традиции, инициированной Конфуцием (551–479 гг.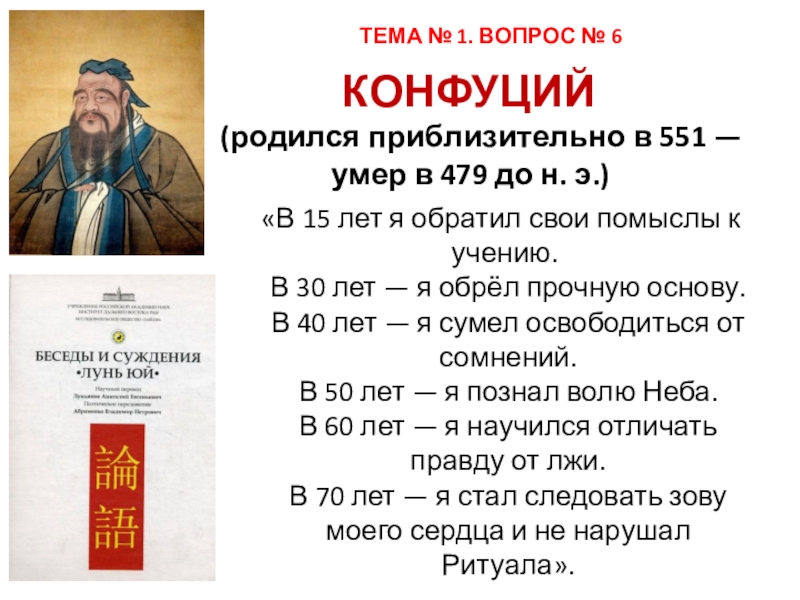 до н. э.). Большая часть недавней работы в этой области мотивирована диалогом с господствующей западной политической теорией с упором на вопросы совместимости конфуцианства с либеральной демократией. Тем не менее, как пишет Сунгмун Ким на первых страницах книги, эти попытки установить диалог имели тенденцию рассматривать общие характеристики классической конфуцианской традиции, уделяя меньше внимания внутренним спорам и разногласиям внутри этой традиции.
до н. э.). Большая часть недавней работы в этой области мотивирована диалогом с господствующей западной политической теорией с упором на вопросы совместимости конфуцианства с либеральной демократией. Тем не менее, как пишет Сунгмун Ким на первых страницах книги, эти попытки установить диалог имели тенденцию рассматривать общие характеристики классической конфуцианской традиции, уделяя меньше внимания внутренним спорам и разногласиям внутри этой традиции.
Книга Кима посвящена реконструкции различных взглядов на конфуцианское управление, найденных у Мэн-цзы (4 век до н.э.) и Сюньцзы (3 век до н.э.). Мэн-цзы известен своим аргументом в пользу того, что человеческая природа хороша, утверждая, что у людей есть четыре ростка, которые при правильном питании могут вырасти в полноценные добродетели: доброжелательность ( ren ), праведность ( yi ), ритуальные приличия. ( ли ) и мудрость ( чжи ). Сюньцзы, которого иногда сравнивают с Гоббсом, утверждает, что человеческая природа плоха, и подчеркивает важность исправления себя с помощью ритуала. Сюньцзы пишет:
Сюньцзы пишет:
Мэн-цзы говорит: у людей хорошая природа. Я говорю: это не так. В любом случае, как в древние времена, так и в настоящее время, то, что все под небом называют добром, это правильность, порядок, мир и контроль. То, что они называют плохим, — это быть ненормальным, опасным, неуправляемым и хаотичным. Это разделение на хорошее и плохое. Теперь он действительно думает, что природа людей изначально правильная, упорядоченная, мирная и управляемая? (Hutton 2014, 252)
Тем не менее, книга Ким сосредоточена не столько на том, что общего у Мэн-цзы и Сюньцзы, сколько на том, что их отличает. В отличие от склонности рассматривать Мэн-цзы как политического идеалиста, а Сюньцзы как реалиста, Ким утверждает, что оба мыслителя обладают «общим политическим реализмом» (14), который чувствителен к динамике власти, присутствующей в политической жизни.
Реализм Мэн-цзы и Сюньцзы, однако, действует в общих моральных рамках. Во введении к книге Ким излагает то, что он называет «парадигмой конфуцианской политики» (5-10), видение управления, изложенное Конфуцием, которое обеспечивает фон, на котором можно понять политические теории Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Он фиксирует эту структуру в четырех предложениях: утверждение о добродетели , в котором говорится, что для того, чтобы вести процветающую жизнь, мы должны развивать такие добродетели, как ren , достигается посредством ежедневной практики ритуала; предложение о политике добродетели , в котором моральный характер правителя рассматривается как основа управления, заботящегося о людях; предложение о нравственном воспитании о том, что конфуцианское государство должно обеспечивать нравственное воспитание людей, чтобы они добровольно подчинялись заботе правителя и подражали ей; и, наконец, положение о материальных условиях , что государство обеспечивает людям средства к существованию.
Он фиксирует эту структуру в четырех предложениях: утверждение о добродетели , в котором говорится, что для того, чтобы вести процветающую жизнь, мы должны развивать такие добродетели, как ren , достигается посредством ежедневной практики ритуала; предложение о политике добродетели , в котором моральный характер правителя рассматривается как основа управления, заботящегося о людях; предложение о нравственном воспитании о том, что конфуцианское государство должно обеспечивать нравственное воспитание людей, чтобы они добровольно подчинялись заботе правителя и подражали ей; и, наконец, положение о материальных условиях , что государство обеспечивает людям средства к существованию.
Первая цель книги Кима состоит в том, чтобы исследовать различные модели конфуцианской политики, сформулированные Мэн-цзы и Сюньцзы, в рамках этой общей добродетели. Во-вторых, показать, как оба мыслителя реагируют на вызов Realpolitik , возникший в период Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.). Как указывает Ким, этот период закончился триумфом Realpolitik в форме строгой философии законников, которая позволила династии Цинь (221-206 гг. до н.э.) объединить множество конкурирующих государств того времени под единым правилом ( 128). Что Мэн-цзы и Сюнь-цзы со своей стороны могут сказать о динамике власти, которая формировала как внутреннюю, так и межгосударственную политическую среду того времени?
до н. э.). Как указывает Ким, этот период закончился триумфом Realpolitik в форме строгой философии законников, которая позволила династии Цинь (221-206 гг. до н.э.) объединить множество конкурирующих государств того времени под единым правилом ( 128). Что Мэн-цзы и Сюнь-цзы со своей стороны могут сказать о динамике власти, которая формировала как внутреннюю, так и межгосударственную политическую среду того времени?
По словам Кима, основной заботой Мэн-цзы и Сюньцзы было сдерживание эгоистичного использования власти правителем (проект, который он называет негативным конфуцианством ), в то же время позволяя использовать власть, обеспечивающую благополучие. бытие народа ( положительное конфуцианство ). Хотя он думает, что Мэн-цзы больше фокусируется на негативном конфуцианстве, а Сюньцзы — на позитивном конфуцианстве, он не считает эти два подхода взаимоисключающими. «На самом деле, — пишет он, — это две стороны одной и той же медали конфуцианской политики добродетели, и они в совокупности порождают интересную политическую динамику, которая одновременно способствует и ограничивает политическую власть правителя» (59). ). Учитывая их контекст в период Воюющих царств, Мэн-цзы и Сюнь-цзы оба признают, что правители вовлечены в борьбу не на жизнь, а на смерть за превосходство, и их различные формы политики добродетели могут многое сказать об отношениях власти как внутри государства, так и внутри государства. вне его.
). Учитывая их контекст в период Воюющих царств, Мэн-цзы и Сюнь-цзы оба признают, что правители вовлечены в борьбу не на жизнь, а на смерть за превосходство, и их различные формы политики добродетели могут многое сказать об отношениях власти как внутри государства, так и внутри государства. вне его.
Аргументы в книге сложны, и я хочу подробно рассмотреть их здесь.
В главе 1 Ким обращается к проблеме мотивации. Как заставить правителя действовать в общественных, а не в личных интересах? Как заставить людей подчиняться? Отвечая на эти вопросы, Ким показывает, что создание общественного мнения является основным соображением, которое проходит через Мэн-цзы и Сюньцзы. В известном диалоге с королем Хуэй из Ляна Мэн-цзы говорит королю, что ему не следует сосредотачиваться на прибыли (9).0005 ли ), а доброжелательность и праведность. Но вместо того, чтобы полагаться на строгую дихотомию между личным интересом и моралью, Ким утверждает, что и Мэн-цзы, и Сюнь-цзы хотят трансформировать стремление к прибыли, чтобы оно работало на общественные интересы и приносило пользу всем в обществе (57). . На самом деле Мэн-цзы выступает против процента только тогда, когда это чисто частный интерес без учета морали или личного блага, и надеется заставить правителя «расширить» свой частный интерес так, чтобы он приносил пользу всем людям (35). Сюньцзы превращает заботу Мэн-цзы о создании общественного интереса в заботу об общественном порядке. Признавая, что вежливость является основой такого порядка, он подчеркивает функцию ритуала для превращения людей в граждан. Люди принимают социальные разделения, которые приходят с ритуалом, из личных интересов, потому что без порядка, обеспечиваемого ритуалом, будет хаос и нищета. Правитель также подчиняется ритуалу из корыстных соображений, так как ритуал повышает его авторитет и способствует долговременному процветанию государства, условия которого позволяют правителям «получить весь мир» (53).
. На самом деле Мэн-цзы выступает против процента только тогда, когда это чисто частный интерес без учета морали или личного блага, и надеется заставить правителя «расширить» свой частный интерес так, чтобы он приносил пользу всем людям (35). Сюньцзы превращает заботу Мэн-цзы о создании общественного интереса в заботу об общественном порядке. Признавая, что вежливость является основой такого порядка, он подчеркивает функцию ритуала для превращения людей в граждан. Люди принимают социальные разделения, которые приходят с ритуалом, из личных интересов, потому что без порядка, обеспечиваемого ритуалом, будет хаос и нищета. Правитель также подчиняется ритуалу из корыстных соображений, так как ритуал повышает его авторитет и способствует долговременному процветанию государства, условия которого позволяют правителям «получить весь мир» (53).
В главе 2 Ким исследует два разных режима политического порядка, которые Мэн-цзы и Сюнь-цзы защищают перед лицом склонности к Realpolitik , которая была заметна в эпоху Воюющих царств. Он называет эти добродетель конституционализм и ритуальный конституционализм соответственно. Согласно традиции, восходящей к Аналектам , моральная добродетель, а не родословная, является основой политической преемственности. В то время как Мэн-цзы поддерживает идеал царя-мудреца, который правит личной добродетелью, он также признает реальность наследственного царствования. В конечном итоге он защищает принцип преемственности, основанный на рекомендации действующего короля, а не на моральной добродетели правителя или одобрении народа. Однако он полагается на министров с хорошим характером, чтобы сдерживать и даже свергать плохих правителей, и считает, что любой человек может подняться до ранга министра. Институционализируя оппозицию между правителем и министрами, теория Мэн-цзы содержит большую дозу реализма (75).
Он называет эти добродетель конституционализм и ритуальный конституционализм соответственно. Согласно традиции, восходящей к Аналектам , моральная добродетель, а не родословная, является основой политической преемственности. В то время как Мэн-цзы поддерживает идеал царя-мудреца, который правит личной добродетелью, он также признает реальность наследственного царствования. В конечном итоге он защищает принцип преемственности, основанный на рекомендации действующего короля, а не на моральной добродетели правителя или одобрении народа. Однако он полагается на министров с хорошим характером, чтобы сдерживать и даже свергать плохих правителей, и считает, что любой человек может подняться до ранга министра. Институционализируя оппозицию между правителем и министрами, теория Мэн-цзы содержит большую дозу реализма (75).
Сюньцзы, со своей стороны, считает, что преемственность конфуцианского политического порядка опирается на ритуальные институты, а не на добродетельных правителей и министров. Государство существует, опираясь на модель ( fa ) древних царей-мудрецов, которые использовали ритуальные традиции, чтобы позволить людям превзойти свою низменную природу и принять участие в нравственной и гражданской жизни. Если правитель нарушает этот порядок, то он должен быть задержан и свергнут следующим по рангу феодалом. В то время как Сюнь-цзы отличается тем, что рассматривает политический порядок как основанный на институциональном порядке, а не на личной добродетели, Ким подчеркивает, что и Мэн-цзы, и Сюнь-цзы, как сторонники конфуцианской политики добродетели, считают, что лучший тип правительства зависит от обоих ритуальных институтов 9.0005 и моральный облик правителя (117).
Государство существует, опираясь на модель ( fa ) древних царей-мудрецов, которые использовали ритуальные традиции, чтобы позволить людям превзойти свою низменную природу и принять участие в нравственной и гражданской жизни. Если правитель нарушает этот порядок, то он должен быть задержан и свергнут следующим по рангу феодалом. В то время как Сюнь-цзы отличается тем, что рассматривает политический порядок как основанный на институциональном порядке, а не на личной добродетели, Ким подчеркивает, что и Мэн-цзы, и Сюнь-цзы, как сторонники конфуцианской политики добродетели, считают, что лучший тип правительства зависит от обоих ритуальных институтов 9.0005 и моральный облик правителя (117).
В главе 3 Ким исследует происхождение гражданского порядка в Мэн-цзы и Сюньцзы. В частности, он исследует, как их различные представления о естественном состоянии приводят к различным представлениям о роли ритуала в политике. Для Мэн-цзы, поскольку люди по своей природе склонны к нравственности, естественное состояние — это просто состояние, в котором люди не полностью «пробуждены» к своей нравственной природе и необходимости ее культивирования. Поскольку мы уже обладаем «уважительным сердцем», особенно по отношению к нашим родителям, у нас есть внутреннее стремление к добродетели ритуальной пристойности, и именно практикуя эту добродетель, мы становимся нравственно хорошими людьми. Таким образом, Мэн-цзы рассматривает черты, которые делают нас хорошими людьми, как основу для тех, которые делают нас хорошими гражданами. Как выразился Ким, «в философской системе Мэн-цзы политика подчинена этике, а гражданская добродетель — моральной добродетели» (101).
Поскольку мы уже обладаем «уважительным сердцем», особенно по отношению к нашим родителям, у нас есть внутреннее стремление к добродетели ритуальной пристойности, и именно практикуя эту добродетель, мы становимся нравственно хорошими людьми. Таким образом, Мэн-цзы рассматривает черты, которые делают нас хорошими людьми, как основу для тех, которые делают нас хорошими гражданами. Как выразился Ким, «в философской системе Мэн-цзы политика подчинена этике, а гражданская добродетель — моральной добродетели» (101).
Для Сюньцзы, в свою очередь, естественное состояние — это состояние беспорядка и конфликта. Он понимает ли как набор ритуальных институтов, разработанных царями-мудрецами для борьбы с хаосом, возникающим в результате безграничности человеческих желаний. В то время как для Мэн-цзы гражданский порядок возникает в результате культивирования нашей врожденной склонности к ритуальным приличиям, для Сюнь-цзы ритуальные институты являются политическим достижением. «Внешне мотивированные, социально необходимые и нацеленные на хороший политический порядок, — как выразился Ким, — ритуальные приличия в сюньцзянском гражданском государстве носят прежде всего гражданский характер» (103). Даже в хорошо организованном государстве Сюнь-цзы считает человеческую необщительность постоянной проблемой, а ритуальные институты сохраняют политический порядок, помогая поддерживать вежливость в социальных взаимодействиях. Его приверженность тому, что Ким называет «конфуцианским принципом вежливости» (109) означает, что конфликты опосредованы убеждением, а не силой.
Даже в хорошо организованном государстве Сюнь-цзы считает человеческую необщительность постоянной проблемой, а ритуальные институты сохраняют политический порядок, помогая поддерживать вежливость в социальных взаимодействиях. Его приверженность тому, что Ким называет «конфуцианским принципом вежливости» (109) означает, что конфликты опосредованы убеждением, а не силой.
Глава 4 пытается пролить свет на теорию негативного конфуцианства Мэн-цзы, рассматривая ее как ответ на Realpolitik . Как Ким уже исследовал в главе 2, Мэн-цзы хочет институционализировать соперничество между правителем и добродетельными министрами. Развивая эту точку зрения в настоящей главе, он утверждает, что Мэн-цзы рассматривает царя и министров как «совершенно разные существа» (130). В то время как идеал царя-мудреца является ключевой частью конфуцианской традиции, ответ Мэн-цзы на жестокую борьбу за власть между правителями Воюющих царств состоит в том, чтобы «разъединить» мудрость и царство. Реализация своих мудрых способностей становится целью каждого простого человека, а самопрославление царя рассматривается как тирания, которую должны ограничивать образованные министры. Добродетельный министр ставится выше короля и получает право критиковать последнего, если тот сбивается с пути. Это право на критику поддерживается ритуалом, и Ким видит в нем изобретение своего рода конфуцианской политической свободы.
Добродетельный министр ставится выше короля и получает право критиковать последнего, если тот сбивается с пути. Это право на критику поддерживается ритуалом, и Ким видит в нем изобретение своего рода конфуцианской политической свободы.
В главе 5 Ким обращается к ответу Мэн-цзы и Сюньцзы на «Путь гегемона» ( бадао ), метод управления государством, который опирается на силу и, таким образом, контрастирует с «Царским путем» ( вангдао ), это идеал конфуцианской политики добродетели. Хотя Мэн-цзы проводит строгую дихотомию между конфуцианским путем и любым другим, он также признает, что Путь Гегемона выше тирании. Сюньцзы развивает эту идею, защищая Путь Гегемона как «разумный способ нравственного управления государством» (157), который контрастирует с Realpolitik , выдвинутая другими философами Воюющих царств. Что делает Путь Гегемона нравственным, так это установление «доверия» ( xin ), фундаментальной конфуцианской добродетели, между правителем и его подданными. В то время как Гегемон полагается на наказание и награду, а не на личную добродетель и нравственное воспитание, его целью является установление мира, безопасности и материального благополучия. Ким утверждает, что защита Сюньцзы Пути Гегемона перекликается с собственными идеями Конфуция, поскольку основатель традиции также признает, что эффективная государственная мудрость не всегда является результатом личной добродетели.
В то время как Гегемон полагается на наказание и награду, а не на личную добродетель и нравственное воспитание, его целью является установление мира, безопасности и материального благополучия. Ким утверждает, что защита Сюньцзы Пути Гегемона перекликается с собственными идеями Конфуция, поскольку основатель традиции также признает, что эффективная государственная мудрость не всегда является результатом личной добродетели.
Наконец, в главе 6 Ким обращается к «глобальному видению» Мэн-цзы и Сюньцзы. Если конфуцианская политика добродетели в конечном счете направлена на создание сообщества, которое охватывает «все под небом» ( tian xia ), то как можно реализовать эту цель в мире, населенном конкурирующими суверенными государствами во главе с амбициозными и жестокими правителями? В ответ Мэн-цзы и Сюньцзы подчеркивают необходимость того, чтобы правители чувствовали ответственность за благо людей, живущих за пределами их собственных границ. Это приводит их к отстаиванию концепции гуманитарного вмешательства, при котором военная сила против другого государства оправдывается, когда ее выдвигают правители с хорошим характером, мотивированные заботой о людях, пострадавших от тирании или иностранной агрессии.
В заключении книги Ким выступает против идеи, которую недавно защищала Лубна Эль Амин, о том, что конфуцианский стандарт успеха в политике зависит от установления порядка и что этот стандарт не зависит от добродетели. Эль Амин утверждает, «что центральным мотивирующим принципом конфуцианской политики является политический порядок, и что правители, способные достичь минимального уровня порядка, одобряются, даже если они не добродетельны» (Эль Амин 2015, 62). Напротив, Ким подчеркивает, что его книга имеет целью показать, как Мэн-цзы и Сюнь-цзы пытаются «найти баланс… между добродетелью и политическим порядком» (216), строго придерживаясь парадигмы конфуцианской политики добродетели.
При чтении этой книги мое внимание было привлечено к аспектам Мэн-цзы и Сюнь-цзы и связям между их идеями, которые я раньше упускал из виду. Ким прекрасно показывает, как, несмотря на их приверженность принципам добродетели, оба мыслителя чувствительны к динамике власти, которая формирует политические структуры вокруг них. Этику добродетели иногда обвиняют в наивности в ее утверждении, что добродетели играют центральную роль в человеческом процветании, и это обвинение становится еще более насущным, когда мы пытаемся распространить соображения добродетели на политическую сферу. Хотя при чтении книги я время от времени испытывал беспокойство по поводу этой линии критики, в основном в связи с обсуждением гуманитарного вмешательства, основанного на добродетели, в главе 6, я обнаружил, что книга в целом успешно показывает, как соображения морали и власти связаны между собой. переплелись в идеях Мэн-цзы и Сюнь-цзы.
Этику добродетели иногда обвиняют в наивности в ее утверждении, что добродетели играют центральную роль в человеческом процветании, и это обвинение становится еще более насущным, когда мы пытаемся распространить соображения добродетели на политическую сферу. Хотя при чтении книги я время от времени испытывал беспокойство по поводу этой линии критики, в основном в связи с обсуждением гуманитарного вмешательства, основанного на добродетели, в главе 6, я обнаружил, что книга в целом успешно показывает, как соображения морали и власти связаны между собой. переплелись в идеях Мэн-цзы и Сюнь-цзы.
Здесь я хочу поднять один вопрос для дальнейшего обсуждения, касающийся этого баланса. Вопрос касается связи между добродетелью правителя и эффективной государственной мудростью. Как отмечалось выше, в главе 5 Ким утверждает, что Конфуций и Сюнь-цзы, в отличие от Мэн-цзы, оба признают «возможное несоответствие между личным моральным характером человека и его великими и благотворными политическими достижениями» (174).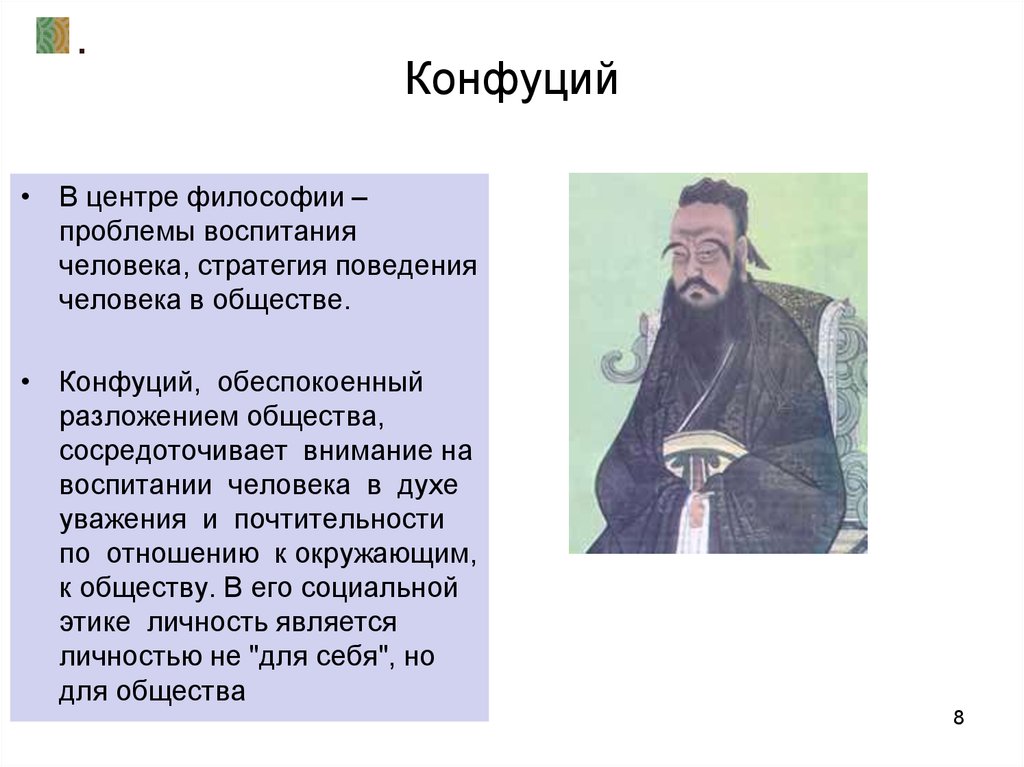 Конфуций, например, восхваляет министра Гуань Чжуна (720–645 гг. до н. э.), который смог добиться прочных политических выгод, но в то же время ему не хватало личной добродетели. Сюнь-цзы, в свою очередь, говорит, что «есть некоторые, кто, хотя добродетель еще не достигла в них совершенства… тем не менее порядок и контроль над всем под Небесами продвигаются под их началом». (175)
Конфуций, например, восхваляет министра Гуань Чжуна (720–645 гг. до н. э.), который смог добиться прочных политических выгод, но в то же время ему не хватало личной добродетели. Сюнь-цзы, в свою очередь, говорит, что «есть некоторые, кто, хотя добродетель еще не достигла в них совершенства… тем не менее порядок и контроль над всем под Небесами продвигаются под их началом». (175)
Чтобы понять смысл этой «практической пропасти» (175) между личной добродетелью и эффективным управлением, Ким проводит различие между сильной добродетелью монизмом и умеренной добродетелью монизмом . Первый, который он приписывает Мэн-цзы, утверждает, что существует полное соответствие между личной добродетелью правителя и его гражданской и политической добродетелью. Последний, который Ким связывает с Конфуцием и Сюнь-цзы, «сплетает личную моральную добродетель и хорошие политические последствия… непрямым образом» (175). Он использует эти термины для уточнения ключевого различия между Мэн-цзы и Сюнь-цзы (19-20), подчеркивая в то же время, что они оба рассматривают личную добродетель правителя как основу хорошего управления, тем самым отличая его точку зрения от взглядов, подобных взглядам Эль-Амина.
Однако можно подумать, по крайней мере на примере Гуань Чжуна, что различие между монизмом сильной добродетели и монизмом умеренной добродетели содержит более широкую степень различия, чем это признает Ким. Хотя он описывает последнюю точку зрения как «переплетение» добродетели и эффективной политики «непрямым способом», в случае с Гуань Чжуном бросается в глаза разрыв между ними. Стиль правления этой фигуры не смешивает политическое с личным; скорее, похвала Конфуция Гуань Чжуну вызывает недоумение именно потому, что последний ограничен в своих моральных качествах. Без дальнейшего обсуждения «непрямого» способа, которым связаны добродетель и государственная мудрость, у меня остались сомнения относительно того, как монизм умеренной добродетели помогает нам понять такие случаи, как Гуань Чжун.
Однако здесь я регистрирую не столько возражение, сколько любопытство узнать больше о взглядах Кима на этот вопрос. Я надеюсь, что эта тщательно аргументированная, контекстуально подобранная и концептуально привлекательная книга приведет к гораздо большему обсуждению того, как мыслители, придерживающиеся традиции конфуцианской политики добродетели, подходят к вопросам власти и личного интереса.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо Дэвиду Эльштейну, Эйрику Лангу Харрису и Акопу Саркисяну за их комментарии к части этого обзора.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Эль Амин, Лубна. 2015. Классическая конфуцианская политическая мысль: новая интерпретация. Принстон: Издательство Принстонского университета.
Эльштейн, Дэвид. 2017. «Классическая конфуцианская политическая мысль: новая интерпретация Лубны Эль Амин» [Обзор]. Философия Востока и Запада 67, вып. 3: 917-919.
Харрис, Эйрик Лэнг. 2016. «Политическая философия Сюньцзы». В Dao Companion to the Philosophy of Xunzi под редакцией Э. Л. Хаттона. Нью-Йорк: Спрингер.
Харрис Эйрик Лэнг. 2019. «Связь политического с этическим: мысли о ранней конфуцианской политической теории». Дао: журнал сравнительной философии 18: 277-283.
Хаттон, Эрик Л., пер. 2014. Сюньцзы: Полный текст . Принстон: Издательство Принстонского университета
Ким, Сунгмун. 2016. Конфуцианство общественного разума: демократический перфекционизм и конституционализм в Восточной Азии , Cambridge University Press.
2016. Конфуцианство общественного разума: демократический перфекционизм и конституционализм в Восточной Азии , Cambridge University Press.
Конфуций Европы, Тиллотсон Китая: Оливер Голдсмит и создание китайской инаковости
Об авторе: Скотт Ли
Скотт Ли — старший преподаватель Пенсильванского университета, специализирующийся на политических науках и английском языке. Его критические литературные интересы включают модернистскую и постмодернистскую американскую литературу, а его более широкие исследовательские интересы включают международную безопасность и современную внешнюю политику Китая на Ближнем Востоке. Скотт планирует поступить в юридическую школу в ближайшем будущем. Его статья была первоначально представлена для класса по Китаю в английском воображении восемнадцатого века.
Скотт Ли | General Essays
Представляя свою собственную эпитафию, написанную китайским писателем, писатель восемнадцатого века Оливер Голдсмит однажды назвал себя «справедливо именуемым Солнцем литературы и Конфуцием Европы» (Spence 73). Каким бы щедрым это ни было обозначение, почему Голдсмит уподоблял себя фигуре Конфуция, несколько неясно. Возможно, это как-то связано с широкой известностью Голдсмита или с его защитой определенных социальных и политических нравов. Более вероятно, что это имя произошло от неглубоких ассоциаций Голдсмита с Востоком через его литературное альтер-эго в Гражданин Мира , Льен Чи Альтанги. Действительно, связь Голдсмита с Китаем в его эпитафии в некотором смысле столь же загадочна, как и собственное отношение персонажа Лянь Чи к Китаю. На историческом фоне растущего взаимодействия Запада с Востоком, Гражданин мира представляет воображаемую историю гражданина Китая, который посещает Англию и записывает свои наблюдения в письмах домой. Голдсмит попеременно характеризует Лиен Чи как метоним «инаковости» конфуцианства, в то же время парадоксально настаивая на том, что Лиен Чи мало чем отличается от англичан по поведению и мышлению. Гражданин , таким образом, представляет в миниатюре европейские дебаты восемнадцатого века о Китае и конфуцианстве как бинарность между экзотическим и знакомым.
Каким бы щедрым это ни было обозначение, почему Голдсмит уподоблял себя фигуре Конфуция, несколько неясно. Возможно, это как-то связано с широкой известностью Голдсмита или с его защитой определенных социальных и политических нравов. Более вероятно, что это имя произошло от неглубоких ассоциаций Голдсмита с Востоком через его литературное альтер-эго в Гражданин Мира , Льен Чи Альтанги. Действительно, связь Голдсмита с Китаем в его эпитафии в некотором смысле столь же загадочна, как и собственное отношение персонажа Лянь Чи к Китаю. На историческом фоне растущего взаимодействия Запада с Востоком, Гражданин мира представляет воображаемую историю гражданина Китая, который посещает Англию и записывает свои наблюдения в письмах домой. Голдсмит попеременно характеризует Лиен Чи как метоним «инаковости» конфуцианства, в то же время парадоксально настаивая на том, что Лиен Чи мало чем отличается от англичан по поведению и мышлению. Гражданин , таким образом, представляет в миниатюре европейские дебаты восемнадцатого века о Китае и конфуцианстве как бинарность между экзотическим и знакомым. В конечном счете, одновременное отождествление Голдсмита с Конфуцием (воплощенным в образах философов Лиен Чи и Фум Хоам) и уподобление его Джону Тиллотсону соответственно высмеивает европейские моральные добродетели и вместо этого способствует чувству умеренности.
В конечном счете, одновременное отождествление Голдсмита с Конфуцием (воплощенным в образах философов Лиен Чи и Фум Хоам) и уподобление его Джону Тиллотсону соответственно высмеивает европейские моральные добродетели и вместо этого способствует чувству умеренности.
Первоначально опубликованные серийно в Public Ledger с 1760 по 1761 год, «письма» Голдсмита были объединены в Citizen of the World в 1762 году после стремительной популярности. Как эпистолярный роман, Гражданин представляет собой серию писем — «писем» Лянь Чи обратно в Китай, содержащих наблюдения за современным английским обществом. Таким образом, Голдсмит ловко формулирует свою критику Англии через призму «другого». Это дает ему определенную степень легитимности, а также безопасность, поскольку создает иллюзию объективного наблюдения со стороны. В целях сравнения Голдсмит материализует это «другое» в китайских конфуцианских ценностях, которые многие современные критики того времени рассматривали как интеллектуальный и моральный противовес западной традиции. В то время европейцы имели довольно расплывчатое определение «конфуцианства» и применяли это прозвище ко всему, от религии, философии и социальной этики до, как выразился сам Голдсмит, «философской системы в области морали и политики». Гражданин 37). Но, как утверждает Лайонел Дженсен в «Производственное конфуцианство» , эти обобщенные описания менее важны, чем та мощная роль, которую Конфуций сыграл как «культовое представление инаковости китайцев» (Дженсен 8). По сути, европейцы воспитали особое уважение к Конфуцию, потому что его доктрины функционировали как связующее звено между Востоком и Западом, что в конечном итоге породило глубокие «европейские дебаты о себе, обществе и священном» (Jensen 9). С этой целью Лянь Чи действует как заместитель Конфуция в течение 9 лет.0005 Гражданин Мира : его роль китайского философа, его смирение и ученость, и даже призывы к великому мудрецу указывают на то, что он погружен в совершенно чуждую интеллектуальную и культурную традицию.
В то время европейцы имели довольно расплывчатое определение «конфуцианства» и применяли это прозвище ко всему, от религии, философии и социальной этики до, как выразился сам Голдсмит, «философской системы в области морали и политики». Гражданин 37). Но, как утверждает Лайонел Дженсен в «Производственное конфуцианство» , эти обобщенные описания менее важны, чем та мощная роль, которую Конфуций сыграл как «культовое представление инаковости китайцев» (Дженсен 8). По сути, европейцы воспитали особое уважение к Конфуцию, потому что его доктрины функционировали как связующее звено между Востоком и Западом, что в конечном итоге породило глубокие «европейские дебаты о себе, обществе и священном» (Jensen 9). С этой целью Лянь Чи действует как заместитель Конфуция в течение 9 лет.0005 Гражданин Мира : его роль китайского философа, его смирение и ученость, и даже призывы к великому мудрецу указывают на то, что он погружен в совершенно чуждую интеллектуальную и культурную традицию.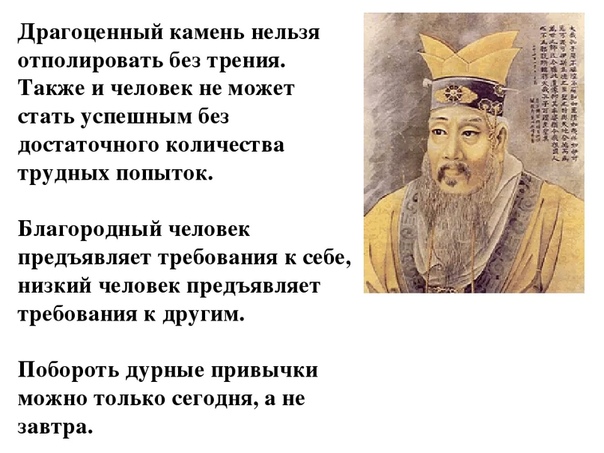 Построение Лиен Ци идентично тому, что Дженсен описывает как «изготовление» Конфуция — оба важны, потому что они «отражают то, как западные люди понимают или хотят понять себя» (Дженсен 4).
Построение Лиен Ци идентично тому, что Дженсен описывает как «изготовление» Конфуция — оба важны, потому что они «отражают то, как западные люди понимают или хотят понять себя» (Дженсен 4).
Роль Чи Льена как символа конфуцианской добродетели бросает тень на западную, и особенно христианскую, мораль. Как отмечает Голдсмит в Письмо VII , Конфуций не придерживался «каких-либо конкретных религиозных убеждений», поскольку он не выводил свою моральную систему из божественности а-ля христианство ( Гражданин 37). И все же китайцы смогли развить «естественную религию — моральные истины о добре и зле, различимые человеческим разумом и без божественного откровения» (Мунгелло 91). Мало того, что конфуцианская мораль возникла из другого источника, конфуцианская этика, казалось, нашла свои моральные истины в другом месте. Как философ, Лянь Чи ведет жизнь аскета, умеренности и смирения, что противоречит европейскому упадку. В письме, чтобы поблагодарить своего друга-торговца в Амстердаме за кров и деньги на дорогу, Лиен Чи может предложить взамен только свою «благодарность и уважение, единственные дани, которые может вернуть бедный философ-скиталец» (Голдсмит, 9). 0005 Гражданин 2). Хотя ему может не хватать мирских благ, он богат духом. Затем он продолжает оправдывать свою бедность: «Ты был воспитан купцом, а я ученым; Следовательно, вы любите деньги больше, чем я. Вы можете находить удовольствие в избытке, я вполне доволен тем, что достаточно» (3). Как представитель китайской добродетели, Лянь Чи сразу же отличает себя от западного материализма, подчеркивая свое смирение и бедность. В лучшем случае его комментарий в адрес торговца — двусмысленный комплимент; в худшем случае это бесспорная критика западной алчности.
0005 Гражданин 2). Хотя ему может не хватать мирских благ, он богат духом. Затем он продолжает оправдывать свою бедность: «Ты был воспитан купцом, а я ученым; Следовательно, вы любите деньги больше, чем я. Вы можете находить удовольствие в избытке, я вполне доволен тем, что достаточно» (3). Как представитель китайской добродетели, Лянь Чи сразу же отличает себя от западного материализма, подчеркивая свое смирение и бедность. В лучшем случае его комментарий в адрес торговца — двусмысленный комплимент; в худшем случае это бесспорная критика западной алчности.
Контраст становится более очевидным, когда Льен Чи комментирует потакание своим слабостям английской материальной культуры. В письме своему наставнику в Китае Фуму Хоаму, «мудрому ученику и последователю Конфуция» (Голдсмит, , гражданин 39), Лянь Чи с удивлением отмечает, как такие отрасли, как «сверлильные станки для носа, мазки для ног, красители для зубов, глазные у выщипывателей бровей… в Китае занято гораздо меньше рук, чем в Англии» (7). Прямое сравнение Голдсмитом материальной культуры Англии с культурой Китая предполагает, что отвращение конфуцианской культуры к упадку помогло ей избежать легкомыслия, от которого страдает английское общество. Голдсмит заходит так далеко, что оскорбляет мужественность английских мужчин и красоту английских женщин. Льен Чи комично замечает, как англичанин «причесал и напудрил… попытки выглядеть ужасно нежными» (8). Между тем англичанка «сама так же любит порох, хвосты и свиное сало, как и он» (8). Автор намеренно смешивает мужчин и женщин, подчеркивая их общую любовь к пудре, намекая на идею о том, что общество, потакающее своим желаниям, производит женоподобных мужчин. Он также связывает оба пола со свиньями через ссылки на хвосты и свиное сало. Эффект этих свиных характеристик заключается в том, чтобы показать свинскую природу английского языка высокая мода .
Прямое сравнение Голдсмитом материальной культуры Англии с культурой Китая предполагает, что отвращение конфуцианской культуры к упадку помогло ей избежать легкомыслия, от которого страдает английское общество. Голдсмит заходит так далеко, что оскорбляет мужественность английских мужчин и красоту английских женщин. Льен Чи комично замечает, как англичанин «причесал и напудрил… попытки выглядеть ужасно нежными» (8). Между тем англичанка «сама так же любит порох, хвосты и свиное сало, как и он» (8). Автор намеренно смешивает мужчин и женщин, подчеркивая их общую любовь к пудре, намекая на идею о том, что общество, потакающее своим желаниям, производит женоподобных мужчин. Он также связывает оба пола со свиньями через ссылки на хвосты и свиное сало. Эффект этих свиных характеристик заключается в том, чтобы показать свинскую природу английского языка высокая мода .
Голдсмит подвергает Европе очередную критику через вторую грань так называемой китайской добродетели: религиозную терпимость. В письме к Лянь Чи, сравнивая историю Китая и Европы, конфуцианский послушник Фум Хоам превозносит Китай как «империю размером с Европу, управляемую одним законом… Ювелир, Гражданин 178). Действительно, он считает, что Китай несравнен в успехе своей культуры и правительства. Напротив, Фум Хоам критикует христианство за то, что оно порождало бесконечную вражду на протяжении всей западной истории. Он цитирует «римлян, распространяющих свою власть на варварские народы, и, в свою очередь… когда они становятся христианами, ведут непрерывные войны с последователями Мухаммеда; или еще ужаснее, уничтожая друг друга» (178). Насилие христианства фаталистично, циклически разрушительно как по отношению к другим религиям, так и по отношению к самому себе.
В письме к Лянь Чи, сравнивая историю Китая и Европы, конфуцианский послушник Фум Хоам превозносит Китай как «империю размером с Европу, управляемую одним законом… Ювелир, Гражданин 178). Действительно, он считает, что Китай несравнен в успехе своей культуры и правительства. Напротив, Фум Хоам критикует христианство за то, что оно порождало бесконечную вражду на протяжении всей западной истории. Он цитирует «римлян, распространяющих свою власть на варварские народы, и, в свою очередь… когда они становятся христианами, ведут непрерывные войны с последователями Мухаммеда; или еще ужаснее, уничтожая друг друга» (178). Насилие христианства фаталистично, циклически разрушительно как по отношению к другим религиям, так и по отношению к самому себе.
Напротив, Фум Хоам утверждает, что в Китае не наблюдается «никаких религиозных преследований, никакой вражды между людьми из-за разногласий» (Goldsmith, Citizen 178). И это несмотря на существование нескольких конкурирующих квазирелигиозных китайских сект, таких как «ученики Лао Кюма, идолопоклоннические сектанты Фохи и философские дети Конфуция, [которые] только стремятся своими действиями показать истинность своих убеждений».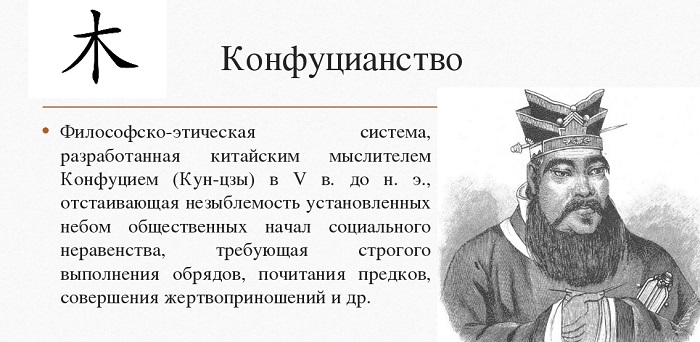 учения» (178). В отличие от Европы, охваченной крестовыми походами и даже внутрихристианскими войнами, составляющие Китай религиозные группы живут в относительной гармонии. Для современных европейских интеллектуалов и синофилов, таких как Вольтер, «мирное сосуществование этих сект предполагает, скорее, похвальный «дух терпимости» и имперское великодушие по отношению к религиозным инакомыслящим, что только подтверждает мудрость и безопасность официального вероучения» (Портер 129).). Таким образом, Голдсмит затронул Китай и религиозную терпимость, укоренившуюся в его моральном кодексе, чтобы подвергнуть критике европейскую воинственность. Замечания Фум Хоама изображают Китай «добродетельным образцом естественной религии и терпимости, в то время как христианство осуждается за порочное сектантство, ограниченность и насилие как гротескное извращение этих китайских идеалов» (Портер 82).
учения» (178). В отличие от Европы, охваченной крестовыми походами и даже внутрихристианскими войнами, составляющие Китай религиозные группы живут в относительной гармонии. Для современных европейских интеллектуалов и синофилов, таких как Вольтер, «мирное сосуществование этих сект предполагает, скорее, похвальный «дух терпимости» и имперское великодушие по отношению к религиозным инакомыслящим, что только подтверждает мудрость и безопасность официального вероучения» (Портер 129).). Таким образом, Голдсмит затронул Китай и религиозную терпимость, укоренившуюся в его моральном кодексе, чтобы подвергнуть критике европейскую воинственность. Замечания Фум Хоама изображают Китай «добродетельным образцом естественной религии и терпимости, в то время как христианство осуждается за порочное сектантство, ограниченность и насилие как гротескное извращение этих китайских идеалов» (Портер 82).
Последний аспект конфуцианской этики, на который обращает внимание Голдсмит, — это сыновняя почтительность; он показывает, как его распространение на правительство и политику предлагает жизнеспособный противовес управлению в западном стиле. Понятие сыновней почтительности, чувства благоговения и почтения к старшим и особенно к отцам рассматривалось как неотъемлемая часть китайской семейной ячейки. Поскольку «все государство можно назвать похожей на одну семью, защитником, отцом и другом которой является Император», правительство, основанное на конфуцианских принципах, должно воспринимать сыновнее послушание как «первое и величайшее требование государства» (Голдсмит). , Гражданин 176). Как сказал бы Фум Хоам, опора Китая на этот столп конфуцианской мысли является ключом к его прочному прошлому и дальнейшему успеху. Эта замечательная преемственность между конфуцианской этикой, обществом и правительством побудила китаефилов, таких как Готфрид Вильгельм Лейбниц, поверить в то, что европейцы «превзошли китайцев в практической философии… в адаптации этики и политики к современной жизни» (Мунгелло 90–91). Лейбниц был лишь одним из многих выдающихся европейских философов, которые смотрели на Конфуция и его мораль как на мерило прогресса Европы.
Понятие сыновней почтительности, чувства благоговения и почтения к старшим и особенно к отцам рассматривалось как неотъемлемая часть китайской семейной ячейки. Поскольку «все государство можно назвать похожей на одну семью, защитником, отцом и другом которой является Император», правительство, основанное на конфуцианских принципах, должно воспринимать сыновнее послушание как «первое и величайшее требование государства» (Голдсмит). , Гражданин 176). Как сказал бы Фум Хоам, опора Китая на этот столп конфуцианской мысли является ключом к его прочному прошлому и дальнейшему успеху. Эта замечательная преемственность между конфуцианской этикой, обществом и правительством побудила китаефилов, таких как Готфрид Вильгельм Лейбниц, поверить в то, что европейцы «превзошли китайцев в практической философии… в адаптации этики и политики к современной жизни» (Мунгелло 90–91). Лейбниц был лишь одним из многих выдающихся европейских философов, которые смотрели на Конфуция и его мораль как на мерило прогресса Европы.
В отличие от этого видения упорядоченного и идеологически единого конфуцианского общества, Голдсмит использует точку зрения аутсайдера Лиен Чи, чтобы охарактеризовать английскую цивилизацию как грубую и хаотичную. В то время как конфуцианское общество пропагандирует жесткую иерархию, характеризующуюся максимальным уважением к императору, «англичанина учат любить своего короля как своего друга» (Goldsmith, Citizen 10). Однако коннотация здесь не совсем положительная: Лянь Чи рассматривает эту английскую норму как форму гордыни, которая «кажется источником не только их национальных пороков, но и их национальных добродетелей» (10). Вместо того, чтобы представлять отношения суверена и подданного как эгалитарные, Голдсмит вместо этого предполагает, что они являются продуктом особого порока среди людей — высокомерия. К удивлению Лянь Чи, английские социальные отношения переворачивают конфуцианскую этику уважения, открывая дверь для «низшего механика» использовать «язык, который может показаться высокомерным даже в устах великого императора, который ведет свою родословную от Луны» (11). ). Это отсутствие вежливости переворачивает конфуцианское уважение и почтение.
). Это отсутствие вежливости переворачивает конфуцианское уважение и почтение.
Исследование Лиен Чи концепции «свободы», формирующей английскую политическую культуру, еще более красноречиво. В Citizen, Letter IV китайский философ подслушивает разговор заключенного в тюрьму должника, солдата и носильщика, обсуждающих угрозу надвигающегося французского вторжения. Узник восклицает: «Больше всего я опасаюсь за нашу свободу; если французы победят, что станет с английской свободой? Мои дорогие друзья, свобода — прерогатива англичанина» (Голдсмит, 9 лет).0005 Гражданин 11). Как посторонний, Лянь Чи развлекается сложившейся ситуацией, поскольку он столкнулся с ироническим зрелищем заключенного в тюрьму человека, провозглашающего французское посягательство на его свободу и свободу. В Англии, замечает Лиен Чи, «можно найти тысячи людей, готовых отдать свою жизнь за [свободу], хотя, возможно, ни один из всего этого числа не понимает ее смысла» (11). Если заключенный прав в том, что свобода является «прерогативой англичанина», то эта сцена дает нам сравнение двух основных ценностей, соответственно лежащих в основе китайского и английского общества: сыновняя почтительность против свободы. В то время как объяснение сыновней почтительности, данное Фум Хоамом, является империалистическим в своей ясности и направленности, свобода остается туманным понятием даже для тех, кто якобы высоко ценит ее.
В то время как объяснение сыновней почтительности, данное Фум Хоамом, является империалистическим в своей ясности и направленности, свобода остается туманным понятием даже для тех, кто якобы высоко ценит ее.
По всему тексту Голдсмит др. Конфуций в форме Лиен Чи; эта искусственная идентичность позволяет Голдсмит-сатирику получить доступ к новому способу оценки и критики европейских норм. В частности, Конфуций предлагает конкурирующий словарь моральных истин в понятиях умеренности и смирения, религиозной терпимости и сыновней почтительности, который либо противоречит своим европейским аналогам, либо, по крайней мере, идентичен им. Интеллектуалы-деисты восемнадцатого века сосредотачивались на этих элементах конфуцианской морали, потому что они были «логически последовательными и приносили практическую пользу человеку и обществу… подтверждая их веру в возможность существования морали без христианства» (Мунгелло 119).). В качестве предостережения, однако, важно отметить, что Голдсмит никогда явно не продвигает конфуцианскую мораль по сравнению с западной моралью — «китайский философ — это просто сатирическое средство, и на этом наш автор останавливается» (Ся 296). Для Голдсмита Конфуций полезен тем, что указывает на недостатки английского общества, но не обязательно служит заменой христианской морали.
Для Голдсмита Конфуций полезен тем, что указывает на недостатки английского общества, но не обязательно служит заменой христианской морали.
Как бы быстро Голдсмит ни экзотизировал Китай и его конфуцианские добродетели, он также создает множество моментов удивительного культурного паритета. В «Предисловии редактора» к Гражданин , Голдсмит лаконично разъясняет свою философию: «Правда в том, что китайцы и мы очень похожи. Различные степени утонченности, а не дистанции, отмечают различия между людьми» (ii). Так чего же добивается автор, играя на обеих сторонах экзотическо-знакомого бинарника? Как поясняется в литературном обзоре 1796 г., работа через «предполагаемого медиума иностранца, чей иной взгляд на вещи, окрашенный особыми идеями и ассоциациями, к которым привык его ум, часто дает прекрасную почву для насмешек» (9).0005 Критический обзор 243). С другой стороны, подчеркивание культурного сходства между Англией и Китаем предостерегает Запад от создания искусственных культурных различий, которые могут и не существовать. В труде Эдварда Саида «Tour de Force» «Ориентализм » ориентализм определяется как «способ упорядоченного (или ориентализированного) письма, видения и изучения, в котором доминируют императивы, точки зрения и идеологические предубеждения, якобы соответствующие Востоку» (Саид 202). Определенно другие персонажи Гражданин Ориентализировать Лянь Чи, группируя его среди других азиатских этнических групп или делая необоснованные предположения о его личности на основании его китайского происхождения. Фактически, его конструкция Голдсмита сама по себе является итерацией ориентализма. Процесс сравнения с Конфуцием, обычная практика среди интеллектуалов восемнадцатого века, также соответствует этим критериям. Тем не менее, во многих случаях в Citizen of the World Конфуций упоминается как эквивалент западной фигуры интеллектуального или религиозного авторитета. Этот процесс ознакомления читателей с Конфуцием является частью заповеди Голдсмита об умеренности, решающим аспектом которой является отвращение к чрезмерной ориентализации.
В труде Эдварда Саида «Tour de Force» «Ориентализм » ориентализм определяется как «способ упорядоченного (или ориентализированного) письма, видения и изучения, в котором доминируют императивы, точки зрения и идеологические предубеждения, якобы соответствующие Востоку» (Саид 202). Определенно другие персонажи Гражданин Ориентализировать Лянь Чи, группируя его среди других азиатских этнических групп или делая необоснованные предположения о его личности на основании его китайского происхождения. Фактически, его конструкция Голдсмита сама по себе является итерацией ориентализма. Процесс сравнения с Конфуцием, обычная практика среди интеллектуалов восемнадцатого века, также соответствует этим критериям. Тем не менее, во многих случаях в Citizen of the World Конфуций упоминается как эквивалент западной фигуры интеллектуального или религиозного авторитета. Этот процесс ознакомления читателей с Конфуцием является частью заповеди Голдсмита об умеренности, решающим аспектом которой является отвращение к чрезмерной ориентализации.
Конфуция часто выгодно сравнивают с классическими западными философами, чтобы подчеркнуть сопоставимые интеллектуальные традиции Китая. В Письме LX, Льен Чи пишет Фум Хоаму и проводит прямое сравнение между двумя интеллектуальными тяжеловесами: «В последующие века Конфуций и Пифагор, кажется, родились почти вместе, и вереница философов возникла тогда как в Греции, так и в Китае. (Голдсмит, Гражданин 278). Китай не только дал эквивалент выдающемуся математику-философу Пифагору, но и оба были примерно современниками, изображая Китай и Запад как интеллектуально идущие друг к другу. Это особенно лестное изображение Конфуция, и оно соответствует европейской фетишизации древней власти. На самом деле, учитывая, что конфуцианские традиции и мудрость насчитывают несколько тысячелетий, эта одержимость древностью во многом подпитывала европейский интерес к Конфуцию. Таким образом, сравнение учений Конфуция с учениями известных западных икон сужает разрыв между Востоком и Западом.
Гости ужина, которых Лиен Чи описывает в Письме XXXII , не желают смотреть сквозь свои предубеждения на высшую истину, которую продвигает Голдсмит. Когда один из английских гостей нелепо вещает Лянь Чи об «истинной восточной идиоме», Лянь Чи обижается и спрашивает человека: «Как, сэр… восточные письмена?» (Голдсмит, Гражданин 138). Здесь мы видим прото-ориенталистскую критику Голдсмита: резкий упрек тому, чье предполагаемое знание другого местоположения «доминирует над императивами, перспективами и идеологическими предубеждениями» [Said 202]. Затем Лянь Чи начинает длинную тираду, уравнивая важные аспекты китайского и английского обществ. Это заявление о культурной эквивалентности элегантно резюмируется его заявлением о том, что «страница нашего Конфуция и вашего Тиллотсона почти не отличаются друг от друга» (Голдсмит, 9).0005 Гражданин 140). Итак, кто такой этот Тиллотсон и что приравнивание Конфуция и этого человека у Голдсмита дает нашему пониманию сатиры автора?
Джон Тиллотсон, архиепископ Кентерберийский с 1691 по 1694 год, прославился своими проповедями, отличавшимися практическими предписаниями нравственности и умеренности. В своем эссе «Эпоха Августа в Англии» Голдсмит высказывает свое мнение об архиепископе: «Его манера письма неподражаема; ибо тот, кто читает его, удивляется, почему он сам так не думал и не говорил» (175). Ясно, что Голдсмит очень уважал архиепископа; следовательно, он очень высоко отзывается о Конфуции, проводя связь между ними. Как и Тиллотсон, Конфуций, как известно, продвигал принцип «золотой середины», в котором подчеркивались сдержанность и умеренность. Голдсмит придерживается этой концепции в Гражданин , Письмо XXXV , где ученик-конфуцианец Хинг По делает поверхностную попытку подтвердить свою добродетель, спрашивая: «Что, я должен в порыве страсти отказаться от золотой середины, универсальной гармонии, неизменной сущности? ” (Голдсмит, Гражданин 151). Хотя концепция «золотой середины» была одним из учений Конфуция, она также занимала центральное место в философии Тиллотсона. Как пишет Луи Локк, «одной из замечательных характеристик мысли архиепископа Тиллотсона является ее умеренность, качество, которое окрашивает почти все его сочинения и, мы можем быть уверены, также и его жизнь» (Локк 68).
В своем эссе «Эпоха Августа в Англии» Голдсмит высказывает свое мнение об архиепископе: «Его манера письма неподражаема; ибо тот, кто читает его, удивляется, почему он сам так не думал и не говорил» (175). Ясно, что Голдсмит очень уважал архиепископа; следовательно, он очень высоко отзывается о Конфуции, проводя связь между ними. Как и Тиллотсон, Конфуций, как известно, продвигал принцип «золотой середины», в котором подчеркивались сдержанность и умеренность. Голдсмит придерживается этой концепции в Гражданин , Письмо XXXV , где ученик-конфуцианец Хинг По делает поверхностную попытку подтвердить свою добродетель, спрашивая: «Что, я должен в порыве страсти отказаться от золотой середины, универсальной гармонии, неизменной сущности? ” (Голдсмит, Гражданин 151). Хотя концепция «золотой середины» была одним из учений Конфуция, она также занимала центральное место в философии Тиллотсона. Как пишет Луи Локк, «одной из замечательных характеристик мысли архиепископа Тиллотсона является ее умеренность, качество, которое окрашивает почти все его сочинения и, мы можем быть уверены, также и его жизнь» (Локк 68). Конечно, это понятие «срединного пути», поддерживаемое обоими мужчинами, находит аналог в «доктрине среднего» Аристотеля. Очевидно, то, как тема умеренности пронизывает как западную, так и китайскую интеллектуальную традицию, указывает на транскультурный аспект конфуцианской мысли.
Конечно, это понятие «срединного пути», поддерживаемое обоими мужчинами, находит аналог в «доктрине среднего» Аристотеля. Очевидно, то, как тема умеренности пронизывает как западную, так и китайскую интеллектуальную традицию, указывает на транскультурный аспект конфуцианской мысли.
В Англии Тиллотсон применил принцип умеренности, используя довольно нетрадиционную технику проповеди христианства — он был готов отклониться от более ортодоксальных англиканских методов в пользу подхода апологета. Это произошло потому, что Тиллотсон подчеркивал, что «великое дело религии — делать людей по-настоящему хорошими и учить их жить хорошо», а не отвечать на эзотерические вопросы теоретической божественности (Локк 103). С этой целью Тиллотсон преуменьшил значение догмы и даже божественности, чтобы продвинуть свою «истинную заботу… о высшей морали христианской жизни» (102). Действительно, Тиллотсон, казалось, меньше интересовался самим христианством, чем его практическими результатами, поскольку, достигая своей цели, «Тиллотсон постоянно обращался к разуму, а не к авторитету» (106). Точно так же под эгидой Фум Хоама Голдсмит называет правительство конфуцианского типа «установленным законами, которые природа и разум продиктовали» (Goldsmith, 9).0005 Гражданин 176). Затем связь между Тиллотсоном и Конфуцием становится более ясной: оба они придавали первостепенное значение нравственности и гармонии внутри граждан, стремясь продвигать эти социальные блага таким образом, в котором доминировали логика, умеренность и «свобода как от фанатизма, так и от суеверий». (Локк 69).
Точно так же под эгидой Фум Хоама Голдсмит называет правительство конфуцианского типа «установленным законами, которые природа и разум продиктовали» (Goldsmith, 9).0005 Гражданин 176). Затем связь между Тиллотсоном и Конфуцием становится более ясной: оба они придавали первостепенное значение нравственности и гармонии внутри граждан, стремясь продвигать эти социальные блага таким образом, в котором доминировали логика, умеренность и «свобода как от фанатизма, так и от суеверий». (Локк 69).
Сходство становится более заметным в сфере политики и управления, а именно, обе оберегают народные восстания против статус-кво. Как архиепископ Кентерберийский, Тиллотсон занимал высшую должность, открытую для подданных короля, оказывая значительное духовное и гражданское влияние на нацию. Подобно Конфуцию, которого Голдсмит изображает сторонником социальной гармонии через сыновнюю почтительность, Тиллотсон верил в важность социального порядка, осуществляемого через правительство, однажды отметив: «Правительство необходимо для благосостояния человечества, потому что это великая группа человеческого общества, охранять его покой. .. без [его] мы были бы в самом жалком положении» (Локк 75). Подобно тому, как Конфуций выдвинул строгую и неподвижную социальную иерархию, «Тиллотсон был непоколебимым сторонником подчинения гражданскому праву и доктрины непротивления властям» (75). Естественно, будучи сторонником стабилизирующей власти правительства, Тиллотсон — по крайней мере вначале — не одобрял революцию, потому что она нарушала естественный общественный порядок. В какой-то степени и Конфуций, и Тиллотсон поощряли население к умеренности или, точнее, к самоуспокоенности.
.. без [его] мы были бы в самом жалком положении» (Локк 75). Подобно тому, как Конфуций выдвинул строгую и неподвижную социальную иерархию, «Тиллотсон был непоколебимым сторонником подчинения гражданскому праву и доктрины непротивления властям» (75). Естественно, будучи сторонником стабилизирующей власти правительства, Тиллотсон — по крайней мере вначале — не одобрял революцию, потому что она нарушала естественный общественный порядок. В какой-то степени и Конфуций, и Тиллотсон поощряли население к умеренности или, точнее, к самоуспокоенности.
Конфуций и Тиллотсон по-своему сыграли заметную роль в знаменитой Английской Славной революции 1688 года. В то время Джон Тиллотсон был деканом Кентерберийского. Верный англиканской доктрине, он призывал людей к пассивному повиновению и против сопротивления правящему королю Якову II. Но вскоре он сделал разворот и поддержал захватчика, Вильгельма Оранского, признав, что «день принадлежит общественному договору, а не божественному праву» (Локк 42). Интересно, что английские интеллектуалы также обращались к Конфуцию во время завершения Славной революции. Истощенный раскольнической и раздробленной гражданской войной,
Интересно, что английские интеллектуалы также обращались к Конфуцию во время завершения Славной революции. Истощенный раскольнической и раздробленной гражданской войной,
Определенные слои английского общества хотели бы рационального примера статус-кво, особенно того, кто так склонен к терпимости. Таким образом, Конфуций и его моральные изречения служили опорой Реставрации, представляя добродетель универсального против бедствия фракционности… предполагаемая эмпирически подтвержденная сплоченность китайской жизни под эгидой Конфуция оказалась вдохновляющей в воображении новых сообществ. (Дженсен 120-121)
Конфуций и Тиллотсон предложили англичанам оптимистичный и гармоничный взгляд на будущее в силу их моральной и политической силы.
Сравнение Конфуция и Тиллотсона, проведенное Голдсмитом, помещает Китай и Англию в одну и ту же систему отсчета, позволяя нам увидеть, что в конечном итоге эти две культуры могут быть не такими разными, как можно было бы предположить на первый взгляд. Перед тем, как покинуть званый обед из Letter XXXII , Лиен Чи злится на то, как гости отвергают его за то, что он «кажется скорее разумным существом, чем диковинным идиотом» (Голдсмит 140). Гости наделяют Лянь Чи набором других характеристик, эффективно превращая его в объект Шинуазри , экзотические изделия из китайского фарфора и шелка, столь популярные среди богатых английских дам 1700-х годов. Как и некоторые из его современников, Голдсмит был «в целом недружелюбен к нынешней моде на «китайский вкус», демонстрируя свое явное отвращение к ориентализации через реакцию Лянь Чи во время этой сцены (Ся 295). Поэтому важно, что сравнение Конфуция и Тиллотсона как одного и того же способствует сатире Голдсмита, подрывая большую часть экзотики, которая обеспечила Конфуцию его огненную популярность. Призыв к этим двум образцам умеренности является попыткой обуздать чрезмерную китайскую манию, обращаясь к синофилам на их собственном интеллектуальном уровне; это как бы говорит о том, что не нужно искать в дальних странах образец добродетели и нравственности у себя дома.
Перед тем, как покинуть званый обед из Letter XXXII , Лиен Чи злится на то, как гости отвергают его за то, что он «кажется скорее разумным существом, чем диковинным идиотом» (Голдсмит 140). Гости наделяют Лянь Чи набором других характеристик, эффективно превращая его в объект Шинуазри , экзотические изделия из китайского фарфора и шелка, столь популярные среди богатых английских дам 1700-х годов. Как и некоторые из его современников, Голдсмит был «в целом недружелюбен к нынешней моде на «китайский вкус», демонстрируя свое явное отвращение к ориентализации через реакцию Лянь Чи во время этой сцены (Ся 295). Поэтому важно, что сравнение Конфуция и Тиллотсона как одного и того же способствует сатире Голдсмита, подрывая большую часть экзотики, которая обеспечила Конфуцию его огненную популярность. Призыв к этим двум образцам умеренности является попыткой обуздать чрезмерную китайскую манию, обращаясь к синофилам на их собственном интеллектуальном уровне; это как бы говорит о том, что не нужно искать в дальних странах образец добродетели и нравственности у себя дома.
Кто-то может возразить, что положительное представление Голдсмитом восточных добродетелей противоречит его конечной цели — пропаганде умеренности и обузданию китаефилии дома. Однако важно отметить, что Голдсмита «интересуют не столько идеи Конфуция, сколько его собственные» (Hsia 294). Игнорируя конфуцианскую мораль, он просто использует ее как фон для европейской добродетели, чтобы указать на недостатки и недостатки Запада — не обязательно для того, чтобы способствовать массовому принятию восточной морали. Экзотический «другой» Конфуция — средство сатиры, в то время как знакомство Конфуция служит для того, чтобы вернуть читателей домой к мыслителям вроде Тиллотсона — окольный, но в конечном счете эффективный прием. Это трансглобальное, универсальное понимание морали находит наиболее сильное подкрепление в Письмо XVIII , когда Фум Хоам говорит Льен Чи: «Конфуций замечает, что долг ученых состоит в том, чтобы теснее объединить общество и убедить людей стать гражданами мира» (Голдсмит, Гражданин 89). В конечном счете, Голдсмит побуждает нас оценивать нашу собственную социальную мораль не с западной или восточной точки зрения, а с объективной и космополитической точки зрения. В конце концов, будь то китаец, англичанин, татарин или француз, все мы граждане мира, имеющие общие потребности и общие желания.
В конечном счете, Голдсмит побуждает нас оценивать нашу собственную социальную мораль не с западной или восточной точки зрения, а с объективной и космополитической точки зрения. В конце концов, будь то китаец, англичанин, татарин или француз, все мы граждане мира, имеющие общие потребности и общие желания.
Голдсмит, Оливер. «Эпоха Августа в Англии». Пчела (1764). Веб.
Голдсмит, Оливер. Гражданин мира или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке. Том. Том 1. Лондон, 1792 г. Коллекции восемнадцатого века в Интернете. Гейл. Библиотека Пенсильванского университета. 15 декабря 2011 г.
Ся, Адриан. Видение Китая в английской литературе семнадцатого и восемнадцатого веков . Гонконг: китайский UP, 1998. Печать.
Дженсен, Лайонел М. Производственное конфуцианство: китайские традиции и универсальная цивилизация . Дарем [ua: Duke Univ., 2003. Печать.
Локк, Луи Г. Тиллотсон: исследование литературы семнадцатого века . Дания: Розенкильде и Баггер, 1954. Печать.
Дания: Розенкильде и Баггер, 1954. Печать.
Мунгелло, Дэвид Э. Великая встреча Китая и Запада: 15:00-18:00 . Лэнхэм: Роуман и Литтлфилд, 2005. Печать.
«Оливер Голдсмит и его китайские письма». Видение Китая в английской литературе семнадцатого и восемнадцатого веков . Гонконг: китайский UP, 1998. 283–99. Распечатать.
Портер, Дэвид. Идеография: китайский шифр в Европе раннего Нового времени . Стэнфорд, Калифорния: Stanford UP, 2001. Печать.
Саид, Эдвард В. Ориентализм . Нью-Йорк: Пантеон, 1978. Печать
Спенс, Джонатан Д. Великий континент Чана: Китай в западном сознании . Нью-Йорк: WW Нортон, 1998. Печать.
Критический обзор , vol. 17 (июль 1796 г.): 241–249
Авторские права на статьи © 2023 первоначальные авторы. Никакая часть содержимого этого
Веб-журнал может воспроизводиться или передаваться в любой форме без разрешения автора или Программы академического письма Университета
Мэриленд.
