Лев толстой о любви: Лев Николаевич Толстой цитаты о любви (16 цитат)
Рассказы о любви. Л.Н. Толстой (Сборник, 2009)
— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.
Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.
Так он сделал и теперь.
— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.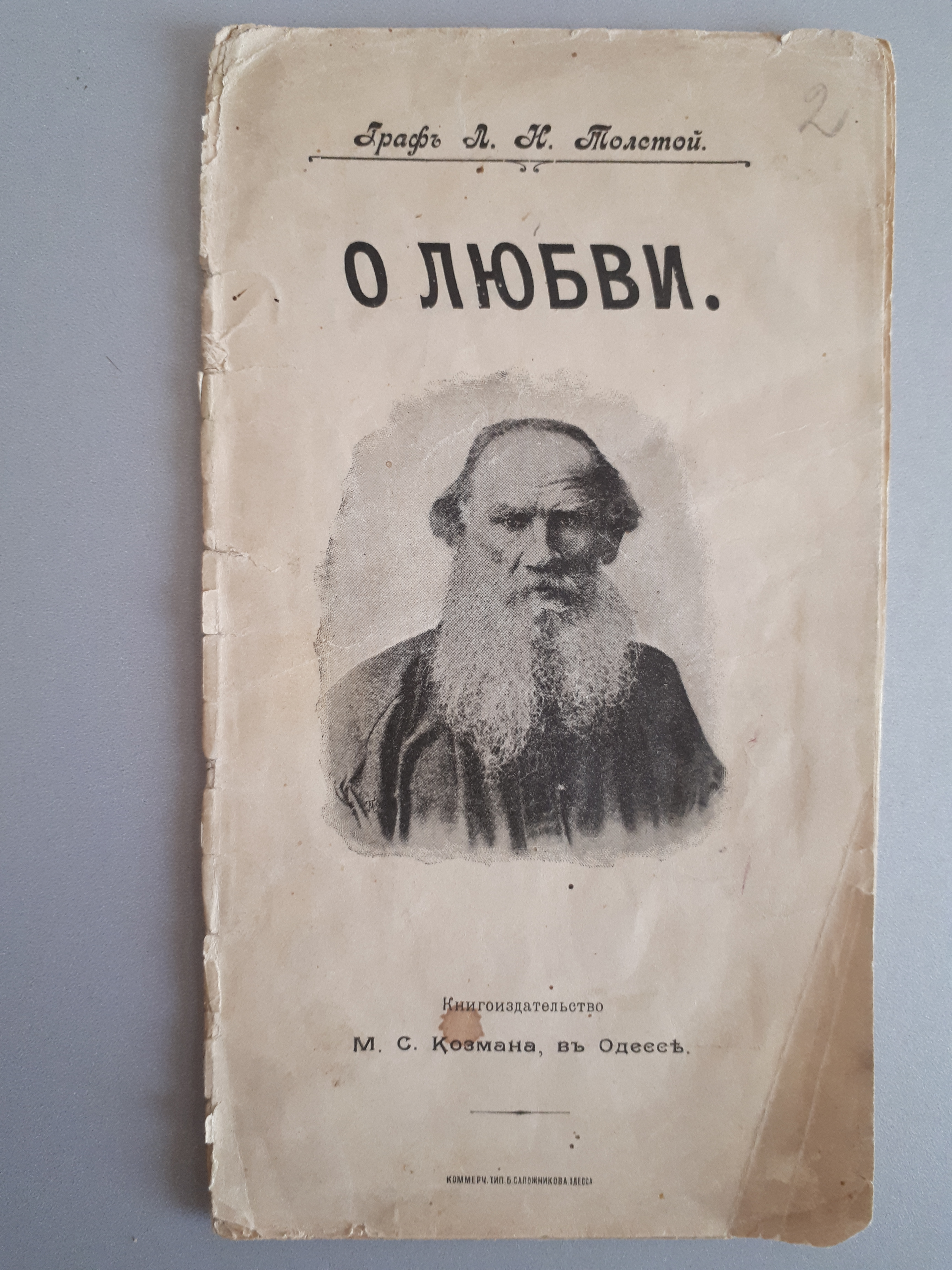
— От чего же? — спросили мы.
— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.
— Вот вы и расскажите.
Иван Васильевич задумался, покачал головой.
— Да, — сказал он. — Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее, утра.
— Да что же было?
— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б…, да, Варенька Б…, — Иван Васильевич назвал фамилию. — Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, далее костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.
— Каково Иван Васильевич расписывает.
— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.
— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.
— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день Масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал.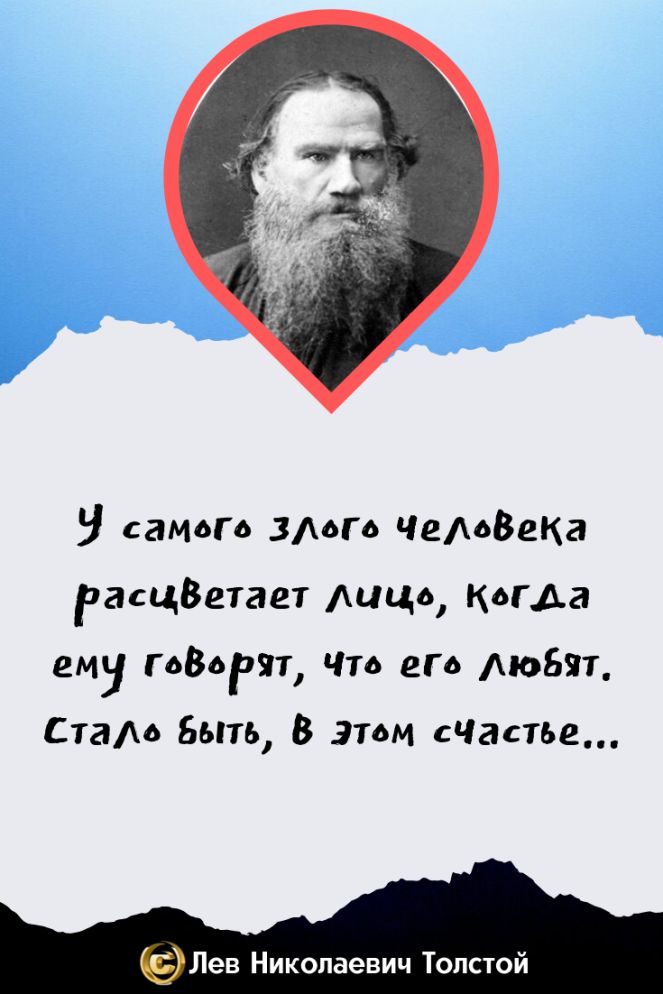
По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore» И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.
И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.
— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, — сказал один из гостей.
Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:
— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr, — хороший был писатель, — на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете…
— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.
— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то.
— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к ее месту.
— Разумеется, если меня не увезут, — сказала она, улыбаясь.
— Я не дам, — сказал я.
— Дайте же веер, — сказала она.
— Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.
— Так вот вам, чтоб вы не жалели, — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.
Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.
— Смотрите, папа просят танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.
— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.
Варенька подошла к двери, и я за ней.
— Уговорите, та chere[2], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику.
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а la Nicolas I[3] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.
Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо все по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.
Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», — думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать.
— Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней, — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.
Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и далее дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.
Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.
После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя далее о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.
Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «Гордость? да?» — и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.
Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.
Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.
С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой.
И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, все было мне особенно мило и значительно.
Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.
Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.
«Что это такое?» — подумал я и по проезженной посередине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», — подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.
— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.
— Татарина гоняют за побег, — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.
Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед, — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.
Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед, — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.
При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.
Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.
— О господи, — проговорил подле меня кузнец.
Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.
— Я тебе помажу, — услыхал я его гневный голос. — Будешь мазать? Будешь?
И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.
— Подать свежих шпицрутенов! — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил.
«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, — думал я про полковника. — Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.
Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.
Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что-то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.
— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, — сказал один из нас. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.
— Ну, это уж совсем глупости, — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.
— Ну, а любовь что? — спросили мы.
— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль.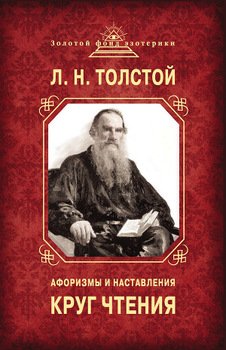 Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите… — закончил он.
Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите… — закончил он.
Ясная Поляна,
20 августа 1903 г.
Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографииИгорь Борисович Мардов
Глава 1
О духовной любви
«Все люди с самых первых детских лет знают, что кроме блага животной личности, есть еще одно, лучшее благо жизни, которое не только независимо от удовлетворения похотей животной личности, но, напротив, бывает тем больше, чем больше отречение от блага животной личности»(26.382).
Благо это — ЛЮБОВЬ.
Животная личность любит свойственной ей любовью. У высшей души своя, истинная любовь. Состояние жизни высшей души, состояние истинной любви возникает тогда, когда человек переносит центр тяжести своей жизни из животной личности в высшую душу.
У высшей души своя, истинная любовь. Состояние жизни высшей души, состояние истинной любви возникает тогда, когда человек переносит центр тяжести своей жизни из животной личности в высшую душу.
«Истинная любовь, прежде чем сделаться деятельным чувством, должна быть известным состоянием. Начало любви, корень ее, не есть порыв чувства, затемняющий разум, как это обыкновенно воображают, но есть самое разумное, светлое и потому спокойное и радостное состояние, свойственное детям и разумным людям. Состояние это есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении и усиливается только по мере отречения от блага личности» (26.390).
Исполнение заповедей любви к Богу и ближнему дает людям жизнь истинную. Услышав это от законника, Иисус «сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай и будешь жить» (Лк.10:28). «Любовь истинная есть самая жизнь»*, — комментирует это место Толстой (26.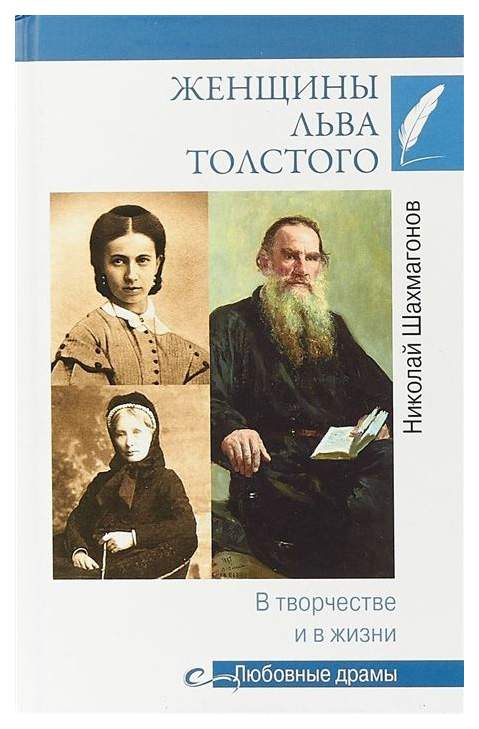 393), во главу угла учения которого поставлено определение истинной жизни как любви.
393), во главу угла учения которого поставлено определение истинной жизни как любви.
«Любовь по учению Христа есть сама жизнь; но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, но жизнь блаженная и бесконечная»(26.393,4), то есть не жизнь животной личности, а жизнь высшей души. Человек знает истинную любовь в себе только тогда, когда полнокровно живет жизнью высшей души.
Любовь есть жизнь не в том смысле, что любовь повышает тонус и полноту жизни или что любовь есть самое важное проявление жизни, и не в том, что любовь есть существенное свойство жизни, и не в том, что любовь есть одно из главнейших переживаний, свойственных жизни, и даже не в том, что сама жизненность адекватно выражается в переживаниях любви, а в том, что чувствовать жизнь в себе, чувствовать себя живущим есть то же самое, что любить, что любовь совпадает с чувством себя живущим и, следовательно, тождественна самой жизненности. Возможно, что понятнее сказать не любовь есть жизнь, а жизнь есть любовь.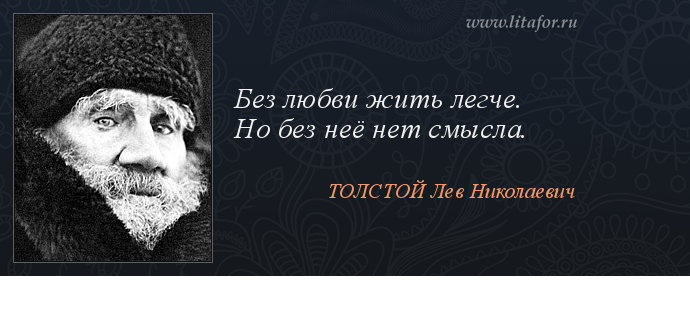
Любовь-добро, любовь-благоволение есть сама жизненность, которой живет высшая душа. Такой любовью любят не за что-нибудь, не для чего-нибудь и не почему-нибудь. «Можно любить всякого человека, — записал Толстой в 1907 году. — Только, чтобы любить так человека, надо любить его не за что-нибудь, а ни за что. Только начни любить так, и найдешь, за что»(56.35). Для такой любви вообще «не нужно предмета», как говорила брату княжна Марья в романе Толстого.
По тому, как люди легко и уверенно произносят слова: «Жизнь есть любовь» или «Любовь есть Бог», можно заключить, что они плохо понимают их. Тождество Любви и Жизни не поддается рациональному осмыслению и вряд ли доступно уму человеческому. Адекватно воспринимать и обсуждать жизнь и любовь, как и другие явления духа, средствами интеллекта всегда очень трудно. Строй интеллекта не соответствует такого рода явлениям. Рассуждениями и доказательствами невозможно свести жизнь к любви или наоборот.[11]
Тождество Любви и Жизни познается личным прозрением, и не другого человека, а только собственным. По прозрению Льва Толстого во внутреннем мире человека существуют две души, два потока жизнененности и, значит, два рода любви. Если философ или психолог говорит, что родов любви пять[12] или двадцать пять (обычное утверждение в наше время), то он должен ясно представлять, что тем самым он утверждает наличие пяти или двадцати пяти пронизывающих потоков жизненности, пяти или двадцати пяти душ в структуре человека, и определить их все.
По прозрению Льва Толстого во внутреннем мире человека существуют две души, два потока жизнененности и, значит, два рода любви. Если философ или психолог говорит, что родов любви пять[12] или двадцать пять (обычное утверждение в наше время), то он должен ясно представлять, что тем самым он утверждает наличие пяти или двадцати пяти пронизывающих потоков жизненности, пяти или двадцати пяти душ в структуре человека, и определить их все.
Божественная высшая душа явлена в нас и определена как своим особым чувством жизни, так и своим особым сознанием жизни. Высшая душа сознает себя живущей, обладает сознанием своей жизни — «разумом»[13] или «разумным сознанием» в терминологии Толстого. И она же чувствует жизнь в себе, обладает чувством своей жизни — любовью-благоволением ко всему. Любовь-благоволение есть та жизненность, которой может жить только высшая душа человека. Как назвать эту жизненность и это чувство жизни высшей души? «Истинным», «подлинным», как называл Толстой в проповеднических целях? Или «христианским», «евангельским»? Я буду пользоваться понятием агапической любви, которое испокон веков бытует в евангельском лексиконе. [14]
[14]
Слово «агапическое» мы будем использовать не только в качестве обозначения определенного типа любви, но и для обозначения соответствующей ей жизни и ее состояния. Мы будем говорить об «агапической жизненности», в поле которой способна обрести себя высшая душа. Мы будем говорить об агапическом чувстве жизни высшей души, которое много раз описывал Толстой. Две дневниковые записи 1907 года:
«Как редко встречаешь и — еще реже — испытываешь истинную любовь — любовь к любви, любовь не только ко всем людям, но ко всему, к Богу»(56.12).
«Как ни с чем не сравнимая, удивительная радость — и я испытываю ее — любить всех, всё, чувствовать в себе эту любовь или, вернее, чувствовать себя этой любовью. Как уничтожается все, что мы по извращенности своей считаем злом, как все, все — становятся близки, свои…[15] Да не надо писать, только испортишь чувство.
Да, великая радость.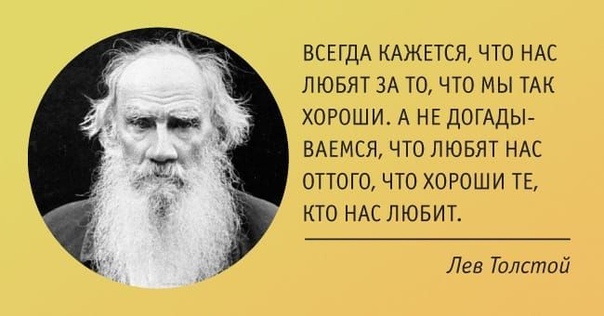 И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожелает ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее… Ах, как бы удержать ее или хоть изредка испытывать ее. И довольно»(56.153–154).
И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожелает ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее… Ах, как бы удержать ее или хоть изредка испытывать ее. И довольно»(56.153–154).
Высшей душой (а не животной личностью) можно любить и отечество (и тогда это не будет национализм, против которого воевал Толстой), и искусство (и тогда возникнет другое искусство, за которое ратовал Толстой), и науку (и тогда это будет иная, чем наша, сегодняшняя, идущая в тупик, наука). Но наиполнейшим и высочайшим проявлением агапической жизненности высшей души и агапического чувства жизни в человеке является любовь к врагу. Любовь к врагу, в этом смысле, маркирует агапическое чувство жизни.
«Если у тебя есть враг, отравляющий твою жизнь, — спрашивает Толстой, — надо ли тебе желать избавиться от него?» И отвечает: «Нет. Если ты сумеешь воспользоваться своим врагом так, чтобы выучиться на нем: прощать, любить врагов, то, что приобретаешь этим, гораздо больше благо, чем то, которое ты бы имел, избавившись от врага. И не только больше; но то было благо временное, а это — вечное, не для одной только этой жизни» (54.108 — 1902 г.).
И не только больше; но то было благо временное, а это — вечное, не для одной только этой жизни» (54.108 — 1902 г.).
Только жизнь высшей души есть, по Толстому, подлинная жизнь, искаженным подобием которой живет животная личность. Поэтому агапическая любовь есть одновременно и корень жизни человека как такового.
«И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18:3). «Словам этим, — замечает Толстой, — так же, как и блуднице, побиваемой камнями, особенно посчастливилось, и бесчисленное количество рассуждений, чувствительных фраз и картин написано на эту тему, но смысл этих много раз повторенных слов остается не только туманным, но совсем непонятным» (24.574–575).[16]
Человек рождается с высшей душой и низшей душой в себе. В младенчестве, когда низшая душа еще не задействована, ярко сияет высшая душа. Потом низшая душа забивает свечение высшей души. Высшая душа есть в ребенке, но еще не способна противостоять низшей душе, не умеет работать в нем так, как низшая душа. В этом смысле можно сказать, что высшая душа введена, но не взведена в человеке, то есть не может совершать ту внутреннюю работу, которую Толстой считал необходимой для исполнения воли Бога и спасения человека от смерти.
Высшая душа есть в ребенке, но еще не способна противостоять низшей душе, не умеет работать в нем так, как низшая душа. В этом смысле можно сказать, что высшая душа введена, но не взведена в человеке, то есть не может совершать ту внутреннюю работу, которую Толстой считал необходимой для исполнения воли Бога и спасения человека от смерти.
Человек рождается на рост и на вырост высшей души в себе.
«Что же значит быть похожими на детей? — спрашивает Толстой. — Быть глупым как дети, этого не мог сказать Иисус, увещевавший людей к разумению. Быть слабым как дети, это ни к чему не нужно. Быть не злобным как дети, это неправда, дети бывают очень злы. Быть готовым на все, любить Бога и ближнего, — дети уже никак не могут, дети — самые эгоистические существа» (24.575).
Прелесть «чистоты» детства для постоянно живущего во внутреннем противостоянии и постоянно «обдумывающего себя» взрослого в том, что малый ребенок еще не способен на продуманные каверзы, обслуживающие нужды уже ставшей самовластной животной личности взрослого человека. В ребенке нет еще того напора «заблуждений плоти», которые составляют жизнь взрослого. Какие-то стороны животной личности ребенка уже раскручиваются в нем, какие-то еще не включены и спят. Но малый ребенок «невинен» — и потому, что без работы высшей души он (в сравнении со взрослым) внутренне бесконфликтен, и потому, что его животная личность не обрела еще полную силу своей вольности, и потому, что он еще не испорчен злом взрослых.
В ребенке нет еще того напора «заблуждений плоти», которые составляют жизнь взрослого. Какие-то стороны животной личности ребенка уже раскручиваются в нем, какие-то еще не включены и спят. Но малый ребенок «невинен» — и потому, что без работы высшей души он (в сравнении со взрослым) внутренне бесконфликтен, и потому, что его животная личность не обрела еще полную силу своей вольности, и потому, что он еще не испорчен злом взрослых.
Всего важнее для Льва Николаевича то, во что верят не познавшие взрослую жизнь дети. Дети же верят, «что жизнь — добро». А «это — и больше ничего — есть учение Иисуса» (24.578).
Дети — естественные носители агапической жизненности и любви.
«Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного, — чтоб всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтоб всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человеков» (26.394).
Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человеков» (26.394).
Это цитата из «О жизни».[17] Через несколько лет Толстой запишет в Дневнике:
«Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее» (52.74).
Естественная агапическая любовь детей и их вера в то, что жизнь — добро, практически выражается в естественном же исполнении ими заповедей Нагорной проповеди.
«1) Не сердиться и прощать обиды, сделать так, чтобы никто не имел гнева на тебя, — дети делают это всегда, никто не сердится на детей.
2) Не блудить — дети не блудят.
3) Не клясться — дети не понимают, что такое клятва.
4) Не судить — они только боятся суда.
5) Не иметь врагов государственных — они и не понимают этого» (24.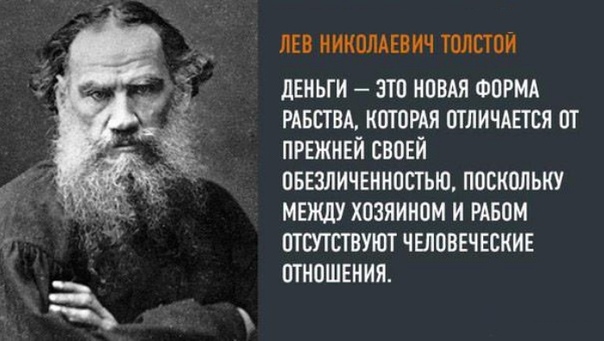 575).
575).
Недруги Толстого говорят, что он свел все евангельское учение к нескольким заповедям Нагорной проповеди. Разумеется, это не так. Нагорная проповедь занимает особое место в учении Толстого потому, что она — сфера прозрений Льва Николаевича о человеке. Нагорная проповедь для Толстого не столько определенное число заповедей сакрального текста, сколько те основные линии, на которые раскладывается жизнь человека. Линии эти Толстой множество раз осмысливал, переосмысливал, доосмысливал. Они составляли конструктивный стержень его проповеди разных лет жизни. Изучать развитие проповеди Толстого — значит изучать перемены смыслов и ударений в трактовке этих неизменных линий жизни. Это, впрочем, в чистом виде научная работа.
В каждой линии жизни расставлены свои соблазны. Через соблазны «зло завязывает нас в плотской погибели. Насколько мы развяжем это зло, настолько мы приобретем жизнь» (24.895). Соблазны сами по себе — ни зло, ни добро, а западни, «через которые зло входит в мир и которых должны бояться люди». Создает и расставляет эти ловушки и западни животная личность в человеке, попадает же в них — сознание его высшей души.
Создает и расставляет эти ловушки и западни животная личность в человеке, попадает же в них — сознание его высшей души.
Живя в агапической жизненности, дети не имеют соблазнов. И, взрослея, они сами не создают их себе. Соблазны им прививают взрослые. «И ни один ребенок не погибает по воле Бога; все погибают только от людей, потому что люди отманивают их от добра», внушая ложные представления. Выбраться из ловушки соблазна, в которую человек введен в раннем возрасте, чрезвычайно трудно. И потому «невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17:2–3). По мнению Толстого, тут говорится не о суровом наказании взрослого за соблазнение ребенка, а о погибели ребенка, которому воспитатель надевает жернов на шею и с ним бросает в глубины взрослой жизни (24.577).
Люди давно жили бы в Воле Бога и были бы счастливы, убежден Лев Николаевич, если бы сами не портили соблазнами своих детей.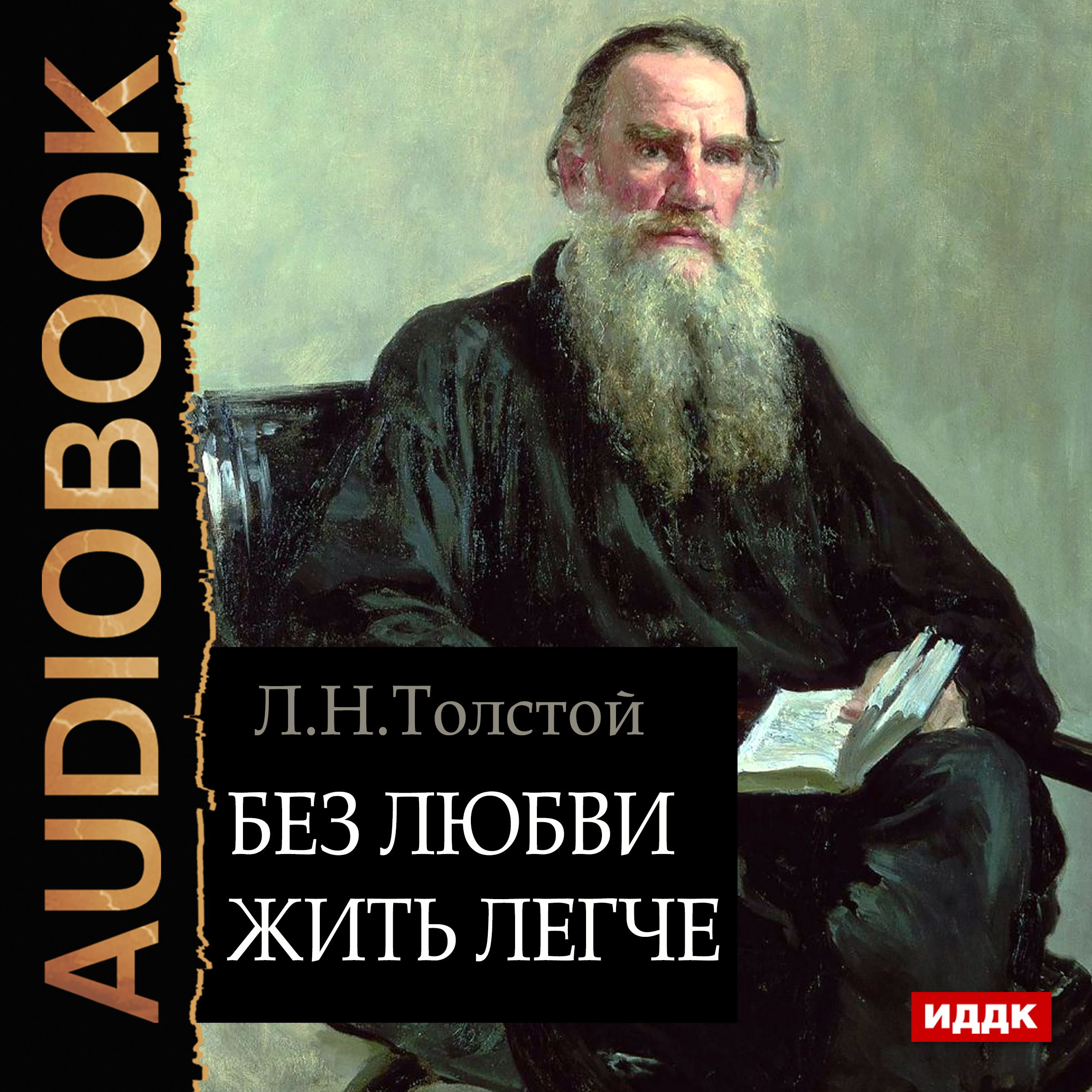 Надо сохранить данное человеку. Спасение мира людей от погибели — в ответственном и правильном воспитании детей, воспитании, направленном на то, чтобы и во взрослом состоянии сохранить исходную натуральную агапичность и несоблазненность, свойственную душе ребенка. Отсюда такое внимание религиозного учителя Толстого к педагогическим проблемам.
Надо сохранить данное человеку. Спасение мира людей от погибели — в ответственном и правильном воспитании детей, воспитании, направленном на то, чтобы и во взрослом состоянии сохранить исходную натуральную агапичность и несоблазненность, свойственную душе ребенка. Отсюда такое внимание религиозного учителя Толстого к педагогическим проблемам.
Разумеется, в полной мере задачу «сохранения» выполнить невозможно. И следовательно, появляется необходимость «восстановления» несохраненного. Кроме того, в задачу жизни человека на земле входит не только сохранение, но и взращивание высшей души в ее агапической жизненности. Взрастить высшую душу в агапической любви также значит восстановить ее.
Греческое слово, которое в тексте Евангелия переводится как «воскресение», в смысле оживления после смерти и повторного земного существования, Толстой везде переводит либо словом «пробуждение», либо словом «восстановление».[18]
В Евангелии: «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения» (Лк. 20:35–36).
И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения» (Лк. 20:35–36).
Перевод Толстого: «Те же, которые сделаются достойными той жизни и восстановления к жизни от смерти, не женятся и замуж не выходят, потому что они и умирать уже не могут, потому что они делаются волей Божией, делаются сынами Бога и сынами восстановления» (24.611).
Восстановленный человек живет агапической жизнью, в которой, разумеется, не женятся и замуж не выходят.
Человек «мертвый», то есть живущей только земной смертной жизнью, обладает своей волей, самоволием животной личности. Человек «живой», то есть живущий истинной, агапической и несмертной жизнью, вместо вольности своей животной личности становит своей волю Бога — и сам делается волей Бога. Впоследствии Толстой пользовался и понятием «воскресения», но всегда понимал его «как пробуждение жизни истинной в жизни плотской и соединение ее с Богом» (24.617).
Иван Ильич в рассказе Толстого «воскрес», стал живым оттого, что пожалел ближних своих. [19] Есть нервическая жалостливость животной личности, и есть жалость-доброта, жалость-милость высшей души. Это последнее чувство жалости — род агапического чувства. Вот как Толстой в 1906 году объяснял, что это такое:
[19] Есть нервическая жалостливость животной личности, и есть жалость-доброта, жалость-милость высшей души. Это последнее чувство жалости — род агапического чувства. Вот как Толстой в 1906 году объяснял, что это такое:
«На народном языке жалеть значит любить. И это верное определение того рода любви, который больше всего связывает людей и вызывает их любовную деятельность. Есть любовь, когда, видя высоту, правду, радость человека — существа, чувствуешь свое единство с ним, желаешь быть им. Это любовь низшего существа к высшему. И есть любовь, и самая нужная — перенесение себя в другого, страдающего человека, сострадание, желание помочь ему. Это: жалеть — любить. Первая любовь может перейти в зависть, вторая может перейти в отвращение. — Первая любовь: любовь к Богу, к святым, к лучшим людям, свойственная человеку, но особенно важно развить в себе вторую и не дать ей извратиться в отвращение. В первой любви мы жалеем, что мы не такие, как те, кто лучше нас, во второй любви мы жалеем, что люди не такие, как мы: мы здоровы, целы, а они больны, калеки. Вот тут надо особенно стараться выработать в себе такое же отношение к духовно больным людям, развращенным, заблуждающимся, гордым (что особенно трудно), как и к больным телесно. Не сердиться на них, не спорить с ними, не осуждать их, а если не можешь помочь, то жалеть их за то, те духовные качества и болезни, которые они несут, не легче, а еще тяжелее телесных» (55.278–279).[20]
Вот тут надо особенно стараться выработать в себе такое же отношение к духовно больным людям, развращенным, заблуждающимся, гордым (что особенно трудно), как и к больным телесно. Не сердиться на них, не спорить с ними, не осуждать их, а если не можешь помочь, то жалеть их за то, те духовные качества и болезни, которые они несут, не легче, а еще тяжелее телесных» (55.278–279).[20]
Евангельский эпизод, по которому женщина в доме Симона разбила драгоценный сосуд и вылила мирро на Иисуса, Толстой комментирует так: «Она отбросила богатство во имя жалости. Она сделала безумное для сынов мира сего дело, для дела света, для жалости. Она в своем поступке соединила оба основания учения Иисуса: отдать все, что у тебя есть, и жалеть и любить ближнего» (24.415).
Повседневно агапическое чувство жизни выражается чувством жалости. По агапическому чувству ближний тот, кого жалеет высшая душа. И это понятно. Верно, что для агапической любви предмет любви не нужен.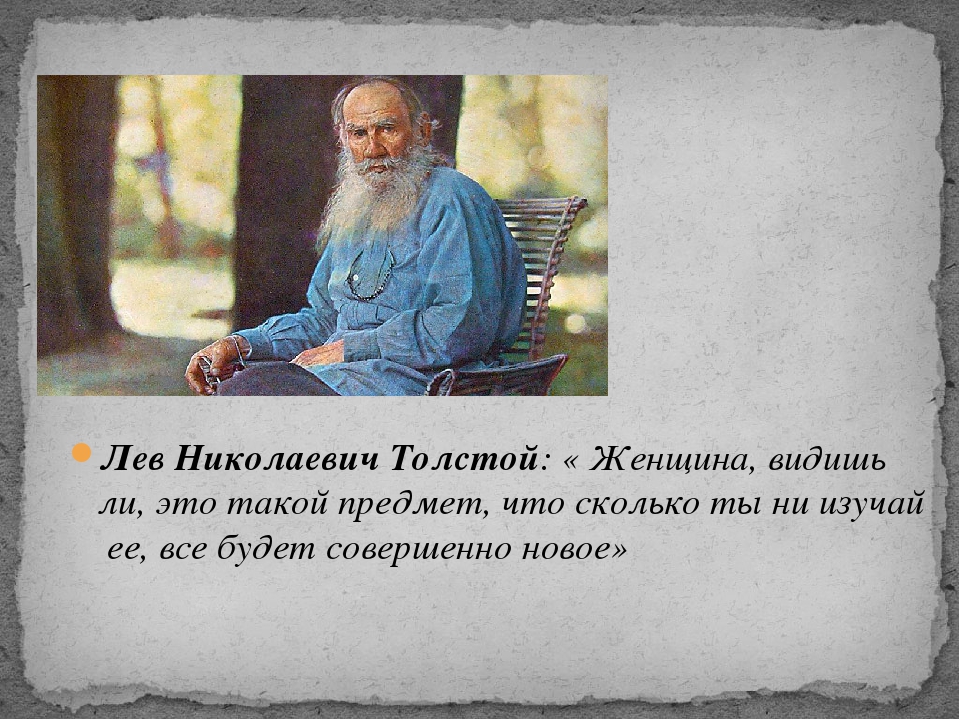 Но так же верно и то, что объект для агапической любви нужен затем, чтобы вызывать в себе самоистекание агапической жизненности. Не отсюда ли христианский культ жалости к убогим, сирым, немощным, нищим, всем тем, через которых легче (свободнее) вызывается в себе поток собственно агапических переживаний?
Но так же верно и то, что объект для агапической любви нужен затем, чтобы вызывать в себе самоистекание агапической жизненности. Не отсюда ли христианский культ жалости к убогим, сирым, немощным, нищим, всем тем, через которых легче (свободнее) вызывается в себе поток собственно агапических переживаний?
Животной личности чувство любви «представляется одним из тех тысяч разнообразных настроений, в которых бывает человек во время своего существования: бывает, что человек щеголяет, бывает, что увлечен наукой или искусством, бывает, что увлечен службой, честолюбием, приобретением, бывает, что он любит кого-нибудь» (26.384).
Любовь животной личности далеко не всегда есть деятельность добра или переживание добра. Это то самое чувство, «по которому отец, мучая себя, отнимает последний кусок хлеба у голодающих людей, чтобы обеспечить своих детей; это то чувство, по которому любящий женщину страдает от этой любви и заставляет ее страдать, соблазняя ее, или из ревности губит себя и ее; то чувство, по которому бывает даже, что человек из любви насильничает женщину; это то чувство, по которому люди одного товарищества наносят вред другим, чтобы отстоять своих; это то чувство, по которому человек мучает сам себя над любимым занятием и этим же занятием причиняет горе и страдания окружающим его людям; это то чувство, по которому люди не могут стерпеть оскорбления любимому отечеству и устилают поля убитыми и ранеными, своими и чужими» (26. 385).
385).
В отличие от агапического чувства, для которого «не нужно предмета», любовь животной личности есть непосредственное чувство предпочтения к кому-то или чему-то, чувство особого пристрастия, которое человек почему-либо начинает испытывать. «Страстность проявления этих предпочтений только показывает энергию животной личности» (26.389).
Но у каждого свои предпочтения и пристрастия, и они заявляют свои требования вполне беспорядочно, а то и все вместе. И потому такие чувства любви в разных людях «должны прийти в столкновение и произвести нечто не благое, а совершенно противное понятию любви» (26.388), «тому понятию, которое мы все невольно соединяем со словом любовь» (26.384), то есть добра и блага.
«Происходит то, что сказано в Евангелии: «Если свет, который в тебе — тьма, то какова же тьма?» Если бы в человеке не было ничего, кроме любви к себе и к своим детям, не было бы и 0,99 того зла, которое есть теперь между людьми. 0,99 зла между людьми происходит от того ложного чувства, которое они, восхваляя его, называют любовью и которое столько же похоже на любовь, сколько жизнь животного похожа на жизнь человека»(26.388). «Величайшее зло миру» приносит «и так восхваляемая любовь к женщине, к детям, к друзьям, не говоря уже о любви к науке, к искусству, к отечеству, которая есть не что иное, как предпочтение на время известных условий животной жизни другим»(26.389).
0,99 зла между людьми происходит от того ложного чувства, которое они, восхваляя его, называют любовью и которое столько же похоже на любовь, сколько жизнь животного похожа на жизнь человека»(26.388). «Величайшее зло миру» приносит «и так восхваляемая любовь к женщине, к детям, к друзьям, не говоря уже о любви к науке, к искусству, к отечеству, которая есть не что иное, как предпочтение на время известных условий животной жизни другим»(26.389).
Такие места писаний Льва Толстого часто вызывают негодование читателей. Негодующий читатель, видимо, не понимает, что Толстой не призывает ликвидировать в себе любовь к детям, друзьям, жене, отечеству, искусству и не стремится к этому. Он говорит о том, что любовь такого рода «это только известные предпочтения одних условий блага своей личности другим. Когда человек, не понимающий своей жизни, говорит, что он любит свою жену или ребенка, или друга, он говорит только то, что присутствие в его жизни его жены, ребенка, друга увеличивает благо его личной жизни» (26. 389).
389).
Любовь животной личности «увеличивает временное благо личности человека» (26.394), не более того. Но определяет ли такая любовь чувство жизни и саму жизненность, в поле которой живет самость человека, его животная личность? На этот вопрос Толстой в разные времена отвечал по-разному. С точки зрения Толстого середины 80-х годов, эта любовь не фикция и не нелюбовь, а «есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не делает добра людям или производит еще большее зло» (26.389). Суровый приговор. Но приговор этот не отрицает того, что любовь-пристрастие так же точно выражает чувство жизни животной личности, как агапическое чувство выражает чувство жизни высшей души. Любовь-пристрастие неоспоримо входит в целостное чувство жизни человека.
Нет высшей души в человеке, не пробуждена она в нем в той степени, чтобы диктовать свои требования человеку, и он живет только чувством жизни любви-пристрастия. Любовь-пристрастие — это то чувство жизни, которым, практически говоря, живут и чувствуют себя живущими почти все люди на земле. И нет признаков того, что жизнь человеческая может протекать без пристрастной любви.
Любовь-пристрастие — это то чувство жизни, которым, практически говоря, живут и чувствуют себя живущими почти все люди на земле. И нет признаков того, что жизнь человеческая может протекать без пристрастной любви.
По представлениям Толстого, агапическое чувство жизни человека «становится возможным только при отречении от блага животной личности».[21] Это значит, что «все соки жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола животной личности. Учение Христа и есть прививка этой любви, как Он и сам сказал это. Он сказал, что Он, Его любовь, есть та одна лоза, которая может приносить плод, и что всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается»(26.389).
Человек «отсекается», если не будет плода, если высшая душа не возьмет верх в нем. Чтобы этого не произошло, в человеке должно проявиться «разумное сознание», выдвигающее высшую душу на передний план. Высшая душа отодвинет благо животной личности и вместо него установит благо любви-благоволения. И все «соки жизни» животной личности должны ассистировать этому процессу. Но — как?
И все «соки жизни» животной личности должны ассистировать этому процессу. Но — как?
У Толстого один ответ: «Любовь есть предпочтение других существ себе — своей животной личности» или их совокупности (26.390). Это не значит, что жить следует для блага других животных личностей. Это не значит и то, что схождение блага животной личности на нет — обязательное условие «прививки лозы». Тут не вычитание, а отношение, дробь:
«Величина любви есть величина дроби, которой числитель, мои пристрастия, симпатии к другим, — не в моей власти; знаменатель же, моя любовь к себе, может быть увеличен или уменьшен мною до бесконечности, по мере того значения, которое я придам своей животной личности. Суждение же нашего мира о любви, о степенях ее — это суждение о величине дроби по одним числителям, без соображения об их знаменателях» (26.391).
«Величина» дроби, которую обозначил Толстой,[22] определяет духовное достоинство текущего состояния жизни человека.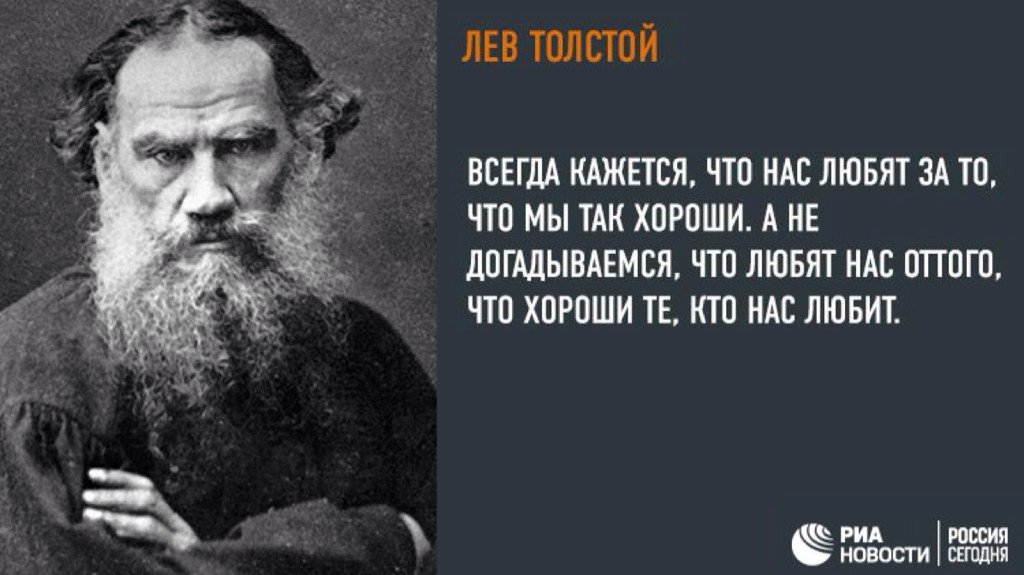 Увеличение значения этой дроби определяет главный показатель внутридушевной жизни человека — показатель его духовного роста. Процессы в животной личности могут служить духовному росту человека и, следовательно, его «спасению» и могут тормозить его, останавливать его духовное восхождение и, следовательно, губить его, «отсекать» его ветвь из жизни.
Увеличение значения этой дроби определяет главный показатель внутридушевной жизни человека — показатель его духовного роста. Процессы в животной личности могут служить духовному росту человека и, следовательно, его «спасению» и могут тормозить его, останавливать его духовное восхождение и, следовательно, губить его, «отсекать» его ветвь из жизни.
Обратите внимание, что и в числителе, и в знаменателе этой дроби — животная личность. Тут вроде бы нет ни разумного сознания, ни любви-добра, ни высшей души. Хотя последняя опосредованно присутствует в знаменателе в качестве силы, уменьшающей любовь к себе животной личности.
«Истинная любовь всегда имеет в основе своей отречение от блага личности и возникающее от того благоволение ко всем людям. Только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям — своим и чужим. И только такая любовь[23] дает истинное благо жизни и разрешает кажущиеся противоречия животного и разумного сознания» (26.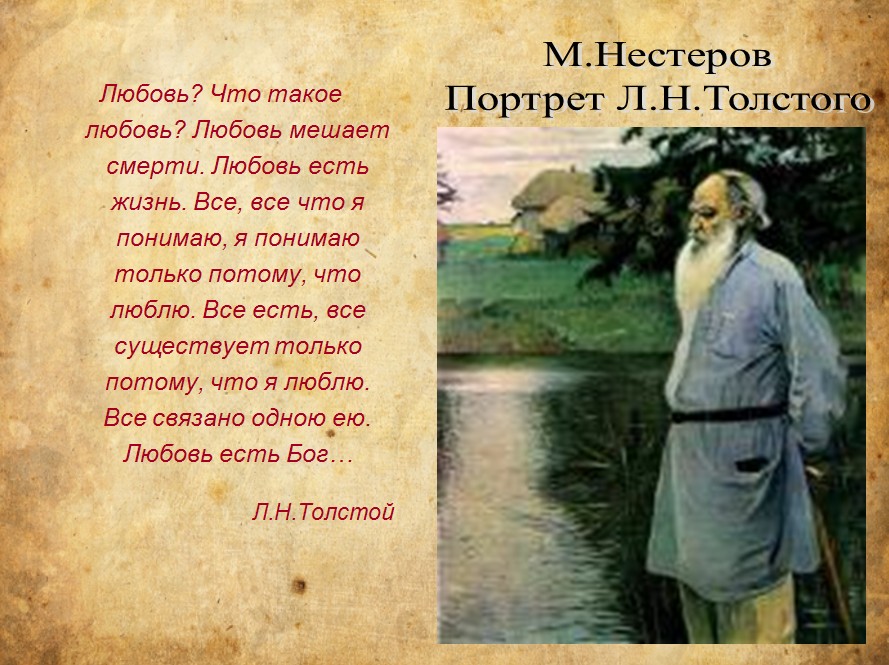 391).
391).
Отсюда:
«Только тот, кто не только понял, но жизнью познал, что «сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее», — только кто понял, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную, только тот познает истинную любовь. «И кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. Если вы любите любящих вас, то это не любовь, а вы любите врагов, любите ненавидящих вас». Не вследствие любви к отцу, к сыну, к жене, к друзьям, к добрым и милым людям, как это обыкновенно думают, люди отрекаются от личности, а только вследствие сознания тщеты существования личности, сознания невозможности ее блага, и потому вследствие отречения от жизни личности познает человек истинную любовь и может истинно любить отца, сына, жену, детей и друзей» (26.390).
Не перестать любить родителей, детей и жену призывает Толстой, а любить иначе — все больше и больше любить их высшей душою и все меньше и меньше животной личностью.
«Высшее благо, совершенство, к которому мы все (и вы, я уверен) стремимся, в том, чтобы любить Бога и Его проявления во всем, особенно же в таких же, как мы, существах, в людях, и любить одинаково, равно всех. В этом идеал страшно далек от всех нас, но все-таки такой, к которому нельзя не стремиться, и мы все стремимся. Любим же мы не только отца, мать, жену, сестру, дочь, детей больше других, но любим, не можем не любить больше исключительно милых, умных, добрых, смиренных, тогда как надо бы наоборот. И на эту — так как дело любви и закон любви — высший закон жизни, — на эту равную любовь ко всем должны бы быть направлены все наши силы» (78.160)
Агапическая любовь — это «любовь не к близким, симпатичным людям (это не любовь), а к ближним ко всем одинаково»(80.209).
«С точки зрения христианина любимое существо есть только одно — Бог сам в себе и тот Бог, который проявляется без исключения во всех людях, и потому исключительно любимого существа для христианина не должно быть. Исключительная любовь есть для христианина та эгоистическая слабость, с которой он должен бороться»(79.91).
Исключительная любовь есть для христианина та эгоистическая слабость, с которой он должен бороться»(79.91).
«Любовь к Богу означает, по моему мнению, любовь к совершенству, любовь любви, так как Бог есть любовь по прекрасному посланию Иоанна (I Ин. 4:16, 20). Можно понимать так, что, любя Божественное в людях (т. е. их высшую душу. — И.М.), ты любишь Бога, можно и так, что, только любя Бога, ты любишь людей. Оба понимания, по моему мнению, правильны»(81.193).
Любовь к Богу и любовь к ближнему — неразрывны.
«Любить, чтобы не каяться потом, надо, как сказал Христос фарисею (Мф. 35, 40), Бога и ближнего. Любить Бога — значит любить совершенство добра и стараться приближаться к нему. Любить ближнего — значит любить всех людей одинаково и своих и чужих, и русских, и японцев, и евреев, а пуще всего, как сказал Христос, любить врагов, обижающих вас» (81.88).
Любовь к ближнему без любви к Богу — невозможна.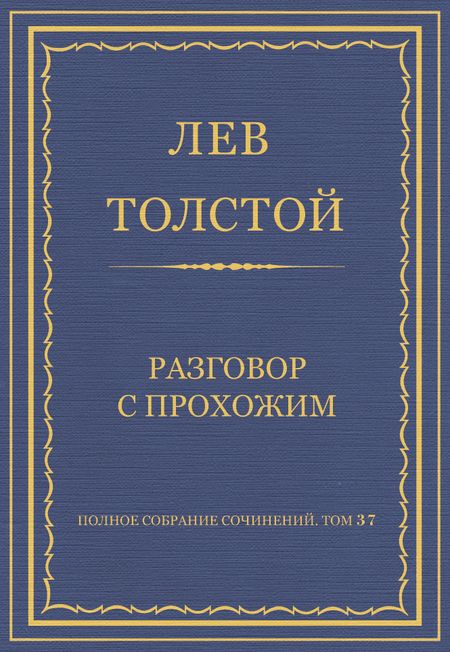
«Единственная возможность разумной, свободной (потому что только проявления любви ничем не могут быть воспрепятствованы) и радостной жизни есть жизнь, целью которой поставлено благо других людей, жизнь, руководимая любовью к ближнему. Человек же, между тем, до такой степени связан своею телесною личностью, что не переставая помнит о себе, страдает, боится за себя, заботится о себе и только временами может заставлять себя помнить, заботиться, страдать за ближнего. Если он иногда и занят деятельностью, имеющей целью благо ближнего, то большей частью делает это для получения одобрения, похвалы от людей, т. е. опять же для себя. Как выйти из этого? В этом тот вопрос, который Вы мне ставите.
Выход есть только один, указанный нам древней мудростью и подтвержденный христианством: прежде, чем любить ближнего, или для того, чтобы любить ближнего, надо любить Бога всем сердцем и всем помышлением. Только через такую любовь к Богу можно любить ближнего. Всякая любовь к ближнему, корень которой не в любви к Богу: любовь к родным, к друзьям, к приятным людям, благодушие ко всем, вызываемое хорошим расположением духа, часто принимаемое за любовь, не есть та любовь, проявление которой дает смысл и радость жизни. «Если любите любящих вас, то делаете то же, что язычники», т. е. не следуете еще христианскому закону любви, корень которой в любви к Богу и которая вследствие этого не ограничивается близкими и людьми, любящими нас, но распространяется на всех, на чуждых нам людей и особенно вследствие препятствия, которое она должна преодолеть, усиливается, направляясь на враждебных нам людей — любовь к ненавидящим нас и к врагам.
Всякая любовь к ближнему, корень которой не в любви к Богу: любовь к родным, к друзьям, к приятным людям, благодушие ко всем, вызываемое хорошим расположением духа, часто принимаемое за любовь, не есть та любовь, проявление которой дает смысл и радость жизни. «Если любите любящих вас, то делаете то же, что язычники», т. е. не следуете еще христианскому закону любви, корень которой в любви к Богу и которая вследствие этого не ограничивается близкими и людьми, любящими нас, но распространяется на всех, на чуждых нам людей и особенно вследствие препятствия, которое она должна преодолеть, усиливается, направляясь на враждебных нам людей — любовь к ненавидящим нас и к врагам.
Только любовь к Богу, т. е. любовь к истине, к добру может если не уничтожить, то преодолеть наш эгоизм и привести нас к настоящей любви к ближнему. И любовь эта возникает не сама собой, а достигается усилием.
Прямо, непосредственно любить ближнего настоящей любовью нельзя так же, как нельзя прямо по телефону передать своей речи соседу, а надо обратиться к центральной станции. Точно так же, чтобы истинно любить ближнего, надо обратиться к Богу и из любви к нему, к истине, к добру сделать усилие для того, чтобы любить ближнего» (74.58–59).
Точно так же, чтобы истинно любить ближнего, надо обратиться к Богу и из любви к нему, к истине, к добру сделать усилие для того, чтобы любить ближнего» (74.58–59).
«Ответить же вам мне хотелось и нужно то, — пишет Толстой в письме 1908 года, — что Вы находитесь, как я думаю, под очень обычным и очень вредным суеверием о том, что влюбленность есть нечто близкое к любви и очень хорошее чувство, тогда как это и дурное и очень вредное, всегда мучительное по своим последствиям чувство. Можно предаваться ему, не признавая никакого религиозно-нравственного закона, но признание законности влюбления и любви как закона жизни несовместимы. Любовь только тогда любовь, когда она самоотверженна, не ищет своего удовольствия» (78.251).
Из письма 1910 года:
«Нельзя соединять внутреннюю, духовную, христианскую деятельность с личными, исключительными привязанностями, особенно привязанностью мужчины к женщине и женщины к мужчине. Такие привязанности всегда переходят в любовь, влюбление, чувство эгоистическое и потому самое противное христианскому идеалу самоотвержения и целомудрия. Такое соединение двух противоположных стремлений приводит всегда к тому, что не только не достигается ни внутреннее совершенствование, ни личное счастье, но является разочарование и в христианском идеале, и возможности личного счастья» (82.114).
Такие привязанности всегда переходят в любовь, влюбление, чувство эгоистическое и потому самое противное христианскому идеалу самоотвержения и целомудрия. Такое соединение двух противоположных стремлений приводит всегда к тому, что не только не достигается ни внутреннее совершенствование, ни личное счастье, но является разочарование и в христианском идеале, и возможности личного счастья» (82.114).
Любовь-влюбление, безусловно, не основана на агапическом чувстве жизни и не выражает движения жизни высшей души человека, не являет ее. В полном согласии с будущим учением Льва Николаевича любовь-влюбление во втором романе Толстого сопровождалась несчастием «близких» людей и закончилась катастрофой. Ну а другая любовь, любовь Анны и Каренина, любовь мужа и жены, которая, как оказалось в роковую минуту, была основана на единении их высших душ? Разве такая любовь не есть любовь к определенному человеку? Разве могла она состояться без некоторого рода предпочтения, без избрания (пусть даже не специального, избрания самой жизнью), сближающего двух людей на уровне их высших душ? Пусть в сцене у постели рожающей Анны действуют уже не люди, а «высшие существа», как говорил Достоевский, но каждый из них имел свое лицо и обращался к другому, тоже имеющему определенное и любимое лицо. И Анна, и Каренин, и даже Вронский в минуту эту жили на духовных вершинах своей жизни, жили жизнью своих высших душ. Проявившаеся в них любовь была любовь высшей души, и вместе с тем это была, несомненно, избирательная любовь, исходившая от определенной личности и направленная к определенным личностям. То была избирательная любовь высших душ.
И Анна, и Каренин, и даже Вронский в минуту эту жили на духовных вершинах своей жизни, жили жизнью своих высших душ. Проявившаеся в них любовь была любовь высшей души, и вместе с тем это была, несомненно, избирательная любовь, исходившая от определенной личности и направленная к определенным личностям. То была избирательная любовь высших душ.
Толстой не утверждает, что истинная любовь — это непременно беспредметная или безличностная любовь. Он говорит, что она должна быть основана не на чувстве жизни животной личности, а на агапическом чувстве жизни. И «только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям — своим и чужим». Хотя, конечно, это все же не любовь к людям, специально избранным для любви. Нельзя сказать, что Толстой окончательно отвергает такую любовь. Как это и ни покажется странным, он не верит в возможность ее осуществления в реалиях земной жизни человека.
«Только если бы люди были боги, как мы воображаем их, только тогда они бы могли любить одних избранных людей; тогда бы только и предпочтение одних другим могло быть истинной любовью. Но люди не боги, а находятся в тех условиях существования, при которых все живые существа всегда живут одни другими, пожирая одни других, и в прямом и в переносном смысле; и человек, как разумное существо, должен знать и видеть это» (26.386). И далее: «В той давке и борьбе животных интересов, которые составляют жизнь мира, человеку невозможно любить избранных, как это воображают люди, не понимающие жизни» (26.387).
Но люди не боги, а находятся в тех условиях существования, при которых все живые существа всегда живут одни другими, пожирая одни других, и в прямом и в переносном смысле; и человек, как разумное существо, должен знать и видеть это» (26.386). И далее: «В той давке и борьбе животных интересов, которые составляют жизнь мира, человеку невозможно любить избранных, как это воображают люди, не понимающие жизни» (26.387).
Учение Толстого в немалой степени выросло из ужаса перед жизнью людей, ужас этот преодолен им, но он не исчез совсем и продолжает определять жизневоззрение Льва Николаевича. Да ведь и свитость высших душ супругов Карениных объявила о себе на краткое время и как-никак оказалась нежизнеспособной. Так что ж: «высшие существа» в центральной сцене «Анны Карениной» — не более чем плод творческого воображения, не имеющего отношения к процессам в реальной жизни? Такой приговор столь суров, что способен выбить почву из-под ног любого, кто проникся величием происходившего у изголовья умирающей Анны. А как быть с Левиным и Кити, чья глубинная супружеская любовь противопоставлена любви Анны и Вронского и созвучна тем духовным процессам, которые незримо свершились в душах Анны и Каренина, и громко заявила о себе на пороге ее несостоявшейся смерти? И это — воображение, не реальная жизнь? Что ж тогда остается от той «мысли семейной», ради которой и написан роман Льва Толстого?
А как быть с Левиным и Кити, чья глубинная супружеская любовь противопоставлена любви Анны и Вронского и созвучна тем духовным процессам, которые незримо свершились в душах Анны и Каренина, и громко заявила о себе на пороге ее несостоявшейся смерти? И это — воображение, не реальная жизнь? Что ж тогда остается от той «мысли семейной», ради которой и написан роман Льва Толстого?
Пока человек «не поймет жизни и не изменит свое отношение к ней», учил Лев Николаевич, он ничего подлинного в жизни сделать не сможет. «Если бы даже человек, не понимающий жизни, и захотел искренне отдаться деятельности любви, он не будет в состоянии этого сделать…» (26.391) Хотя бы только потому, что перед ним непременно станут «совершенно неразрешимые» вопросы — «во имя какой любви и как действовать?» (26.386).
Для человека, не понимающего жизни, считает Толстой, нет ответа на вопрос законника Христу: «Кто ближний?» То есть: кого любить надо, а кого не надо? Все люди суть создания одного Бога, так что ближний, теоретически говоря, — это человек вообще, ближний по Единому Богу; практически же ближний тот, кто одной с тобой Веры, кто ближний по Вере и Общей душе. На вопрос о ближнем Иисус отвечает притчей о человеке, попавшем в беду и истекающем кровью на дороге; евреи шли, прошли мимо, только самарянин, то есть безусловно «дальний» для иудея, помог ему. И оказался ближним. И поэтому не надо думать, что ближний — это всегда собрат по вере и крови… Смысл притчи, по толстовскому комментарию, в том, что «рассуждение о том, кто мой ближний, — ловушка, отманивающая от истины, и чтобы не попасть в нее, надо не рассуждать, а делать» (24.606).
На вопрос о ближнем Иисус отвечает притчей о человеке, попавшем в беду и истекающем кровью на дороге; евреи шли, прошли мимо, только самарянин, то есть безусловно «дальний» для иудея, помог ему. И оказался ближним. И поэтому не надо думать, что ближний — это всегда собрат по вере и крови… Смысл притчи, по толстовскому комментарию, в том, что «рассуждение о том, кто мой ближний, — ловушка, отманивающая от истины, и чтобы не попасть в нее, надо не рассуждать, а делать» (24.606).
Для понявшего жизнь человека вопрос «кто ближний?» — соблазн. Вопрос не в том, кого надо и кого не надо любить, а какой любовью любить. Любовь есть жизнь, и какой любовью любишь, такова и жизнь в тебе. Свойственная животной личности пристрастная любовь не подлинная жизнь. Свойственная высшей душе любовь-благоволение, основанная на агапическом чувстве жизни, — жизнь истинная. Истинная любовь — это «то стремление к благу того, что вне человека, которое остается в человеке после отречения от блага животной личности» (26. 394). После отречения от блага животной личности остается благо высшей души, благо того, «что есть Бог в тебе». Практически это означает, что истинная любовь — это та любовь, которая образует единство людей на уровне их высших душ. Это может быть как единство двух людей, так и духовное единство неопределенного множества людей.
394). После отречения от блага животной личности остается благо высшей души, благо того, «что есть Бог в тебе». Практически это означает, что истинная любовь — это та любовь, которая образует единство людей на уровне их высших душ. Это может быть как единство двух людей, так и духовное единство неопределенного множества людей.
В отношении заповеди любви к ближнему возникают три взаимосвязанных, но отдельных вопроса: Какой любовью любить? Что значит любить «как себя»? Кто ближний?
Вопрос «Кто ближний?» задан в Евангелии при обсуждении закона любви к ближнему. Прежде чем исполнять данный свыше закон, надо знать, в отношении кого он действует и не действует. По притче этого места Евангелия, ближний не обязательно иудей иудею, ближним может быть и всякий человек. По Толстому, вопрос о ближнем провокационен по своей сути и не должен стоять вообще, так как агапическая жизненность высшей души проявляется в благоволении ко всем. Дело не в том, кто ближний, а какой жизненностью жить и как любить.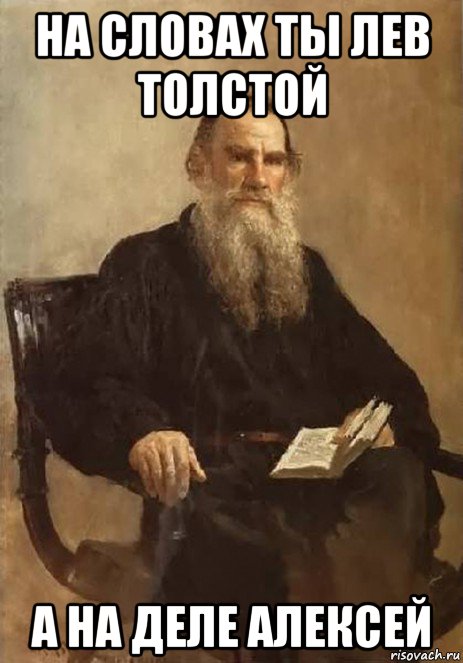 Если же задать вопрос о ближнем безотносительно к законодательству о любви, то все просто: человек любит той или иной любовью и тот, кого он любит, и есть ближний для него.
Если же задать вопрос о ближнем безотносительно к законодательству о любви, то все просто: человек любит той или иной любовью и тот, кого он любит, и есть ближний для него.
Но что значит любить «как самого себя»? Здесь не один, а два вопроса: о любви к ближнему в душевной жизни отдельно взятого человека и о любви к ближнему в коллективной (общедушевной, общенародной, общественной) жизни.
Собственно говоря, отношение к человеку своего народа «как к себе» есть не заповедь, а констатация существующего отношения. Он такой же, как я, русский, немец, англичанин. Отношение к нему, как к себе, в определенном смысле предопределено, и заповедь любви только возводит такого рода отношение в ранг «любви к ближнему». Лично к другому человеку своего этноса (или церкви, или воинства) ты можешь относиться, как тебе угодно (в том числе и враждебно), но его же как соотечественника, или одноверца, или соратника ты обязан любить как самого себя.
Каждый любит самого себя с той или иной силой себялюбия.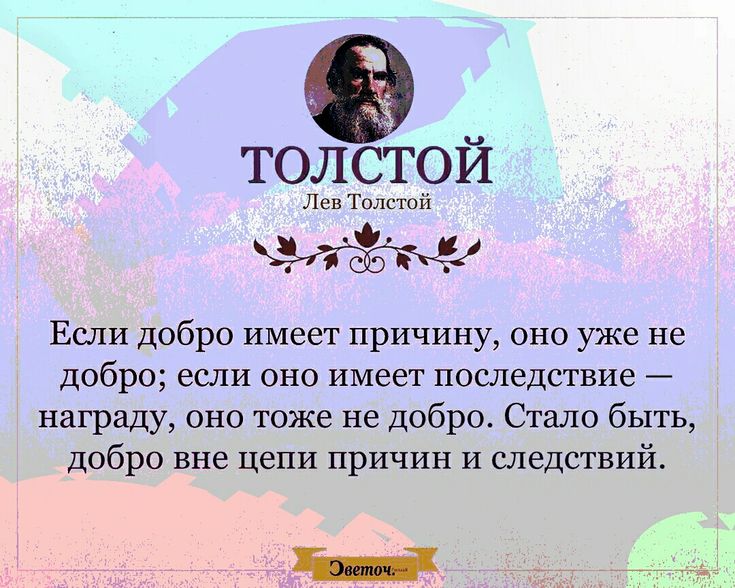 С общедушевной точки зрения устанавливать отношение к другому человеку с силой себялюбия возможно тогда, когда прежде установлен «ближний» как обобщенный объект такой любви. Тут нет требований любви как таковой, а есть указание на высшую степень сплоченности в некоторой общности. В качестве такой сплоченности можно вообразить все человечество и установить моральные или правовые общегуманистические нормы жизни людей. В состав сплоченности можно включить не только людей, но и животных, и даже все живущее и выработать соответствующие требования. Эти отвлеченные, максимально расширенные требования для предельно понимаемой сплоченности не суть высшие нормы или идеалы, так как при расширении объекта любви любовь остается любовью только до известного предела. Реально идеал любви как к себе работает в реально действующей сплоченности — народе, партии, церкви, секте, армии и пр.
С общедушевной точки зрения устанавливать отношение к другому человеку с силой себялюбия возможно тогда, когда прежде установлен «ближний» как обобщенный объект такой любви. Тут нет требований любви как таковой, а есть указание на высшую степень сплоченности в некоторой общности. В качестве такой сплоченности можно вообразить все человечество и установить моральные или правовые общегуманистические нормы жизни людей. В состав сплоченности можно включить не только людей, но и животных, и даже все живущее и выработать соответствующие требования. Эти отвлеченные, максимально расширенные требования для предельно понимаемой сплоченности не суть высшие нормы или идеалы, так как при расширении объекта любви любовь остается любовью только до известного предела. Реально идеал любви как к себе работает в реально действующей сплоченности — народе, партии, церкви, секте, армии и пр.
В любви родителей к детям и детей к родителям определение «как к себе» может быть приложимо только условно. Любовь «как к себе» в этом случае заказана природой, подавляющей себялюбие ради, скажем, чадолюбия, то есть любви, ставящей благо чада превыше родительского блага. Обусловленная природной необходимостью неизбежная и несвободная любовь родителей и детей вовсе не обязательно затрагивает высшие пласты человеческой души.
Любовь «как к себе» в этом случае заказана природой, подавляющей себялюбие ради, скажем, чадолюбия, то есть любви, ставящей благо чада превыше родительского блага. Обусловленная природной необходимостью неизбежная и несвободная любовь родителей и детей вовсе не обязательно затрагивает высшие пласты человеческой души.
Совсем побороть в себе свое «эго» никто не может. Можно только войти в такую стадию жизни, в которой низшая душа из объекта служения становится, и вполне активно, объектом преодоления. Самость побеждается, когда сознание диктует, а воли высшей души реально руководствуются самоотречением — не героическою поэзией жертвы (в которой превозносится загримированная под самоотречение самость), а ношение телесных и душевных не своих немощей, как немощей своих.
Для этого надо «полюбить ближнего как самого себя». Но это, разъясняет Толстой, «не значит то, что ты должен стараться полюбить ближнего. Нельзя заставить себя любить. «Люби ближнего» значит то, что ты должен перестать любить себя больше всего. А как только ты перестаешь любить себя больше всего, ты невольно полюбишь ближнего, как самого себя» («Путь жизни» ХХV,1V, 4).
А как только ты перестаешь любить себя больше всего, ты невольно полюбишь ближнего, как самого себя» («Путь жизни» ХХV,1V, 4).
Всегда были и будут люди, которые с молодых лет посвящают свою жизнь защите угнетенных, борьбе с общественным злом или всякого рода трудами «на благо всех». Бывает, что они приносят себя в жертву, но при этом не «перестают любить самого себя больше всего». Они любят не «ближнего», а свое дело (например, дело революции или национальной победы над врагом, или дело своего сообщества, секты и пр.), или свою идею, или своего вождя. Двигающие ими даже самые «высокие» побуждения лишь отрицают какую-то одну сторону «животной личности», чтобы возвести на пьедестал другую ее сторону. Пишу это не в осуждение и не в обличение, а для того, чтобы яснее дать понять: преодолеть свою самость, так, чтобы не любить себя больше всего, чрезвычайно сложно на всех этапах своего духовного развития.
Любить «как себя» вовсе не означает любить кого-то столь же сильно, страстно и энергично, как любишь самого себя.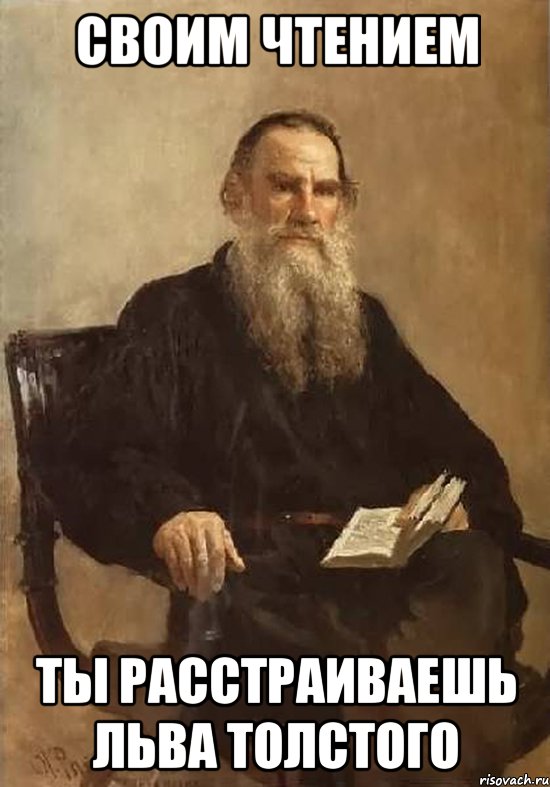 Мало того, что в общем случае это невозможно, но и каждый человек по страстности любит себя различно и в одно время сильнее, в другое слабее, а в какие-то минуты и вообще ненавидит себя. Многие люди любят себя вяло и, надо полагать, имеют на то причины. Дело, наверное, не в энергии чувств, а в том, чтобы своей душою служить другому «Я» так же, как себе, своей личности, т. е. видеть свое «Я» в другом, перенести центр тяжести своей жизни из себя в другого, иметь другое «Я» в качестве центра своей души и принадлежать ему (любить) так же, как если бы это был центр сознания своей души.
Мало того, что в общем случае это невозможно, но и каждый человек по страстности любит себя различно и в одно время сильнее, в другое слабее, а в какие-то минуты и вообще ненавидит себя. Многие люди любят себя вяло и, надо полагать, имеют на то причины. Дело, наверное, не в энергии чувств, а в том, чтобы своей душою служить другому «Я» так же, как себе, своей личности, т. е. видеть свое «Я» в другом, перенести центр тяжести своей жизни из себя в другого, иметь другое «Я» в качестве центра своей души и принадлежать ему (любить) так же, как если бы это был центр сознания своей души.
В индивидуальной жизни «личности» есть такие проявления любви, к которым требование «любить как себя» принципиально неприменимо. Например, любовь-вожделение. Но не только. Далеко не в каждом проявлении любви человек стремится отдавать себя любимому. Самость обычно любит для того, чтобы увеличить полноту той жизненности, которой она живет. Животная личность у Толстого «предпочитает», а не любит.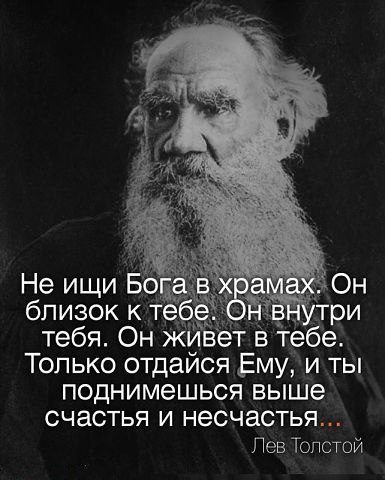 Впрочем, к любви-предпочтению у Толстого отнесена не только психофизиологическая любовь, но и самая возвышенная, восторженно поднятая над миром («небесная»), сексуально бескорыстная любовь. Влюбленный вдохновлен любовью, поднят ею над собой и воспринимает образ того, кого любит, не как психофизиологическую реальность, а как видение сверхземного образа, обитающего где-то выше себя, над собою, на вершинах существования. В такой любви и мужчина и женщина готовы к самопожертвованию, но это — готовность отдать свою жизнь куда-то ввысь. Весь накал такой любви определяется стремлением перенесения себя в горнюю сферу жизни воображаемого высшего существа любимой или любимого, вливание себя в неё и служение ей. Любовь к тому, кто столь высоко поднят над собою, никак не может быть любовью «как к самому себе».
Впрочем, к любви-предпочтению у Толстого отнесена не только психофизиологическая любовь, но и самая возвышенная, восторженно поднятая над миром («небесная»), сексуально бескорыстная любовь. Влюбленный вдохновлен любовью, поднят ею над собой и воспринимает образ того, кого любит, не как психофизиологическую реальность, а как видение сверхземного образа, обитающего где-то выше себя, над собою, на вершинах существования. В такой любви и мужчина и женщина готовы к самопожертвованию, но это — готовность отдать свою жизнь куда-то ввысь. Весь накал такой любви определяется стремлением перенесения себя в горнюю сферу жизни воображаемого высшего существа любимой или любимого, вливание себя в неё и служение ей. Любовь к тому, кто столь высоко поднят над собою, никак не может быть любовью «как к самому себе».
Отдельной личности, направленной на другую отдельную личность, любить «как себя» нельзя. Личность человека сознает свою жизнь в отделенности от других личностей. Сознание отделенности — характеризующая черта человеческой личности и ее состояние жизни. Любить как самого себя при таком сознании себя живущим практически невозможно. Полный смысл любовь к ближнему как к самому себе обретает только в жизнедеятельности высшей души самой по себе.
Любить как самого себя при таком сознании себя живущим практически невозможно. Полный смысл любовь к ближнему как к самому себе обретает только в жизнедеятельности высшей души самой по себе.
Сияющая любовь-благоволение свойственна детству. Но с возрастом разрастается самостная животная личность, она завладевает человеком и забивает детское агапическое чувство жизни. Оно уже невозвратимо. Поэтому нельзя ставить задачу возвращения к состоянию детства через «вычитание» животной личности из себя, чтобы остаться вновь с детским чувством благоволения. И Толстой, конечно, не учил этому.
«Отрекаться нельзя и не нужно отрекаться от личности, как и от всех тех условий, в которых существует человек; но можно и должно не признавать эти условия самою жизнью. Можно и должно пользоваться данными условиями жизни, но нельзя и не должно смотреть на эти условия как на цель жизни. Не отречься от личности, а отречься от блага личности и перестать признавать личность жизнью: вот что должно сделать человеку для того, чтобы возвратиться к единству, и для того, чтобы то благо, стремление к которому составляет его жизнь, было доступно ему»(26. 378).
378).
То, что предлагает Толстой человеку, не есть самоотрицание, действие отрицательное. Толстовское «отречение от блага личности» — положительное действие. Для выполнения его необходимо обладать мощной назначающей волей, способной овладеть животной личностью и поставить вместо ее блага свое благо. Детская сила агапической жизненности, высшая душа ребенка, даже если она опять могла бы быть задействована в человеке, разумеется, по слабости своей не была бы способна подчинить себе даже специально ослабленную животную личность. Есть детское состояние жизни высшей души, и есть состояние жизни высшей души взрослого человека. Взрослая высшая душа взращивается в духовном росте, наживается многими трудами, волнениями и страданиями. Зрелая высшая душа обладает такими силами и такими возможностями, которых детская высшая душа, при всей яркости свечении любви-благоволения в ней, не имеет.
Высшая душа сознает жизнь в себе в нераздельности или единстве с другими высшими душами и Богом. Сознание нераздельности — характеризующая черта высшей души и ее состояние жизни. Любовь высшей души осуществляет со-жизнь, в которой центры жизни двух или многих складываются и образуют общий и единый центр, не отменяющий составляющие его центры. Это — высший тип жизненности, непосредственно доступный человеку.
Сознание нераздельности — характеризующая черта высшей души и ее состояние жизни. Любовь высшей души осуществляет со-жизнь, в которой центры жизни двух или многих складываются и образуют общий и единый центр, не отменяющий составляющие его центры. Это — высший тип жизненности, непосредственно доступный человеку.
Агапическая жизненность связана с любовью делать Добро, с благожелательностью в прямом и точном смысле слова. Делай другому то, что желаешь себе, — принцип благожелательности как таковой, принцип, выражающий устремленность сил агапической жизненности.
Любить «как самого себя» в общем случае означает относиться ко всем и каждому с той же благожелательностью, с какой относишься к себе. Это может стать желаемым правилом внешнего поведения. Но может быть и агапической заповедью, по которой человек старается быть обращенным к другим людям своей высшей душой. Такая заповедь непосредственно обращена к душе человека, требует поворота в нем (к высшей душе) и не имеет специального отношения к кому-то, кто вне внутреннего мира человека, в том числе и прежде всего — к «другому» человеку, к «другому Я».
Если быть точным, то тут ясно прослеживается не одна любовь, а ДВА РАЗНЫХ ТИПА ЛЮБВИ высшей души. Первый род любви высшей души — агапическая любовь — обращена к «ближнему» через Бога. К ней применима толстовская интерпретация библейской заповеди: люби ближнего как Бога Самого. Заповедь же «люби ближнего как самого себя» обретает значение только в том случае, когда она означает стремление свиться своей душою с душою другого человека так, чтобы он для тебя перестал быть «другим человеком», «другим Я», а стал бы «другим своим Я». К такому — не агапическому, а другому — роду любви всегда влечется зрелая душа взрослого человека. И в общем случае влечется куда яснее и сильнее, чем к агапической любви.
Высшая душа одного человека стремится — и избирательно стремится! — совместить себя с высшей душой другого, слиться с ней в единое (двуединое) существо, образовать из «Я» и из «Ты» новое единство жизни, обладающее большей одушевленностью и большей полнотой жизни, чем каждый из них обладает по отдельности. Если животная личность увеличивает свою энергию жизненности за счет другого, то высшая душа приращивает свою жизненность при создании новой душевной целостности в единстве двух или многих.
Если животная личность увеличивает свою энергию жизненности за счет другого, то высшая душа приращивает свою жизненность при создании новой душевной целостности в единстве двух или многих.
Заповедь любви к ближнему как самому себе обращена к высшей душе и обязывает человека активно задействовать высшую душу и жить её жизненностью. Любить ближнего как себя не означает любить его так же страстно, как себя. Это не сострадательное или альтруистическое переживание. Любить как самого себя значит любить так, словно он, ближний, — ты сам, словно он уже не «он», а еще одно твое «я». Любить библейской любовью к ближнему значит в душе и душою делать себя им и его собою — делать «свое Я» и «другое Я» сторонами двуединого (или многоединого) существа, живущего в поле жизненности, отличающегося от поля агапической жизненности.
Для обозначения избирательной любви высшей души надо найти название. Мы пользуемся беспризорным понятием сторгической любви. Стергия в греческом языке означает терпеть, переносить, уступать, соглашаться, просить, любить того, кто почему-либо пришелся по душе, например, того, кто сообщил приятное известие. Комментаторы приравнивают стергическое чувство к семейной, родственной привязанности. Мы берем это слово в другой модификации (сторгия) и даем ему смысл чувства, в силу которого «Я» другого человека становится «своим другим Я». Это чувство мы называем сторгическим чувством. Жизнь же новой душевной целостности назовем сторгической жизненностью.
Стергия в греческом языке означает терпеть, переносить, уступать, соглашаться, просить, любить того, кто почему-либо пришелся по душе, например, того, кто сообщил приятное известие. Комментаторы приравнивают стергическое чувство к семейной, родственной привязанности. Мы берем это слово в другой модификации (сторгия) и даем ему смысл чувства, в силу которого «Я» другого человека становится «своим другим Я». Это чувство мы называем сторгическим чувством. Жизнь же новой душевной целостности назовем сторгической жизненностью.
Любовь-благоволение вроде бы уравнивает каждого в едином круге любви. «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального» (47.71), — писал 28-летний Толстой. Агапическая жизненность изливается высшей душою одного человека и выливается на всех; она, кажется, способна залить всякого, кто попадет в ее поток. На самом деле живые воды агапической любви поступают только изнутри колодца данной высшей души. Залить этот колодец внешними водами никак нельзя. Можно только, и то с огромным трудом, побудить высшую душу другого (и не всякого) человека агапически явить себя.
На самом деле живые воды агапической любви поступают только изнутри колодца данной высшей души. Залить этот колодец внешними водами никак нельзя. Можно только, и то с огромным трудом, побудить высшую душу другого (и не всякого) человека агапически явить себя.
«Любовь есть проявление в себе (сознание) Бога, и потому стремление выйти из себя, освободиться, жить Божеской жизнью… Главная мысль моя в том, что любовь вызывает любовь в других — Бог, проснувшийся в тебе, вызывает пробуждение того же Бога и в других» (53.25).
И все же для такого пробуждения Толстой полагается на мощь «разумного сознания» (не рационального убеждения, а проявления в себе сознания Бога, Разума Жизни как таковой) куда более, чем на непосредственное воздействие силы агапического чувства жизни одного человека на другого. Но и «разумное сознание» той высшей души, которая более или менее активно живет агапической жизненностью, давая руководство к действию, само по себе еще не обеспечивает полноценное включение высшей души в работу внутреннего мира человека и, следовательно, не обеспечивает главенство агапического чувства жизни в его целостном чувстве жизни.
По Толстому, высшая душа пробуждается к активной жизни под воздействием своего «разумного сознания», поддержанного всей страдающей и гибельной жизнью человека. «Страдания и смерть, как пугалы, со всех сторон ухают на него и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума и выражающейся в любви» (26.435). Действенным оказывается не разумное сознание как таковое, а разумное сознание человека, познавшего страдания и смерть, то есть человека уже во всех отношениях взрослого.
Жизнедеятельность высшей души в человеке всегда ценна сама по себе, вне зависимости от того, какой результат — всеобщий или частный — может быть получен в ней. Агапическая любовь склонна расширять поле самоизлияния, беспредельно множить объекты любви. Сторгическая любовь, напротив, всегда точечная и ведет к локальному единению высших душ субъектов любовного взаимодействия. Хотя сторгическая сплоченность существует и в Общей душе народа, но это особая тема.[24] Во всяком случае, общедушевная сторгия куда слабее выражена, чем сторгия приватной духовной жизни.
«Любовь нельзя сделать в себе, а отрешение от себя можно. И стоит отрешиться от себя, возникает любовь» (53.196) — агапическая любовь. Для сторгической любви одного самоотрешения мало. И ее можно «сделать».
Возможности агапической любви варьируются от готовности к милосердию до любви к врагу. Возможности сторгической любви варьируются от душевной привязанности, образованной длительным житейским соприкосновением тел и душ, до таинственной свитости душ на самом глубинном их уровне.
Человек впервые видит человека — и вполне может воспринять его агапически и соответствующим образом отнестись к нему. Но в общем случае он не в состоянии воспринимать его сторгически, даже если в каком-то отношении считает его себе «ближним». Хотя высшая душа, живущая сторгической жизненностью, склонна чувствовать — и иногда не может не чувствовать! — другое Я по своим таинственным каналам, посредством которых высшие души изнутри сообщают друг другу о себе. Сторгическим ближним вам становится тот, от кого до вашей души донесся зов, вызвавший в вашей душе ответное сторгическое стремление или переживание. Другое дело, что и зов этот, и ответное переживание могут оказаться мнимыми.
Сторгическое стремление требует от человека взять на себя ответственность за сторгического ближнего — такую же, что и за себя. В том числе и за его судьбу, неразрывно совмещенную со своей судьбою. Это не моральная ответственность, не долг и не чувство справедливости. Сторгическая ответственность перед своим другим Я — ровно такая же, как перед собой. Это в полном смысле ответственность по любви как к себе. В силу чувства сторгической любви высшие души стремятся жить вместе, две как одна. Здесь не сложение одного с другим, а, как мы сказали уже, взаимоусиление высшей душевной жизни каждого.
В сторгической связи высшая душа дополнительно обретает большую полноту и жизненность. От одного того, что два человека сторгически объединились, происходит то, что каждый из них внутренне возвысился, стал душевно выше и глубже самого себя, на порядок одухотвореннее, стал полнее и глубже переживать жизнь.
Сторгическое действие буквально на глазах оживляет человека, делает его более живым. Это приращение жизненности переживается как сторгическое благо и придает особые силы той высшей душе, которая переживает это благо. Выходить на поле духовной (или духовно-творческой, а то и просто творческой) брани одному, без поддержки супружеской, дружеской или какой-нибудь еще сторгии — значит не биться в полную силу и если и одержать победу в этой битве, то половинную. Это знает каждый, кто когда-либо ставил перед собой задачи на пределе своих сил.
Агапия (во всяком случае, ее ближайшее проявление в человеческой жизни) — это всегда любовь-добро,[25] которая, собственно говоря, не обязательно подчинена требованию «любви к ближнему». Это определенно выразил Толстой в дневниковой записи начала 900-х годов:
«Очень неверно, неточно, неопределенно сказано: люби ближнего. Это сказано в Библии; в Евангелии же только повторено, выбрано самое важное из всего. Любить велеть нельзя, любовь есть высшее проявление души и потому ничем не может быть вызываемо. Оно вызывает все другое. Любить можно велеть только Бога, потому что это свойственно человеку: как только он свободен от соблазнов, он невольно больше всего любит Бога, т. е. истину, добро, любовь. Надо сказать: не то, что люби ближнего — этого нельзя, а будь добр к ближнему (люби Бога). Это всегда можно» (54.100–101).
Сторгия — это всегда любовь-соединение. Для агапического действия соединение душ — одно из приложений. Для сторгического действия Добро — приложение.
«Зло есть материал любви. Без зла нет и не может быть проявления любви. — Бог есть любовь, т. е. Бог проявляется нам в победе над злом, т. е. любви» (53.216). Победа над злом есть дело добра, дело агапической любви. Сторгия к победе над злом земной жизни столь непосредственного отношения не имеет.
Агапическая любовь, как утверждал Толстой, есть чистейшее самопроявление той жизненности, в которой живет высшая душа человека. Агапическое чувство жизни — чувство жизни высшей души самой по себе.
Сторгическая любовь, быть может, есть самопроявление кого-то, кто начинает жить в поле жизненности высших душ. Сторгическое чувство жизни — чувство жизни кого-то, какого-то нового духовного существа, которое оживает в глубинной свитости высших душ людей.
В сторгическом единении высших душ одного и другого человека возникает новое духовное существо, которое не есть высшая душа того или другого или их сложение. Это духовное существо изначально не дано в земной человеческой жизни, возникло (рождено, создано, сформировано) в нем вновь и потому не подлежит уничтожению при отживании плотского человека. Тут есть веские предпосылки для решения вопроса бессмертия человека.
Сторгическая духовная жизнь избирательно обращена к другому человеческому «Я», к еще одному своему «Я», к другой высшей душе, чтобы воссоединиться с ней и в этом воссоединении создать новое, еще не бывшее в существовании.
В агапическом соединении (через Бога) нет первых и вторых, все равны. В сторгическом узле двух душ может быть как ведущий, так и ведомый.
Степень свободы сторгической жизни и полноты ее проявлений выдерживает сравнение со свободой и полнотой агапической жизни. Сторгическое чувство жизни столь же высшее проявление чувства жизни человека, сколь и агапическое чувство жизни. И потому вопрос смерти человека и его несмертной «истинной жизни» достаточно определенно решается в сторгическом соединении высших душ. Сторгическая жизнь — в полном смысле духовная жизнь, так как в ней оживает вновь рожденное духовное существо, в которое человек, участвующий в его зарождении, не только вполне может, но не может не перенести свою жизнь. Но, повторим еще раз, эта духовная жизнь иного рода, чем агапическая духовная жизнь.
Есть две различные струи духовной жизни высшей души, два рода жизненности, одна из которых оживлена агапической любовной духовностью, другая — сторгической любовной духовностью. Первая, по заключению Толстого, всецело принадлежит вселенской духовной жизни. Вторая принадлежит приватной духовной жизни земного человека.
Сторгическое и агапическое суть разные любовные духовности, трудно сводимые друг к другу. Сторгия не предполагает агапию. И агапия не обязательно предполагает сторгию. У Толстого, при его духовном рождении, в чем-то одна даже замещала (а то и разрушала?) другую. Тот, кто высоко одарен агапической любовной духовностью, у того может быть ослаблена воля сторгического действия. И наоборот: у человека могучей сторгической воли ослаблено агапическое благоволение к жизни, пусть даже он, будучи в лоне христианских представлений и чувствований, и должен толковать об этом предмете.
Агапия не направлена на личность, ей вообще не нужен объект переживаний, а тем более личностный объект. Враг — соответственное личное восприятие и восприятие личности. Врага можно любить, только исключив из переживания любви все личностное или пристрастное. Сторгия, конечно, носит личностный характер. Но это, подчеркнем особо, никак не характер психики животной личности, а лично-духовный характер высшей души.
Чтобы состоять в сторгической паре и чувствовать другое Я как свое, хорошо бы прежде как можно яснее сознавать свое собственное Я и знать, что личностно ему нужно. Сторгия — начало индивидуальности высшей души, создающее своеобразие ее проявлений. Без сторгии высшая душа единообразна, одна и та же во всех. Проповедь Льва Толстого построена на утверждении одной — агапической — высшей души во всех людях. Не потому, что он не признавал сторгическое действие в высшей душе, а потому, что он не верил в него. И имел на то веские основания в своей личной духовной жизни. При этом сторгические движения не отвергаются Толстым, а как бы включаются в агапические движения и даже поглощаются последними.
«Любовь есть стремление сознавать жизнь другого так же, как я сознаю свою — войти в другого, быть им. И когда любишь, то стремишься быть не собой одним, а всем, стремишься быть тем, что Бог, и познаешь Бога. — Это одно. Другое же то, что, если свята любовь, то как же я не люблю NN? И я вспоминаю, кого я не люблю, и стараюсь войти в его душу, говорю себе, что буду стараться войти в общение с ним, искать его, сближаться с ним, вызывать его на высказывания себя» (87.40).
Я думаю, что агапия без сторгии могла бы отдавать умозрительностью даже у Толстого. Если этого не происходит, то потому, что он то и дело переводит сторгию в агапию и наоборот. Толстой постоянно стремится расширить пространство сторгии с одного лица (естественное сторгическое пространство) на всех людей. Толстой считал, что всякого человека можно любить сторгически (как любишь ближайшего человека), и сам, успешно или неуспешно, стремился любить так.
Агапическая струя духовной жизни общедушевно востребована христианством. Сторгическая река любовной жизни в чистом виде религиозно невостребована, нигде не ставится в центр религиозной жизни, хотя именно эта река любви течет практически в каждом и заполняет большую часть общего жизненного поля людей. Это объясняется религиозной невостребованностью той духовной жизни, для которой сторгия имеет основополагающее значение.
Личные межчеловеческие сторгические мотивы человеческой жизни для Евангельского жизнечувствования по меньшей мере неактуальны.[26] В Евангелии не только нет сторгической проповеди, но и нет сторгических переживаний. Забвение сторгических связей — характерная черта христианства, которую Церковь пытается компенсировать конфессиональным братством. Евангелие не сторгично, а исключительно агапично. Христос любит агапической любовью и так заповедует любить людям. И когда говорит, что «все же вы — братья» (Мф. 23:8), то имеет в виду не сторгических братьев, а братьев во Христе.[27] И у Иоанна: «Братья, любите друг друга» — не сторгический призыв, а агапический призыв, так как Иоанн обращался к собратьям по вере и для него «все люди — братья». Он же указывает на высшую ступень взаимной любви в братстве Христовом: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). «Положить» здесь — значит пожертвовать собою за друзей. Толстой переводит: «Самая истинная любовь есть та, чтобы отдавать свою душу тем, кого любишь» (24.734).
Ни то ни другое не есть сторгия. Высшее и истинное в сторгии — наиполнейшая степень взаиможизни в свитости высших душ разных людей, свитости, для которой самопожертвование или отдача своей души другому, когда нужна, когда не нужна или нужна как готовность.
Как бы тема любви и дело любви ни были важны в Евангелии, нельзя забывать, что Бог-Сын сошел на землю не только для провозглашения необходимости любить друг друга. У него Своя Господняя Задача. Центр Евангелия составляет Богочеловек и то мистическое Дело Искупления и Спасения, которое Он совершил. Тема любви друг к другу отчетливо и неоднократно провозглашена и обозначена в Евангелии, но тема эта не может заслонять основную мистическую тему. Нет ничего удивительного, что сторгическая линия человеческой жизни обойдена в Евангелии. Ведь и Церковь мыслится как «тело Христово», пусть даже как «Невеста Христова», но все же не как «Его другое Я».
Толстой вполне мог бы создать свое, самобытное и целостное учение из собственных прозрений. Но он верил Христу и любил Христа, и ему по его вере и любви была необходима опора именно на Евангелие. Незнающий человек может подумать, что Толстой использовал евангельские тексты в продомальных целях. Однако он действительно искал подлинный смысл Евангелия, и многие положения его учения возникли не от независимых прозрений, а от прозрений при чтении Евангелия. Именно вникновение в Евангелие с его проповедью агапической любви и стремление установить ценности жизни исключительно на всечеловеческой евангельской основе отодвигало Толстого от мысли личностной сторгии. Другая причина этого связана с общей для толстовского и евангельского учений установкой на обретение человеком несмертной жизни.
Евангельская благая весть — это, разумеется, весть о восстановлении порушенного Адамом, о возобновлении райской жизни посредством Жертвы Христа и жизни во Христе. Нельзя сказать, что по христианской вере повторное вселение спасенного человека в Рай не отличается от той жизни, которой жил в райском Саду праотец Адам. Это в разных отношениях обновленная жизнь. В частности, потому, что для такого восстановления в человечестве создается новое духовное единство (Церковь), которого в бытность Адама в Раю не было. И все же это именно восстановление человека в Раю, восстановление вновь того, что было, хотя и в новом виде. А не создание того, чего не было, не новое создание. Хотя для успеха дела реконструкции райского бытия человек в известном смысле должен как бы «родиться вновь».
В чем решение вопроса смысла, смерти, Замысла на человека? В возникновении ли нового не подверженного смерти или в восстановлении прежнего не подверженного смерти? Евангелие решает — в восстановлении. Толстой решает — и в восстановлении, и в возникновении.
«Христос показал мне, — пишет Толстой в «В чем моя вера?», — что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне казалось прежде, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором родятся дети, по словам его, и то, в котором живут всегда люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами» (23.454).
Единство сына человеческого (та же райская жизнь, только без сомнительных чувственных образов) дано, но не в Раю, а как «их естественное блаженное состояние», которое затем «нарушается обманом, заблуждением, соблазнами», а не грехопадением Адама. Спасение (включение в жизнь истинную) — возобновление Божественного жизнедействия сына человеческого (высшей души), связанное с противодействием тому, что в человеке прекращает это действие, то есть животной личности. Представление об утраченном «золотом веке» и мечта о его восстановлении соединена со стремлением возвращения к мистическому истоку (Началу) жизни, который и является носителем высшего блага. В этом источнике и носителе, во всяком случае, нет зла и нет смерти. Путь возвращения или восстановления — один из путей практического разрешения главных вопросов жизни.
Другой Путь — Путь возникновения, Путь восхождения, на котором создается нечто совершенно новое, чего еще не бывало в Творении. Цель этого восходящего Пути не позади, а впереди. Дело, совершаемое на восходящем Пути, не исправление или преодоление порченого Творения, а продолжение Дела в соответствии с неведомым дальнейшим Замыслом Бога на человека. И когда в высших пластах человеческой души возникает что-то новое, не заложенное в земном существовании как таковом, возвышающееся над областью природного существования и зримо одухотворяющее душу человека, то это всегда свидетельствует о том, что явление это может принадлежать восходящему Пути, действующему в дополнение или в продолжение уже начатого Дела.
Агапическое чувство жизни потому и есть естественное чувство жизни высшей души, что в нем и через него выражает себя базовое жизненное поле. Это поле, по Толстому, есть единственно существующее поле истинной жизненности, в котором во всех Своих ипостасях проживает «Бог живой». В том числе и «Бог свой», высшая душа человека, сын человеческий в каждом из людей.
Если высшая душа чувствует себя естественно живущей в агапическом чувстве жизни, то сторгическое чувство не есть естественное чувство жизни высшей души. Но оно и не заменяет, и не подменяет агапическое чувство жизни. Не исключено, что сторгическое чувство жизни выстраивается на агапическом чувстве, но оно не вытекает из него самопроизвольно. Сторгическая жизненность со-жизненна агапической жизненности, но не охватывается ею. Она иного — личностно-духовного — порядка.
Сторгическое действие — глубинное личностное действие высшей души, и иным быть не может. Чтобы признать достоинство сторгической любви и ее духовность, надо признать личностность высшей души человека. Про высшую душу нельзя сказать, что она безличностна, и Толстой никогда не говорил этого. Когда высшая душа называется Толстым «разумением жизни» или «разумным сознанием» (кому-то, надо полагать, все-таки принадлежащим), тогда она понимается более неличностно (сверх-личностно), чем личностно. Но тогда, когда высшая душа называется Толстым «духовным Я», несет в себе «Я», то это, разумеется, означает, что она должна пониматься более личностно, чем неличностно и сверхличностно. А это включает в жизнечувствие, жизнесознание и жизнедействие высшей души сторгическое чувство жизни.
Толстой, исключив из Евангелия все, что связано с Богочеловеческой Жертвой и мистикой Спасения, остался с провозглашением евангельской (агапической) любви как таковой. Агапическая любовь у Толстого восстанавливает то, что было и что, по сути, есть. Сторгическая любовь производит единение как результат и создает не сумму одних и тех же высших душ, а новое сторгическое существо, которое обычно порождают двое. Сторгическое единение — единство двух в одном. Единение это создает, как мы уже сказали, новое единство (новое существо), которого до того не было. Агапия восстанавливает, воссоединяет рассоединенное. Сторгия вновь рожает, рожает новое духовное существо в мир. Толстой сначала игнорировал это явление духовного мира, затем попытался поставить сторгию и связанное с нею дело создания (возникновения на дистанции человеческой жизни) нового духовного существа в центр своего учения, но в последнее десятилетие своей жизни охладел к этой теме и устремился к вселенской духовной жизни.
ᐉ Лев толстой — где любовь, там и бог. Л. Н. Толстой о жизни и любви ➡ klass511.ru
Где любовь, там и бог :: Толстой Лев Николаевич
Толстой Лев Николаевич
Где любовь, там и бог
ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ
Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать — возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик — трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел — подумал: «Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти, оставлю его при себе». И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у бога смерти и укорял бога за то, что он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок — уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться.
— И жить, — говорит, — божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек.
И сказал ему старичок:
— Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя божьи дела судить. Не нашим умом, а божьим судом. Твоему сыну судил бог помереть, а тебе — жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь.
— А для чего же жить-то? — спросил Мартын. И старичок сказал:
— Для бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется.
Помолчал Мартын и говорит:
— А как же для бога жить-то?
И сказал старичок:
— А жить как для бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай, там узнаешь, как для бога жить. Там все показано.
И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый завет крупной печати и стал читать.
Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него бог хочет и как надо для бога жить, и все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава тебе, слава тебе, господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживал и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и 1000 оговорит человека. Теперь все это само отошло от него.
Афоризмы и цитаты
Афоризмы, цитаты, высказывания.
Цитаты Льва Толстого, высказывания, афоризмы + 56 фото писателя.
Граф Лев Николаевич Толстой (28 августа [9 сентября] 1828, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 [20] ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния, Российская империя) — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей-романистов мира. Участник обороны Севастополя.
Афоризм едва ли не лучшая форма для изложения философских суждений.
Свойство любви именно в том, что она дает благо тому, кто ее испытывает.
Настоящее познание дается сердцем. Мы знаем только то, что любим.
Будьте оба осторожны, внимательны больше всего другого к взаимным отношениям, чтобы не закрались привычки раздражения, отчужденности. Нелегкое дело стать одною душою и одним телом. Надо стараться. Но и награда за старание большая. А средство я знаю одно главное: ни на минуту из-за любви супружеской не забывать, не утрачивать любви и уважения как человека к человеку.
Взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать, но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям – сиди смирно.
Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит.
Всякое рассуждение о любви уничтожает любовь.
Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.
Главное – ни на минуту из-за любви супружеской не забывать, не утрачивать любви и уважения человека к человеку.
Говорят, что не надо любить себя. Но без любви к себе не было бы жизни. Дело только в том, что любить в себе: свою душу или свое тело.
Из страстей самая сильная, злая и упорная – половая, плотская любовь, и поэтому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то исполнится пророчество: люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить.
Любить – благо, быть любимым – счастье.
Основание любви есть сознание каждым человеком единства духовного начала, живущего во всех людях.
Истинная любовь не есть любовь к одному лицу, а душевное состояние готовности любви ко всему.
Истинная любовь сама в себе чувствует столько святости, невинности, силы, предприимчивости и самостоятельности, что для нее не существует ни преступления, ни препятствий, ни всей прозаической стороны жизни.
Цитаты Льва Толстого о любви
Любить – значит жить жизнью того человека, которого любишь.
Любовь есть истинное, высшее благо, которое разрешает все противоречия жизни и не только уничтожает страх смерти, но и влечет человека к жертве своего существования для других.
Любовь есть сама жизнь: но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, а жизнь блаженная и бесконечная.
Лев толстой — где любовь, там и бог. Л. Н. Толстой о жизни и любви
- ЖАНРЫ
- АВТОРЫ
- КНИГИ 580 604
- СЕРИИ
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 534 637
Егор Иванович, морщась от мурашек в затекших ногах, вылез из залепленной грязью плетушки, отпустил ямщика и, придерживая отдуваемые октябрьским ветром полы верблюжьего чапана, отворил калитку, – между железными ее прутьями на ржавом завитке прилип красно-желтый мокрый кленовый лист. Эта калитка, и свистевшие непогодой и унынием голые сучья клена, и в особенности мертвый лист – снова с пронзительной остротой напомнили Егору Ивановичу то, о чем он старался не думать и о чем думал всю дорогу, три дня тащась в плетушке по уезду.
Подняв брови, Егор Иванович сказал: «Да, да», со вздохом, и пошел к дому, разъезжаясь ногами по глиняной дорожке. Сырой ветер мутил лужи и воду в человеческих следах, гнал косые холодные большие капли, рвал и мотал остатки листьев, свистел тоскливо вдоль мокрой деревянной стены дома, казавшегося пустынным. «Да, да», – иным, злым голосом повторил Егор Иванович, всходя на три ступени деревянного крыльца, поскреб сапоги о железную скобу и сильно несколько раз дернул ручку звонка.
Егор Иванович не испытывал никакого удовольствия – усталым и прозябшим войти к себе в чистый, опрятный, хорошо пахнущий дом, – вошел, заранее морщась. Сбросив чапан на руки востроносой, с необыкновенно тонкой талией горничной Соне – ненавистнице рода человеческого и жениной наперснице, – он спросил, дома ли жена, Анна Ильинишна. «Дома-с, у них гости», – ответил враг рода человеческого. Егор Иванович, глядя на ее поджатый ротик, на острый, как косточка, веснушчатый носик, сказал: «Соня, от вас опять пахнет карболовым мылом», – и пошел в умывальную, дотом к себе в кабинет. Здесь было светло от трех больших чистых окон, пылали дрова в обложенном дубом, резном камине. «Да, да», – уже с некоторым примирением, с остатком вздоха, в третий раз сказал Егор Иванович, сел на кожаный диван и стал трогать влажную русую кудрявую бородку.
Он видел – на письменном столе, перед мраморной чернильницей, на которой, на медных крышечках, поблескивал отблеск камина, – лежит пачка нераспечатанных писем, бумаг и газет. Егор Иванович усмехнулся и покачал головой. Эта пачка деловых бумаг – так, нераспечатанная, – лежит вот уже больше месяца, а бумаги, очевидно, есть срочные, – страшно в них заглянуть. «Взять да и бросить всю пачку в огонь – одним словом, моя личная жизнь поважнее вашей трухи бумажной, – вот и все». Вдруг он приметил отдельно одно письмо, оно стояло ребром у самой чернильницы. Он соскочил с дивана, взял письмо, – штемпель был из Петрограда, конверт написан незнакомым крупным почерком. Егор Иванович подошел к окну, на минуту закрыл глаза и разорвал конверт.
«Егор, милый, мне немыслимо тебе писать, труднее, чем я думала… Я все время лгу… Господи, прости меня… Ты пойми, ненаглядный мой: я не чистая, вся душа моя не ясная. Глядеть в глаза мужу и думать о тебе! – я больше не могу лгать. Пожалей меня, пойми, мне – больно… Я пишу сейчас из парикмахерской, – муж бреется, он ни на минуту не оставляет меня одну…» Письмо было подписано – «Маша». Три раза перечел Егор Иванович нацарапанные карандашом, загибающиеся книзу строчки. Боль, жалость, ревность овладели им. Из-за строк он видел ее лицо, каким оно было за стеклом вагона в минуту расставания: прикрытое сеточкой вуали, нежное, грустное, с серыми взволнованными глазами. Она улыбалась растерянно… Когда окно двинулось – она зажмурилась…
Этим летом Егор Иванович встретил у своей приятельницы, Зинаиды Федоровны (дочери старшего врача земской больницы), девушки суровой, молчаливой и очень хорошенькой, ее замужнюю сестру, Марью Федоровну, Машу. Маша приехала к отцу и сестре из Петрограда – отдохнуть, – «пожить чистенько», как она говорила. От петроградской суеты, мужниных знакомых и их жен, банкетов, ресторанного времяпрепровождения и в особенности от мужа, Михаила Петровича, профессора международного права, – у нее к весне начинались дурные настроения: точно душа, как стекло, разбивалась на кусочки; кровь – мутная, сердце – как высохший мандарин. Зато здесь, у отца, Маша вставала рано, шла гулять в городской сад, еще мокрый от росы, глядела на детей, на птиц, на облака и чувствовала себя маленькой, кроткой, грустной и счастливой. В дождливую погоду она накидывала пуховый платок, садилась на диван с книжкой, подбирала ноги под юбку и слушала, как сестра, Зюм, в круглых очках, стучит молотком по мраморной глыбе, – Зюм была очень талантлива. Ложилась Маша после вечернего чая, глядела на лампадку, плакала часто перед тем, как заснуть, но не от горя, а так – сама не знала от чего.
В этот свой приезд она нашла у сестры нового знакомого, Егора Ивановича, губернского инженера. Он был большой, с близоруким, застенчивым лицом, удивительно весь уютный, косолапый и какой-то – свой. Являлся он в разное время и ненадолго, потому что боялся жены. Маша выходила к нему, какая бывала – в платке или в туфлях на босу ногу. Они садились в мастерской на диване и, чтобы не мешать Зюм, разговаривали вполголоса о всевозможных вещах, ни ему, ни ей не нужных. О себе же они не говорили, точно по уговору.
Через несколько дней Маша заметила, что Егор Иванович при встрече с ней начинает моргать глазами и ни на что непохоже улыбаться. Она сразу догадалась, что это значит, и неожиданно обрадовалась; когда же поняла, что – рада, то струсила. Но Егор Иванович был так простодушен и весь на ладошке, что она тут же решила – бояться нечего.
Однажды Егор Иванович пришел взъерошенный, с оторванной пуговицей на пиджаке, сел в угол дивана, на котором сидела Маша, и надулся как мышь на крупу, замолчал. Зюм ушла из комнаты. Маша положила ладонь Егору Ивановичу на руку и спросила тихо:
– Жена, – ответил он с давнишней досадой.
– Конечно, поссорились, что же там может другое случиться. Господи, Боже мой, как это все мерзко…
Маша опустила глаза, – что она могла ему ответить? Егор Иванович молча глядел на нее, и она чувствовала, что он глядит с отчаянием. Вдруг он повернулся, взял ее руки – сжал. Маша не подняла глаз. Его руки ослабели, он поднялся с дивана и остановился у окна, спиной к Маше. Она поглядывала на него и думала: «Чужой человек, а до чего близкий. Поссорился с женой, оторвал на себе пуговицу, пришел жаловаться. Люблю, честное слово… Господи, как глупо».
– Не буду я приходить сюда больше, – проговорил он, не двигаясь. (Маша, неожиданно для себя, широко улыбнулась.) Сам, никто другой – сам во всем виноват: устроил себе омерзительную жизнь. Залез по шею, сижу, как в гуще, в этой грязи… Только одно – благополучие. Будь оно проклято!
Маша соскочила с дивана и подошла к Егору Ивановичу, он с крепко зажмуренными глазами замотал головой. Маша сказала кротко:
– Так что же нам с вами делать? Ничего, видно, не поделаешь…
Он стремительно обернулся к ней, – серьезное, страшно важное лицо его начало бледнеть. Маша стояла перед ним, подняв голову, нежная, милая, простенько причесанная, светловолосая. Губы ее доверчиво, чуть-чуть грустно улыбались.
– Ходить-то все-таки будете ко мне, а? – сказала она; подбородок ее дрогнул, в глазах появились искорки смеха.
Так у них началось. Теперь они начали целыми часами говорить только о себе, о самом задушевном, горьком, затаенном. Маша изменилась за эти насколько дней – осунулась и помолодела, серые глаза стали больше, наполнились светом, она особенно, как-то забавно, стала морщить носик. Ей было легко дышать и легко ходить, словно земля стала пухом.
Однажды, поздно вечером, после долгого разговора в прихожей, Егор Иванович нагнулся к ней и нежно поцеловал в губы – и ушел. Маша долго стояла у стены, закрыв глаза, ни о чем не думала, – только горели щеки.
Два раза в неделю Маша писала мужу в Петроград. Неожиданно в ответ должно быть, на одно из ее писем от него пришла телеграмма: «Безумно встревожен, схожу с ума, выезжай немедленно».
Источники:
http://tululu.org/read65243/
http://aforisma.ru/citaty-lva-tolstogo/
http://www.litmir.me/br/?b=71818&p=1
Как на самом деле Лев Толстой относился к своей супруге.
Нельзя отрицать гениальность Толстого и его огромный вклад в русскую литературу, но не всегда творчество человека соответствует его личности. Был ли он в жизни таким же добрым и милосердным, каким его демонстрируют нам в школьных учебниках?
Брак Льва и Софьи Андреевны был обсуждаемым, скандальным и спорным. Поэт Афанасий Фет убеждал коллегу, что у него идеальная жена:
«Чего хотите прибавьте в этот идеал, сахару, уксусу, соли, горчицы, перцу, амбре — всё только испортишь».
Но Лев Толстой, видимо, так не считал: сегодня мы расскажем, как и почему он издевался над супругой.
Десятки романов, «привычка разврата» и связь, ставшая причиной гибели невинной девушки
Лев откровенно изливал свою душу в личных дневниках — в них он и признавался в собственных плотских желаниях. Ещё в юношестве он впервые влюбился в девушку, но впоследствии, вспоминая это, надеялся, что все мечты о ней были лишь последствием шалящих в отрочестве гормонов:
«Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал, только когда мне было 13 или 14 лет, но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная».
С тех пор мысли о девушках преследовали его всю жизнь. Но не всегда как о чём-то прекрасном — скорее, как о сексуальных объектах. Своё отношение к прекрасному полу он демонстрировал через свои записки и произведения. Лев не только считал женщин глупыми, но и постоянно их объективизировал.
«Не могу преодолеть сладострастия, тем более, что страсть эта слилась у меня с привычкою. Мне необходимо иметь женщину… Это уже не темперамент, а привычка разврата. Шлялся по саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту», — отмечал писатель.
Эти похотливые мысли, и иногда пугающие мечты преследовали просветителя до самой старости. Вот ещё несколько его заметок о своём нездоровом влечении к дамам:
- «Приходила за паспортом Марья… Поэтому отмечу сладострастие»;
- «После обеда и весь вечер шлялся и имел сладострастные вожделения»;
- «Мучает меня сладострастие, не столько сладострастие, сколько сила привычки»;
- «Вчерашний день прошёл довольно хорошо, исполнил почти всё; недоволен одним только: не могу преодолеть сладострастия, тем более, что страсть эта слилась у меня с привычкою».
Но Лев Толстой был религиозен, и всячески пытался избавиться от похоти, считая её животным грехом, который мешает жить. Со временем он стал чувствовать неприязнь ко всем романтическим чувствам, сексу, и соответственно, девушкам. Но об этом потом.
Прежде чем мыслитель познакомился со своей будущей женой, он успел собрать богатую любовную историю: публицист славился обилием краткосрочных романов, которые могли продлиться всего несколько месяцев, недель или даже дней.
А однажды его роман на одну ночь стал причиной смерти подростка:
«В молодости я вёл очень дурную жизнь, а два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня. Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни до моей женитьбы… Второе — это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тётки. Она была невинна, я её соблазнил, её прогнали, и она погибла», — признавался мужчина.
Причина угасания любви жены Льва к супругу: «У женщины одна цель: половая любовь»
Ни для кого не секрет, что писатель был ярким представителем приверженцев патриархальных устоев. Ему крайне не нравились феминистические движения:
«Мода умственная — восхвалять женщин, утверждать, что они не только равны по духовным способностям, но выше мужчин, очень скверная и вредная мода… Признание женщины тем, кто она есть — более слабым духовно существом, не есть жестокость к женщине: признание их равными есть жестокость», — писал он.
Его супруга же никак не хотела мириться с сексистскими высказываниями мужа, из-за чего у них постоянно возникали конфликты и портились отношения. Как-то в своём дневнике она писала:
«Вчера вечером меня поразил разговор Л. Н. о женском вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой равноправности женщины; вчера же он вдруг высказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась: учительством, медициной, искусством, — у ней одна цель: половая любовь. Как она её добьётся, так все её занятия летят прахом».
Всё это — несмотря на то, что сама супруга Льва была очень образованной женщиной, которая, помимо воспитания детей, ведения хозяйства и заботы о муже, успевала по ночам переписывать рукописи публициста набело и неоднократно, сама же переводила философские труды Толстого, так как владела двумя иностранными языками, а также вела всё хозяйство и бухгалтерию. В какой-то момент Лев все деньги стал отдавать на благотворительность, и детей содержать ей приходилось на копейки.
Женщина возмущалась и упрекала Льва за его точку зрения, утверждая, что он так мыслит из-за того, что сам встречал мало достойных девиц. После Софья отмечала, что из-за обесценивания её «духовной и внутренней жизни» и «отсутствия симпатии душ, а не тел», она разочаровалась в муже и даже стала меньше его любить.
Попытки самоубийства Софьи — результат многолетних издевательств или желание привлечь внимание?
Как мы поняли, Толстой не только предвзято и негативно относился к женщинам, но и конкретно к своей супруге. Он мог разозлиться на жену за любой, даже мельчайших проступок или шорох. Как заявляет Софья Андреевна, тот однажды ночью выгнал её из дома.
«Вышел Лев Николаевич, услыхав, что я шевелюсь, и начал с места на меня кричать, что я ему мешаю спать, что я уходила бы. И я ушла в сад и два часа лежала на сырой земле в тонком платье. Я очень озябла, но очень желала и желаю умереть… Если б кто из иностранцев видел, в какое состояние привели жену Льва Толстого, лежащую в два и три часа ночи на сырой земле, окоченевшую, доведённую до последней степени отчаяния, — как бы удивились добрые люди!», — писала потом несчастная в дневнике.
В тот вечер девушка просила высших сил о смерти. Когда желаемого не произошло, через несколько лет она сама совершила неудачную попытку самоубийства.
Её депрессивное и подавленное состояние в течение десятков лет замечали все, но не все её поддерживали. Например, если старший сын Сергей хоть как-то пытался помогать матери, то младшая дочь Александра списывала всё на привлечение внимания: якобы даже попытки Софьи покончить собой были притворством, чтобы задеть Льва Толстого.
Нездоровая ревность и теории о многочисленных изменах
Брак Софьи и Льва с самого начала был неудачным: невеста шла под венец в слезах, ведь перед свадьбой её возлюбленный вручил свой дневник с подробным описанием всех предыдущих романов. Специалисты до сих пор спорят — было ли это своеобразным хвастовством своими пороками, или просто желание быть честным с супругой. Так или иначе, девушка посчитала прошлое супруга ужасным, и это ещё не раз становилось причиной их ссор.
«Он целует меня, а я думаю: «Не в первый раз ему увлекаться». Я тоже увлекалась, но воображением, а он — женщинами, живыми, хорошенькими», — писала молодая жена.
Теперь она ревновала мужа даже к собственной младшей сестре, а однажды Софья писала, что в некоторые моменты от этого чувства была готова схватиться за кинжал или ружья.
Может, и не зря она ревновала. Помимо описанных выше постоянных признаниях мужчины в «сладострастии» и мечтах о близости с незнакомкой в кустах, он и жене на все вопросы об изменах отмечал вскользь: вроде, «буду тебе верен, но это неточно».
Например, Лев Николаевич говорил так:
«У себя в деревне не иметь ни одной женщины, исключая некоторых случаев, которые не буду искать, но не буду и упускать».
И, говорят, что шанс он действительно не упускал: якобы каждую беременность жены Толстой проводил в похождениях по крестьянкам в своей деревне. Тут он имел полную безнаказанность и почти неограниченную власть: он ведь граф, помещик и известный философ. Но этому слишком мало доказательств – верить или нет в эти слухи, решает каждый из нас.
В любом случае и про супругу он не забывал: переживал с ней все горести и поддерживал в родах.
Кроме того, у влюблённых возникали разногласия в сексуальной жизни. У Льва «большую роль играла физическая сторона любви», а Софья считала это ужасным и не очень чтила постельные дела.
Муж все разногласия в семье списывал на супругу – она виновата в скандалах и его влечениях:
«Две крайности — порывы духа и власть плоти… Мучительная борьба. И я не владею собой. Ищу причины: табак, невоздержание, отсутствие работы воображения. Все пустяки. Причина одна — отсутствие любимой и любящей жены».
А устами Стивы в своём романе «Анна Каренина» Толстой вещал следующее:
«Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал её. А тут вдруг подвернётся любовь, и ты пропал, пропал!».
«Издевательства над женой»: Толстой заставлял жену рожать и не сопротивлялся её смерти
По описанному выше можно ясно понять, что отношение Толстого к женщинам было предвзятым. Если верить Софье, к ней он тоже относился грубо. Отлично это демонстрирует ещё одна ситуация, которая повергнет вас в шок.
Когда женщина родила уже шестерых детей и пережила несколько родильных горячек, врачи строго-настрого запретили графине вновь рожать: если при следующей беременности не погибнет она сама, то не выживут дети.
Льву это не понравилось. Он вообще считал физическую любовь без деторождения грехом.
«Кто ты? Мать? Ты не хочешь больше рожать детей! Кормилица? Ты бережёшь себя и сманиваешь мать у чужого ребёнка! Подруга моих ночей? Даже из этого ты делаешь игрушку, чтобы взять надо мной власть!», — кричал он на супругу.
Та послушалась мужа, а не врачей. А те оказались правы: следующие пятеро детей умерли на первых годах жизни, и многодетная мама ещё сильнее впала в депрессию.
Или, например, когда Софья Андреевна тяжело страдала от гнойной кисты. Её нужно было срочно удалить, иначе женщина бы умерла. А её муж относился к этому даже спокойно, а дочь Александра и вовсе писала, что он «плакал не от горя, а от радости», восхищённый поведением супруги в муках.
Он препятствовал и операции, будучи уверенным, что Софья всё равно не выживет: «Я против вмешательства, которое, по моему мнению, нарушает величие и торжественность великого акта смерти».
Хорошо, что врач был умелым и уверенным: всё же провёл процедуру, подарив женщине как минимум 30 дополнительных лет жизни.
Побег за 10 дней до смерти: «Я не осуждаю тебя, и я не виноват»
За 10 дней до дня смерти, 82-летний Лев ушёл из собственного дома с 50 рублями в кармане. Считается, что причиной его поступка являлись бытовые ссоры с женой: за несколько месяцев до этого Толстой тайно написал завещание, в котором все авторские права на его произведения передавались не супруге, которая их переписывала начисто и помогала в сочинении, а дочери Саше и другу Черткову.
Когда Софья Андреевна нашла бумагу, то очень разозлилась. В своём дневнике она напишет 10 октября 1902 года:
«Отдать сочинения Льва Николаевича в общую собственность я считаю и дурным, и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, — мы наградили бы богатые фирмы издательские…».
В доме начался настоящий кошмар. Несчастная супруга Льва Толстого утратила всякий контроль над собой. Она кричала на мужа, ссорилась почти со всеми своими детьми, падала на пол, демонстрировала суицидальные попытки.
«Не могу переносить!», «Они разрывают меня на части», «Ненавижу Софью Андреевну», — писал Толстой в те дни.
Последней каплей стал такой эпизод: Лев Николаевич проснулся в ночь с 27 на 28 октября 1910 года и услышал, как жена роется в его кабинете, в надежде отыскать «тайное завещание».
В ту же ночь, дождавшись, когда Софья Андреевна, наконец, уйдёт к себе, Толстой покинул дом. И сбежал. Но сделал это весьма благородно, оставив записку со словами благодарности:
«То, что я ушёл от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой… Я не осуждаю тебя, напротив, с благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни! Я не виноват… Я изменился, но не для себя, не для людей, а потому что не могу иначе! Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной», — написал он в ней.
Он направился в сторону Новочеркасска, где жила племянница Толстого. Там думал получить заграничный паспорт и отправиться в Болгарию. А если не получится — на Кавказ.
Но в дороге писатель простыл. Обычная простуда обернулась воспалением лёгких. Толстой умер спустя несколько дней в доме начальника станции Ивана Ивановича Озолина. Софья Андреевна смогла проститься с ним лишь в самые последние минуты, когда он был почти без сознания.
Тема любви в творчестве Л. Н. Толстого
Сколько существует человечество, столько оно говорит, поет, пишет стихи о любви, ради которой совершают как прекрасные, так и безобразные поступки. Народная мудрость воплощала свои рассуждения в пословицы, поговорки, а поэты и писатели — в литературные произведения.
Сегодня мы вспомним, как Лев Толстой в романах «Война и мир» и «Анна Каренина» говорит о любви Н. Ростовой, М. Волконской, Н. Ростова и А. Болконского, Анны Карениной.
Непросто было обрести счастье в любви Н. Ростову, одному из самых симпатичных героев «Войны и мира». Слово о Н. Ростове.
Через нравственные искания, сомнения, боязнь, чувство обреченности на несчастье приходит кн. Марья к пониманию любви к конкретному человеку, не только к Богу.
Слово о Марье Волконской.
Невероятно сложный духовный мир, высокие нравственные, моральные оценки окружающих создали вокруг Андрея Болконского отчуждение. Но как раскрылся к людям, к миру Болконский, когда полюбил Наташу. Слово об А. Болконском.
Нелегко пришла к своей любви Наташа: через радость, ликование, отчаяние, горесть и восторг.
Слово о Н. Ростовой.
Афоризм: « Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» -представляет собой философское вступление к роману.
« Анна Каренина»
В начале романа Анна Каренина изображена «в законе» семейного и общественного быта. Разрыв с Карениным поставил ее «вне закона». «Я не знаю законов»,- говорит Анна. Но она хорошо знает, что представляет собой Алексей Александрович Каренин: « ему нужны только ложь и приличие». Покинув семью, Анна теряет права на сына. «Он отнимает сына,- думает она,- и вероятно, по их глупому закону это можно.
Конфликт получает чрезвычайную остроту. Анна чувствует, что не может жить «в законе», но понимает, что жизнь «вне закона» грозит ей гибелью.
Но смирение было в вышей степени чуждым Анне Карениной.
Слово об А. Карениной.
Л. Толстой трогательно говорит о любви старых Ростовых и Болконского своим детям, о положении Сони в семье, ее чувствах.
Слово о Ростовых, Болконских, Соне.
Любовь к старым Ростовым.
Доброта старых Ростовых скрашивает унизительность положения Бориса и Сони, а молодые просто любят их, поэтому Соня долгие годы не задумывается над тем, что она «облагодетельствованная»; когда же поняла это, она пожертвовала для благополучия дома Ростовых своим счастьем.
Путь Пьера будет полон ошибок, заблуждений и разочарований, но всегда Пьер будет искать истину, добро и справедливость. Борису все это не нужно — он будет искать карьеру, положение, деньги, и все это найдет. Но ведь это он же был, он — тот, с кем тоненькая девочка с счастливым лицом пошла в диванную! Только это он потеряет: простое, естественное счастье, способность любить и быть любимым; останутся у него чины, поместья, ордена, а человека не будет.
Старики.
Давно, когда он был молод, силен и деятелен, среди многих радостей, заполнявших его жизнь, были дети: Андрюша и Маша для матери; уже тогда- Князь Андрей и Княжна Марья для него. Они были маленькие и принадлежали ему; он воспитывал их, как понимал; хотел вырастить сына умным, благородным, счастливым, а девочку- не такой, как светские барышни, — прекрасной женщиной, может быть, он мечтал о такой женщине и не встретил ее, и в дочери хочет видеть ее черты.
Сын вырос красивым, умным и честным, но это не сделало его счастливым. Он ушел в непонятную жизнь с неприятной женщиной-что остается отцу? Пытается понять сына и заботится о жене, но не так все это мечталось когда он был молод, силен и здоров.
Дочь выросла некрасивая. Никто не понимает, как больно старику, потому он и не может ударить княжну Марью по самому уязвимому. Он растил дочь, он ее учил и воспитывал; он хотел сделать ее умной, образованной- потому так и сердился, когда она не понимала геометрии. И он любит ее, видит за этим некрасивым лицом ее доброту и благородство; он то знает, как бывают прекрасны ее лучистые глаза, — кто достоин этой души, этих глаз? Что они, эти, могут видеть в его княжне? Богатую дурнушку? Эта мысль нестерпима.
Будь дочь красива, кто-то полюбил бы ее, а теперь. посватаются, найдут и в Лысых Горах, но найдут не дочь, а его богатство, его знатный род- и вот уже едут, а она ждет, волнуется; это оскорбляет и ранит старика. Вот почему он не в духе с утра в тот день, когда должен приехать князь Василий с сыном.
Не знает Николай Андреевич, как много сил стоила князю Василию пышная свадьба дочери Элен- нынешней графиней Безуховой.
Элен пристроена. Ипполит, слава богу, в дипломатах, в Австрии-вне опасности; но остается младший Анатоль, с его беспутствами, долгами, пьянством; возникла мысль женить его на княжне Болконской — лучшего и желать нельзя, но удастся ли, ведь старик Болконский крутенек и любит свою дочь. А чем плох Анатоль-красавец и хорошей фамилии.
Элен и Пьер.
Увлекшись Элен, Пьер почувствовал, что «между ним и ею не было уже никаких преград»; это же испытывает и Наташа, влюбившись в Анатоля; брат и сестра Курагины, красивые люди, умеют вызвать к себе слепую и темную страсть, но не любовь, потому что любовь-чувство прежде всего духовное.
Женившись на Элен, Пьер изменил самому себе- за это он горько расплатился.
Любовь Сони и любовь Наташи.
Соня пронесет через всю жизнь свою родившуюся в детстве любовь к Николаю; все в ее жизни будет правильно- слишком правильно и поэтому все бедно. А Наташа, в своих заблуждениях и горестях, не растеряет, а увеличит свое душевное богатство и в конце концов принесет его тому самому Пьеру, на которого сегодня случайно обращается ее оживленный взгляд.
Соня почти ровесница Наташи, говорит: «Что бы ни случилось с ним, со мной, я никогда не перестану любить его- во всю жизнь» — и это будет правдой. А Наташа так не умеет; ей еще нужно научиться любить и пройти через горькие ошибки, но зато уж и любовь ее будет полной, не такой, как тихая, преданная и бескрылая любовь Сони.
Чтобы доказать Соне свою любовь, она разожгла на огне линейку и прижала к руке. Зная добропорядочную Соню, мы не сомневаемся, что она протестовала и возмущалась, — Наташе это неважно: она не столько доказывает Соне свою любовь, сколько себе- свое мужество.
Наташа понимает Бориса : узкий, серый, светлый. Просто она еще не умеет любить, только ждет любви. Борис нужен ей только потому, что восхищается ею: «Мама, а он очень влюблен? Как, на ваши глаза? В вас были так влюблены?» Сама же она, вернувшись к себе от матери, думает не о нем, а о себе, воображая, что ею восхищается «какой- то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина».
Он еще не пришел этот мужчина, но Наташа понимает: это не Борис. И он придет, потому что настал час, когда Наташа полюбит.
Андрей Болконский и Пьер Безухов.
Андрей Болконский вернулся домой, к женщине, которую любил когда- то и готов был опять любить- уже иной любовью, не восторженной, юношеской, а любовью зрелого человека, многое передумавшего. Он хотел воспитывать сына и любить свою жену, а она умерла, и он остался один, потому что ни княжна Марья, ни даже отец не могли, оказывается, заменить эту наивную, веселую, может быть, глупенькую женщину, для которой он- князь Андрей- был человеком в жизни.
После разрыва с женой, после крушения всех своих прежних надежд Пьер так хотел найти новую истину, новый смысл жизни, что, конечно, должен был найти ее. Он отправился в поместья с целью облегчить положение крестьян, то есть принести пользу и добро людям. Пьер хочет отпустить крестьян на волю, но главноуправляющий его поместьями объясняет, что это невозможно, тогда он выдвигает новые реформы: облегчение женского труда, сокращение крестьянских работ, уничтожение телесных наказаний, учреждения больниц и школ. Объезжая через некоторое время свои владения, Пьер видит радостные лица людей, благодарных ему.
Вот из этой- то поездки, счастливый от сознания, что он приносит людям добро, Пьер является к князю Андрею. Он жаждет показать, что теперь он «совсем другой, лучший Пьер, чем тот, который был в Петербурге». Он оживлен, рассказывает, расспрашивает, мечтает открыть отчаявшемуся другу свой новый мир деятельной любви к людям: «Только теперь, когда я живу, по крайней мере стараюсь жить для других, только теперь я понял все счастье жизни».
Князь Андрей и Наташа.
Князь Андрей страстно заинтересован реформистской деятельностью Сперанского, он жаждет участвовать в ней, он полон жизни. *
Тогда и входит в его судьбу Наташа. Этого не могло бы случиться два года назад. Он не был готов для любви, и она не была готова. Теперь, воскреснув духовно, он ждет новой любви. И Наташа, пройдя через сочувствие Денисову и самолюбивое удовольствие от новой встречи с Борисом, — пройдя через любовь, обращенную к ней, ждет того, кого полюбит она. Своим обостренным чутьем Наташа знает: до сих пор все это было не то, не ОН. Но должен же ОН прийти.
И он приходит- на бале, где присутствует царь, где « Элен имела большой успех», а Наташа стояла среди дам, «замиравших от желания быть приглашенными», и чуть не плакала.
Пьер попросил своего друга пригласить Наташу, но Князь Андрей и сам узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. (Графиня Ростова знакомит его со своей дочерью Наташей).
Так началась эта любовь, которую никогда не мог понять старый князь Болконский и так хорошо понял Пьер.
Так началась эта странная любовь двух очень, очень разных людей, — может, потому и полюбили друг друга, что такие разные.
«Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке».
Чувствует Наташа так же, как он. Теперь вся ее жизнь до встречи с князем Андреем оказалась только ожиданием. Весь свой свет, всю радость, все добро, всю чуткость она копила для него. Она взяла на себя ответственность за человека, которого полюбила. Поэтому «она постоянно угадывала» все его чувства, поэтому спрашивала себя: «Что он ищет во мне?. Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?»
Двое нашли и полюбили друг друга. Но не может им быть легко, потому что за каждым из них- свой мир, и полюбить- одно, а понять-другое.
Та самая радость жизни, кипящая в Наташе, та самая радость жизни, которую полюбил в ней князь Андрей, заставляет ее так горько страдать. «Я не хочу. мучится!» — кричит она матери, и это правда: ей не свойственно мучится, ее характер не приспособлен к этому. Ей нужно счастье сейчас же, немедленно- и полное, безоблачное счастье : чтобы Он был все время с ней, здесь, рядом. Князь Андрей не понимает этого, хотя и он не может без нее жить, хотя и его лицо просияло, едва он снова увидел Наташу.
Его ошибкой было то, что он много думал о своей любви и мало- о том, что чувствует она. А в любви нельзя думать только о себе, это неоспоримый закон, и его нарушил князь Андрей.
Почему князю Андрею понравилась Наташа? Он «любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка». — Какой улыбкой встретила Наташа приглашение князя Андрея?-. «Замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой». Наташа, как и первая встреча в Отрадном, возбудила в князе Андрее мечты о счастье.
Любовь меняет мироощущение. Князь Андрей делит весь мир на две половины: «Весь мир разделен для меня на две половины: одна-она, и там все счастье надежды, свет; другая половина- все, где ее нет, там все уныние и темнота. »- говорит он Пьеру о своем новом отношении к жизни после встречи с Наташей. И: « Я не могу любить света, я не виноват в этом».
Что касается Наташи, то «изменилась ее нравственная физиономия». В ней сразу загорается «внутренний огонь»- тот огонь любви, который иногда разгорается в княжне Марье и делает ее прекрасной, тот огонь, который никогда не зажигался в Элен, несмотря на то, что на количество своих увлечений она не может жаловаться. Одновременно в Наташе просыпается страх. «Мне страшно при нем, мне всегда страшно при нем». Потом отчаяние (князь Андрей уехал к отцу). «. Как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала. » Она думает, что князь Андрей не вернется. Ей кажется, что над ней «смеются и жалеют о ней»; «. это тщеславное горе усиливало несчастие». Наконец, душевная разрядка: князь Андрей делает ей предложение. «Да, да, — как будто с досадой говорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала». И новое горе- разлука на год. «Целый год!» Она спешит жить. Прав В. В. Ермилов, когда пишет, -что князь Андрей, согласившись отсрочить женитьбу, совершил непоправимую ошибку. «. Он не смог до конца понять, что Наташа-сама жизнь! И жизнь никого и никогда не ждет. Он не смог, что нельзя остановить жизнь. Жизнь не терпит рассудочных схем». Но вместе с тем эта разлука, может быть, была и необходима; может быть, Наташе, с ее переизбытком чувства, страсти, недоставало еще закаленности, жизненного опыта, через который нужно пропустить любовь, чтобы она стала такой, какой была у князя Андрея.
Что вдруг почувствовал князь Андрей, когда Наташа зарыдала? « В душе его вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания. », «а. был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею». Наташа «горя не знала». Она окружена всеобщей любовью, всеобщим поклонением. Не зная настоящего горя, маленькие девичьи неприятности (никто не приглашает танцевать) она воспринимала как трагедию.
Легко ли переносила Наташа разлуку с Андреем?- «Я не вынесу этого ожидания»,- думала она. Что она чувствует перед поездкой в театр? «Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной, что ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце». И вот она в театре. Почему она привлекает всеобщее внимание?- «Она поражала полнотой жизни и красоты, в соединении с равнодушием ко всему окружающему».
Наташа и Анатоль.
Наташа переполненная своей любовью к князю Андрею и ответственностью за него, Наташа- после всех мыслей о том, что ей уж теперь нельзя играть жизнью, — в какие-то несколько дней разрушила все свое счастье!
Может быть, первый удар Наташиной любви к Андрею нанесла Марья Дмитриевна- прекрасная, шумная, благородная Марья Дмитриевна, искренне желающая Наташе добра.
Наташе «было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по ее понятиям, не мог понимать его».
Это вмешательство- пусть самое доброжелательное- оскорбило Наташу своей будничностью. Но ее ждет другое вмешательство-недоброжелательное. На другой день произошла встреча с княжной Марьей. Наташа не сомневалась, что найдет ключ к сердцу отца и сестры Андрея. «Не может быть, чтобы они не полюбили меня, -думала она, — меня все всегда любили.
Княжна Марья хотела полюбить Наташу- и не могла; хотела говорить с ней о князе Андрее, но мешала мамзель Бурьен; а старик Болконский не только не хотел полюбить Наташу, но хотел оскорбить ее- и сделал это.
«Что тебе за дело до них?» — уговаривает Наташу Соня. Она- то умеет любить Николая наперекор его матери, любить его в долгих разлуках. Наташа этого не умеет, потому что она слишком сильно и слишком деятельно любит. «Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания. «
Всю жизнь Наташа ждала ЕГО- и он пришел, сбылись все мечты, а потом он уехал надолго, и жизнь остановилась. Еще в Отрадном, на святках, Наташа мучилась мыслью, что вот так, никуда уходят ее лучшие дни, месяцы; они пусты, прожитые без любви. «Боже мой! Ежели бы он был тут, тогда бы я его не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому, просто, обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы смотреть на меня. »- так думает она, глядя на себя в зеркало перед поездкой в театр, где встретит Анатоля. Ей уже мало знать, что она любима, ей нужно ежеминутное восхищение, нужны слова любви, а князя Андрея нет, и появляется Анатоль, который как раз это-то и может ей дать: восхищение, взгляды, слова (придуманные за него Долоховым).
Ничего того, что любил в Наташе князь Андрей, Анатоль не видит. Она возбуждает в нем то же «зверское чувство», которое в лысых горах бросило его к глупой хорошенькой мамзель Бурьен. «Он за ужином после театра с приемами знатока разобрал перед Долоховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос и объявил свое решение приволокнуться за нею. Что могло выйти из этого ухаживания-Анатоль не мог обдумать и знать, как он никогда не знал того, что выйдет из каждого поступка.
И тут вмешивается Элен. Без ее помощи Анатоль, вероятно, не смог бы так молниеносно устроить свидание с Наташей наедине, и не было бы у Наташи ощущения, что «вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла».
Где-то в самой глубине души Наташа понимает, что Соня права, но, чтобы заглушить сомнения, яростно защищает свою новую любовь. И- в ответ на слова Сони- она садится к столу и пишет записку княжне Марье о том, что она не может быть женой князя Андрея.
А если бы она не написала этой записки? Может быть, тогда все осталось бы по прежнему? Нет. В том-то и дело, что Наташа сама себе не простила бы никогда. Скрыть от князя Андрея свое увлечение, промолчать она не умеет. Все, что она делает, — искренне и честно, как бы ни было безумно.
Мне всегда жалко, что Соня не вышла замуж за Долохова. Может быть, своей преданностью, своим самопожертвованием она действительно возродила бы и очистила его. Ведь умеет же он любить мать, своего «обожаемого ангела» — Соня заслужила такую же любовь, и были бы они счастливы.
Но это невозможно, потому что невозможно. Долохов влюбился в Соню именно из-за того, что увидел, как верно и преданно она умеет любить. Если бы сердце Сони было свободно, Долохов, может, и не заметил бы ее. А теперь она была бы другим человеком, если бы разлюбила Николая и отдала свое сердце Долохову.
Вера Ростова сказала однажды: «В моих поступках никогда ничего не может быть дурного». Соня не думает и не говорит о себе так, но эти слова можно сказать и о ней: в ее поступках никогда ничего не может быть дурного.поразила его своей красотой. Отчего же ему было не любить ее не жениться даже, думал Ростов, но не теперь. Теперь столько еще других радостей и занятий!» (Курсив мой. — Н. Д. )
Николай не восхищается ею, как Денисов восхищался Наташей; не делит мир на две половины: где одна- там счастье, где ее нет — там уныние и темнота, как делил князь Андрей; Николай не испытывает к ней даже того зверского чувства, которое возбуждает Наташа в Анатоле; его трогает Сонина преданность, ее покорная любовь, но ведь этого все-таки мало, чтобы любить.
И любовь Сони к Николаю могла бы быть иной, более яркой, более страстной, если бы не то положение в доме, которое заставляло бедную племянницу боятся то Веры, то старой графини. Любовь ее бескрылая, но, может быть, именно потому, что ей с самого начала подрезали крылья?
Только один раз, на святках, в Соне проснулась смелая и свободная девушка, но больше никогда Соня не была такой, как в этот вечер, и вернулась к своим узорам, к своему тихому самопожертвованию.,809 году он уже не тот безвестный офицер, который сидел в кабинете графа Ростова 1805 году.
«Берг недаром показывал всем свою раненную руку в Аустерлицком сражении правую руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такою значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка, — и Берг получил за Аустерлиц две награды».
Самое поразительное, что, упорно повторяя рассказы об этих подвигах, Берг вовсе не думает о карьере: он любит себя и убежден, что каждый его поступок значителен и важен другим людям, что всем интересно знать, как он отличился. В результате в «1809-м году он был капитан гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие-то особенные выгодные места».
Берг женился по любви, как он понимает любовь, «но надо, чтоб жена принесла свое, а муж свое», поэтому он торгуется со старым графам самым натуральным образом: Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что, ежели он не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться.
Любовь.
Когда товарищи Ростова «шутили ему, что он, поехав за сеном, подцепил одну из самых богатых невест в России, Ростов сердился».
Он был честный человек и любил Соню. Но именно честные люди страдают и мучаются угрызениями совести, когда к ним приходит любовь более зрелая, чем та, какую они знали раньше. Честные люди вообще живут сложнее, чем бесчестные.
Анатоль Курагин, привезенный свататься к княжне Марье, не испытывал к ней ни тени любви; она показалась ему удивительно безобразной. Но он, не раздумывая, женился бы на ней, если бы она не отказала. Женился бы на имени и на деньгах ее отца, не утруждая себя сомнениями.
На Николая Ростова, как мы знаем, имела виды Жюли — невеста столь же богатая, как и княжна Марья. Но даже мысль жениться на ее деньгах, не мелькнула у него: он не Борис Друбецкой и не Анатоль.
Получается, что быть плохим человеком легче, чем хорошим. Может быть, это и верно. Но, мы видели это на примере Элен, плохому человеку просто не даны многие радости, доступные хорошему. Никогда в жизни Анатоль не испытывал того чувства, которое охватило Николая Ростова в церкви при виде молящейся княжны Марьи, — это чувство нужно было заслужить духовной работой.
Но ведь Николай не слишком-то любил задумываться! Мы и раньше знали, что он человек простой, рассуждать не любит, «затем в гусары пошел». Даже когда на его глазах совершилась чудовищная несправедливость: царь отказался оправдать Денисова- Ростов предпочел остаться не рассуждающим солдатом: подчиниться царскому слову и пить, чтобы не задумываться. И теперь, на войне, он твердо знал, «что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие. » Более того, ему даже враждебными, неприятными кажутся всякие «умствования», склонность мыслить. « В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью. »
Но это же «выражение высшей, духовной жизни» он ценил в своей сестре; потому так поразило его Наташино пение в вечер рокового проигрыша; потому так любовался он Наташей, когда она плясала у дядюшки, и так любил вечерние поэтические разговоры с ней. Его чувство к Соне вспыхнуло в тот единственный вечер, когда она стала похожа на Наташу, — на святках, в морозную сказочную ночь.
Сам того не зная, Николай ждал женщины, живущей духовной жизнью. Княжна Марья, возникнув на его военной дороге, оказалась именно этой женщиной, но он чувствовал себя несвободным, потому что дал слово Соне; он боялся самого себя и придирчиво искал правду: хотел понять до конца, что влечет его к княжне Марье, и боялся — а вдруг ее богатство все-таки имеет для него значение?
Вот почему он сердился, когда товарищи подшучивали над его знакомством с княжной Волконской. Вот почему, встретившись с княжной Марьей во второй раз — в Воронеже, — «Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось». „,
Он приехал в Воронеж «в самом веселом расположении духа», чувствуя себя вправе развлекаться после сражений, к которым ему еще предстояло вернуться. В этом провинциальном городе, «где мужчин не было никого, кто бы сколько-нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером-гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым», Николай ведет себя вовсе не благовоспитанно, а развязно и даже пошло, но все это -ДО встречи с княжной Марьей.
Когда губернаторша сказала, что его хочет видеть важная дама, племянницу которой он спас, Николай ответил: «Мало ли я их там спасал!»
Эти хвастливые слова — последнее, что он сказал в пошлом тоне. Как только до его сознания дошло, что речь идет о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха».
Ему еще и в голову не приходило, что это любовь. Но когда губернаторша, желая сосватать ему княжну Марью, сказала, что она «совсем не так дурна», Николай почувствовал себя обиженным. Конечно, в его глазах княжна Марья вовсе не дурна!
И совершенно так же, как Пьер в занятой французами Москве вдруг рассказал о своей любви к Наташе чужому человеку Рамбалю, «Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказывать все свои задушевные мысли. этой почти чужой женщине» — воронежской губернаторше.
Кто виноват, что не сложилось счастье Николая и Сони? Есть много причин, одна из них — война, задержавшая Николая в полку и столкнувшая его с княжной Марьей. Виновата, конечно, его мать, мешавшая этому браку, и воронежские дамы, которые решили женить графа Ростова на княжне Волконской. Но главная причина разрыва Николая с Соней- характеры обоих, потому что нигде так полно не раскрывается характер человека, как в любви.
Казалось бы, Ростов преобразился от встречи с княжной Марьей: он обдумывал свою жизнь, он «с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи. » Но в то же время он остался собой, и Толстой напоминает об этом: «Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим», так и теперь он поддался влиянию воронежских дам: ему так легче -предоставить событиям идти, как идут.
«Мне часто в голову приходило, что это судьба», — сказал Николай губернаторше. Стремление свалить все на судьбу так характерно для него: ведь против судьбы не пойдешь! Но мысль о Соне мучит Николая, и ему приятно слышать от губернаторши те самые слова, которых он не хотел слышать от матери, — о бедности Сони, о невозможности его брака с ней. Он обманывает себя, потому что в душе уже знает, что с Соней все кончено, — казнит себя и презирает, но знает это непреложно.
А княжна Марья ничего не знает о Соне. У нее свои муки совести: сейчас, когда только что умер отец, брат тяжело ранен, несчастье нависло над всей страной, она не считает себя вправе думать о своих личных мечтаниях и надеждах. Отсюда « не радостное, но болезненное чувство», овладевшее ею, когда опять появился Ростов, и ее решение держать себя с ним сдержанно.
Но все эти сомнения, все решения, принятые обоими, все рушится само собой, стоит им увидеть друг друга. «Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки».
Мадемуазель Бурьен с изумлением смотрит на княжну марью: она-то умеет принарядить себя бантиками и прической, но не знает она, что любовь преображает человека сильнее, чем любое искусство.
Здесь рассказывается о княжне Марье, Толстой впервые говорит о той внутренней духовной работе, которая делает человека прекрасным. И это была «недовольная собой работа»! Как в Элен самое уродливое- ее постоянное довольство собой, так красота княжны Марьи- в ее страданиях, стремлении к добру, в ее склонности обвинять и упрекать себя.
Соня преданно любила Николая- но в ней самой было того духовного огня, который переполнял Наташу княжну Марью, хотя и по- разному. Соня была своя, понятная, близкая- именно поэтому он не мог восторженно любить ее. Княжна Марья была далека и «он не понимал ее, а только любил».
Это поразительная формула любви, в которой непременно должно оставаться что- то непонятное. Ведь то, что чувствовал Николай : «существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам», — это же чувство владело Пьером, когда он понял, что любить Наташу, и Левиным в его любви к Кати; это чувство необходимо любви, хотя иногда оно бывает обманчиво.
Но ведь жалко Соню. За что судьба обделила ее? Будь она не сиротой, а богатой невестой, все могло обернуться иначе. Для Николая оказалось благом то, что Соня- бесприданница, а княжна Марья богата. Но для Сони.
Есть что-то очень горькое в тех страницах, где рассказано, как Соня решилась освободить Николая от его слова. Так понятен ее скрытый бунт против старой графини, которая сначала измучила Соню намеками и оскорблениями, а потом со слезами молила ее пожертвовать собой и отплатить «за все, что было для нее сделано. »
Старая графиня- прежде всего мать, и мы уже видели, что слепая страсть материнства может толкнуть ее на поступок, по меньшей мере, неблагородный. Но когда она отказалась дать подводы раненым, Наташа в своем бурном порыве пристыдила мать. Почему же теперь Наташа молчит? Ведь сожгла же она себе руку линейкой, чтобы доказать любовь к Соне, — оказывается, совершить этот смелый детский поступок было куда легче, чем изо дня в день спорить с матерью из-за Сони.
Наташе не до того. Возле нее раненный, умирающий князь Андрей- может ли она во всю силу души думать о Соне? Да и любит она свою мать, как вступить с ней в долгий, непрерывный конфликт? Нельзя осудить Наташу, но Соне от этого не легче- старая графиня в своем страстном материнстве поступает неблагородно, и некому удержать ее.
Хотелось бы думать, что любовь всегда- высокое, очищающее чувство. Но это не так: любовь бывает и нечис
Разбирался ли в любви Лев Толстой?
«Есть три рода любви:
1) Любовь красивая,
2) Любовь самоотверженная и
3) Любовь деятельная.
Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот… Я говорю… про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.
Любовь красивая… Для людей, которые так любят, — любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности, как о обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. Для того чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела.
Второго рода любовь — любовь самоотверженная, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. «Нет никакой неприятности, которую бы я не решился сделать самому себе, для того чтобы доказать всему свету и ему или ей свою преданность». Вот формула этого рода любви. Люди, любящие так, никогда не верят взаимности (потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает), всегда бывают болезненны, что тоже увеличивает заслугу жертв; большей частью постоянны, потому что им тяжело бы было потерять заслугу тех жертв, которые они сделали любимому предмету; всегда готовы умереть для того, чтоб доказать ему или ей всю свою преданность, но пренебрегают мелкими ежедневными доказательствами любви, в которых не нужно особенных порывов самоотвержения. Им все равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти; но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви — на это они всегда готовы, ежели только встретится случай.Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.
Третий род — любовь деятельная, заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь, потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет и тем легче им любить, то есть удовлетворять его желания. Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять еще новые желания. Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в нее и счастливы, если имеют ее; но любят все так же даже и в противном случае и не только желают счастия для любимого предмета, но всеми теми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его».*
Инна Шифанова, семейный психолог:
Толстой гениален как писатель, но он ничего не понимает в любви.
Любовь соединяет две личности, каждая из которых имеет собственное достоинство и свои границы. Если есть достоинство, то границы четко определены, и тогда никто не требует ни от себя, ни от другого, чтобы тот соответствовал чужим ожиданиям. Настоящая любовь дает каждому возможность быть собой, не нарушая чужих границ. Требование жертв здесь неуместно, уважение к границам – уместно. Когда есть взаимное уважение, тогда действительно происходит вечное узнавание друг друга, а это и есть главная движущая сила любви.
Если же один хочет узнавать другого ради поощрения его пороков, с целью любоваться своей любовью и своим всепрощением, то это к любви не имеет отношения. Это попытки что-то компенсировать (дефицит внимания, статуса, уверенности в себе, понимания, различные социальные страхи), это любовь не действенная, а дефицитная.
Толстой строит отвлеченные рассуждения, создает схемы и конструкции мира и любви к миру, в них нет конкретики и теплоты настоящей любви к человеку.
Он, мне кажется, здесь описывает самого себя – три собственных реакции на окружающих в зависимости от его собственного настроения. В таких отношениях другой человек – объект, а не субъект. Личности партнера здесь нет. И он, живой человек, чувствует, что речь не о нем, а о мифе про него и о любовании собой. За экстазами можно спрятать любое чувство даже от себя (например, презрение, равнодушие или ненависть).
Три рода любви по Толстому – это три разные стадии негармоничных отношений в любви. Очень частая проблема.
1. Сейчас мы бы это назвали конфетно-букетной стадией. Клиентки обычно говорят: «Он так красиво ухаживал, кто бы мог подумать?!» Обычно здесь и «гений чистой красоты», и ангел. Любовь неземная. Разумеется, неземная! Человек никогда не ангел, но это отрицается. И партнеру предъявляются претензии, как он посмел перестать быть ангелом. Какое право он имеет на несовершенство! Правда, о взаимности они обычно очень даже заботятся, они ревнивы ко всем одновременно «предметам любви».
2. Несчастный «предмет» постоянно ждет, когда же он будет вновь соответствовать прежним восторгам, и делает ошибку – становится жертвой. «Никогда не верят взаимности (потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает)» – именно так. У них есть все основания не верить взаимности, их никто не собирается понимать.
3. Третий тип существует как недостижимый идеал, как цель, к которой должен стремиться другой. Но непонятно, по Толстому, а что же в это время делает «любимый», разрешающий себя любить?
Толстой умел любить человечество, а не человека, поэтому он скрыл за пафосом «про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку» не складывающуюся у него любовь к женщинам. Он видится мне мальчиком-подростком, который уверен, что его не за что любить, потому что он считает себя ужасным преступником и видит свои недостатки страшно преувеличенными, успокаивая себя только тем, что это – пороки, свойственные всему миру. Ему страстно хочется, чтоб его любили несмотря ни на что, жертвенно и безусловно, и при этом хорошо его понимали, угадывали его желания даже без слов и без просьб шли навстречу его потребностям. Его желание любви проникнуто детским эгоизмом. Но он не замечает этого, как не замечает и того, что каждый раз описывает любовь одностороннюю, которая не умеет вступать в диалог с другим человеком и, в сущности, не видит его.
* Подробнее: глава «Любовь» в книге: Л. Толстой «Детство. Отрочество. Юность» (АСТ, Астрель, 2012).
читайте такжеПеснь любви XXI века: что будет, если любить «по правилам»«Война и мир» Льва Толстого
Лев Толстой, Война и мирПроект Гутенберг Электронная книга Льва Толстого "Война и мир" Эта электронная книга предназначена для использования кем угодно и где угодно бесплатно и с почти никаких ограничений. Вы можете скопировать, отдать или повторно использовать его в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, включенной в этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org Название: Война и мир Автор: Лев Толстой Переводчики: Луиза и Эйлмер Мод Дата публикации: 10 января 2009 г. [Электронная книга № 2600] Последнее обновление: 21 января 2019 г. Язык: Английский Кодировка набора символов: UTF-8 *** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK WAR AND PEACE *** Анонимный волонтер и Дэвид Видгер
Лев Толстой / Толстой
СОДЕРЖАНИЕ
КНИГА ПЕРВАЯ: 1805
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
ГЛАВА XXII.
ГЛАВА XXIII.
ГЛАВА XXIV.
ГЛАВА XXV.
ГЛАВА XXVI.
ГЛАВА XXVII.
ГЛАВА XXVIII
КНИГА ВТОРАЯ: 1805
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
КНИГА ТРЕТЬЯ: 1805
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ: 1806
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
КНИГА ПЯТАЯ: 1806-07
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
ГЛАВА XXII.
КНИГА ШЕСТАЯ: 1808 — 10
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
ГЛАВА XXII.
ГЛАВА XXIII.
ГЛАВА XXIV.
ГЛАВА XXV.
ГЛАВА XXVI.
СЕМЬ КНИГ: 1810 — 11
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ВОСЬМАЯ КНИГА: 1811 — 12
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
ГЛАВА XXII.
КНИГА ДЕВЯТАЯ: 1812
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
ГЛАВА XXII.
ГЛАВА XXIII.
КНИГА ДЕСЯТАЯ: 1812
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
ГЛАВА XXII.
ГЛАВА XXIII.
ГЛАВА XXIV.
ГЛАВА XXV.
ГЛАВА XXVI.
ГЛАВА XXVII.
ГЛАВА XXVIII
ГЛАВА XXIX.
ГЛАВА XXX
ГЛАВА XXXI.
ГЛАВА XXXII.
ГЛАВА XXXIII.
ГЛАВА XXXIV.
ГЛАВА XXXV.
ГЛАВА XXXVI.
ГЛАВА XXXVII.
ГЛАВА XXXVIII.
ГЛАВА XXXIX
КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ: 1812
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI.
ГЛАВА XXII.
ГЛАВА XXIII.
ГЛАВА XXIV.
ГЛАВА XXV.
ГЛАВА XXVI.
ГЛАВА XXVII.
ГЛАВА XXVIII
ГЛАВА XXIX.
ГЛАВА XXX
ГЛАВА XXXI.
ГЛАВА XXXII.
ГЛАВА XXXIII.
ГЛАВА XXXIV.
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ: 1812
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
КНИГА ТРИНАДЦАТЬ: 1812
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ: 1812
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ: 1812 — 13
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ГЛАВА XVII.
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ПЕРВЫЙ ЭПИЛОГ: 1813-20
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА XIII.
ГЛАВА XIV.
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI.
ВТОРОЙ ЭПИЛОГ
ГЛАВА I
ГЛАВА II.
ГЛАВА III.
ГЛАВА IV.
ГЛАВА V
ГЛАВА VI.
ГЛАВА VII.
ГЛАВА VIII.
ГЛАВА IX.
ГЛАВА X
ГЛАВА XI.
ГЛАВА XII.
ГЛАВА I
«Что ж, принц, значит, Генуя и Лукка теперь просто фамильные поместья Буонапартес.Но предупреждаю, если ты мне не скажешь, что это война, если вы все еще пытаетесь защитить позор и ужасы, которые Антихрист — я действительно верю, что он антихрист — я буду Больше нечего делать с тобой, и ты больше не мой друг, больше не мой «Верный раб», как вы себя называете! Но как дела? Я вижу у меня есть напугал тебя — сядь и расскажи мне все новости ».
Это было в июле 1805 года, и выступала известная Анна Павловна. Шерер, фрейлина и фаворитка императрицы Марьи Федоровны.С участием этими словами она поприветствовала князя Василия Курагина, человека высокого ранга и важность, кто первым пришел к ней на прием. Анна Павловна кашлял несколько дней. По ее словам, она страдала от la грипп; grippe было тогда новым словом в Санкт-Петербурге, используемым только элита.
Все ее приглашения без исключения, написанные на французском языке и доставленные в то утро лакей в алой ливрее побежал так:
«Если вам нечем заняться, граф (или принц), и если перспектива провести вечер с бедным инвалидом не так уж и страшно, я буду очень рада видеть вас сегодня вечером между 7 и 10 — Аннет Шерер.”
«Небеса! какая опасная атака! » — ответил князь, нисколько смущен этим приемом. Он только что вошел в вышитая форма суда, бриджи до колен и туфли, а на его грудь и безмятежное выражение на его плоском лице. Он говорил в этом изысканном Французский, на котором наши деды не только говорили, но и думали, и с нежная, покровительственная интонация, естественная для важного человека, который состарились в обществе и при дворе.Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, протягивая ей свою лысую, душистую и сияющую голову, и самодовольно уселся на диван.
«Прежде всего, дорогой друг, расскажи мне, как ты. Настрой своего друга на отдыхай, — сказал он, не меняя тона, под вежливостью и притворная симпатия, в которой можно было различить безразличие и даже иронию.
«Можно ли быть здоровым, страдая морально? Можно ли быть спокойным в такие времена, как эти, если есть какие-нибудь чувства? » — сказала Анна Павловна.«Вы остаетесь весь вечер, надеюсь?
«А праздник у английского посла? Сегодня среда. Я должен положить в появлении там, — сказал князь. «Моя дочь идет за мной, чтобы возьми меня туда.»
«Я думала, сегодняшний праздник отменен. Признаюсь во всех этих празднествах и фейерверки становятся утомительными ».
«Если бы они знали, что вы этого желаете, развлечение было бы отложить, — сказал князь, который, как заводные часы, по привычке говорил вещи, которым даже не хотел, чтобы ему верили.
«Не дразнишь! Ну, а что решено с Новосильцевым? отправка? Ты знаешь все.»
«Что можно сказать об этом?» ответил князь холодным, вялым тоном. «Что было решено? Они решили, что Буонапарте сжег свой лодки, и я считаю, что мы готовы сжечь нашу ».
Князь Василий всегда говорил томно, как актер, повторяющий несвежий часть.Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, переполнены оживлением и импульсивностью. Чтобы быть энтузиастом, пришлось стать ее социальным призванием, а иногда даже когда она не чувствовала она воодушевилась, чтобы не обмануть ожидания те, кто ее знал. Приглушенная улыбка, которая, хотя и не подходила ей блеклые черты лица, всегда играющие вокруг губ, выраженные, как в избалованном ребенок, постоянное сознание своего очаровательного недостатка, который она ни желал, не мог и не считал необходимым исправить.
В разгар разговора на политические темы ворвалась Анна Павловна. вне:
«О, не говори мне об Австрии. Возможно, я чего-то не понимаю, но Австрия никогда не желала и не желает войны. Она нас предает! Только Россия должна спасти Европу. Наш милостивый государь признает свой высокий призвание и буду верен ему. Это единственное, во что я верю! Наш добрый и прекрасный государь должен исполнить самую благородную роль на земле, и он настолько добродетелен и благороден, что Бог не оставит его.Он будет выполнить свое призвание и сокрушить гидру революции, которая стала страшнее, чем когда-либо, в лице этого убийцы и злодея! Мы один должен отомстить за кровь праведника … Кого, я вас прошу, можем ли мы полагаться на? … Англия с ее коммерческим духом не будет и не может понять возвышенность души императора Александра. Она отказалась эвакуировать Мальту. Она хотела найти и до сих пор ищет какой-то тайный мотив в наши действия.Какой ответ получил Новосильцев? Никто. Англичане не понимал и не может понять самоотречение нашего Императора, который ничего не хочет для себя, а только желает блага человечества. И что они обещали? Ничего! И то немногое, что они обещали, они сделают не выполнять! Пруссия всегда заявляла, что Буонапарт непобедим, и что вся Европа бессильна перед ним …. И я не верю ни единому слову что говорит Гарденбург, или Хаугвиц тоже.Этот знаменитый прусский нейтралитет это просто ловушка. Я верю только в Бога и в высокую судьбу наших обожал монарха. Он спасет Европу! »
Внезапно она остановилась, улыбаясь собственной порывистости.
«Я думаю, — сказал князь с улыбкой, — если бы тебя послали вместо нашего дорогого Винцингерода вы бы взяли в плен короля Согласие Пруссии штурмом. Вы так красноречивы.Дашь мне чашку чая? »
«В настоящее время. А предложение , — добавила она, снова успокаиваясь, — я ждут сегодня двух очень интересных людей, ле Виконта де Мортемара, который связан с Монморенси через Роханов, один из лучших Французские семьи. Он один из настоящих эмигрантов , хороших. А также аббат Морио. Вы знаете этого глубокого мыслителя? Он был получил император.Вы слышали?
«Я буду счастлив познакомиться с ними», — сказал принц. «Но скажи мне», он добавил с нарочитой небрежностью, как будто это только что пришло ему в голову, хотя вопрос, который он собирался задать, был главным мотивом его визита, «Правда ли, что вдовствующая императрица хочет, чтобы барон Функе был назначен первый секретарь в Вене? Барон, по общему мнению, бедное существо.
Князь Василий хотел получить эту должность для своего сына, но другие были пытаясь через вдовствующую императрицу Марью Федоровну закрепить его за барон.
Анна Павловна почти закрыла глаза, показывая, что ни она, ни любой другой имел право критиковать то, что Императрица желала или доволен.
«Барона Функе порекомендовала вдовствующая императрица ее сестра», — вот все, что она сказала сухим и печальным тоном.
Когда она назвала императрицу, лицо Анны Павловны внезапно приняло выражение глубокой и искренней преданности и уважения в сочетании с грусть, и это происходило каждый раз, когда она упоминала о своей знаменитой покровительница.Она добавила, что Ее Величество соизволила показать барону Функе beaucoup. d’estime , и снова ее лицо омрачилось печалью.
Князь молчал и смотрел равнодушно. Но с женственной и придворной быстроты и привычного ей такта, Анна Павловна пожелала упрекнуть его (за то, что он осмелился говорить так, как он сделал, о человеке, рекомендованном Императрица) и в то же время утешить его, поэтому она сказала:
«Теперь о твоей семье.Вы знаете, что с тех пор, как вышла ваша дочь все были в восторге от нее? Говорят, она потрясающе красива ».
Принц поклонился в знак уважения и признательности.
«Я часто думаю», — продолжила она после короткой паузы, приближаясь к принца и дружелюбно улыбаясь ему, как бы показывая, что политический и социальный темы были закончены, и пришло время для задушевного разговора: «Я часто задумываются, как несправедливо иногда распределяются радости жизни.Зачем Судьба подарила вам двоих таких прекрасных детей? Я не про Анатоля говорю, ваш младший. Он мне не нравится, — добавила она тоном, возражает и поднимает брови. «Двое таких очаровательных детей. А также на самом деле вы цените их меньше, чем кто-либо, и поэтому вы не заслуживаете есть их. »
И она улыбнулась своей восторженной улыбкой.
«Ничего не могу поделать, — сказал князь.«Лафатер сказал бы, что мне не хватает шишка отцовства ».
«Не шутите; Я хочу серьезно поговорить с тобой. Ты знаешь, что я недовольны своим младшим сыном? Между нами »(и ее лицо принял его меланхолическое выражение), «он упоминался у Ее Величества и вас пожалели … »
Князь ничего не ответил, но она многозначительно посмотрела на него, ожидая ответ.Он нахмурился.
«Что бы вы мне сделали?» — сказал он наконец. «Вы знаете, я сделал все отец могли за их образование, и они оба оказались дураками. Ипполит по крайней мере тихий дурак, но Анатоль активный. Это единственный разница между ними. » Он сказал это, улыбаясь более естественно и оживлен, чем обычно, так что морщинки вокруг рта очень четко обнаружил что-то неожиданно грубое и неприятное.
«А почему у таких мужчин, как ты, рождаются дети? Если бы ты не был отцом — сказала Анна Павловна, — задумчиво глядя вверх.
«Я твой верный раб и только тебе могу признаться, что мои дети проклятие моей жизни. Это крест, который я должен нести. Вот как я объясни это себе. Ничего не поделаешь! »
Больше он ничего не сказал, но жестом выразил свое смирение с жестокой судьбой.Анна Павловна размышляла.
«Вы никогда не думали выйти замуж за своего блудного сына Анатоля?» она спросила. «Говорят, у старых горничных есть мания сватовства, и хотя я не чувствую эта слабость в себе пока что я знаю маленького человека, который очень несчастен с отцом. Она ваша родственница, княгиня Марья Болконская.
Князь Василий, однако, не ответил с быстротой памяти и восприятие, подобающее человеку мира, он обозначал движением голова, что он рассматривает эту информацию.
«Вы знаете», — сказал он наконец, видимо не в силах сдержать печальное течение его мыслей, «что Анатоль обходится мне в сорок тысяч рублей в год? И, — продолжил он после паузы, — что будет через пять лет, если он вот так? » Вскоре он добавил: «Это то, что мы, отцы, должны терпеть. с …. Эта твоя принцесса богата? »
«Ее отец очень богат и скуп.Он живет в деревне. Он известный князь Болконский, вынужденный уволиться из армии при покойном Императором, и его прозвали «королем Пруссии». Он очень умен, но эксцентричный и расточенный. Бедная девочка очень несчастна. У нее есть брат; я Думаю, вы его знаете, недавно он женился на Лизе Майнен. Он адъютант Кутузова и буду здесь сегодня вечером ».
«Послушайте, дорогая Аннетт», — сказал князь, внезапно взяв письмо Анны Павловны. рука и почему-то тянет ее вниз.«Устрой мне это дело. и я всегда буду вашим самым преданным рабом- slafe с f , как пишет в своих отчетах один деревенский старейшина. Она богата и хороша семья, и это все, что я хочу.
И с присущей ему фамильярностью и легкой грацией он поднял поднесла руку фрейлины к его губам, поцеловала и размахивала ею, пока он откинулся в кресле, глядя в другую сторону.
«Аттендес», — сказала Анна Павловна, размышляя: «Я поговорю с Лизой, жена молодого Болконского, сегодня же вечером, и, возможно, устроил. От имени вашей семьи я начну ученичество старой девы ».
ГЛАВА II.
Гостиная Анны Павловны постепенно наполнялась. Самый высокий Петербург там было собрано общество: люди очень разные по возрасту и характеру но похожи в кругу общения, к которому они принадлежали.Князя Василия дочь, красавица Элен, приехала за отцом в посольские развлечения; на ней было бальное платье и значок горничной честь. Юная маленькая княгиня Болконская, известная как la femme la плюс séduisante de Pétersbourg , * тоже был там. Она была замужем в течение предыдущей зимы, и беременность не пошла на большие посиделки, но только до небольших приемов. Сын князя Василия Ипполит, пришел с Мортемартом, которого он представил.Аббат Морио и многие другие другие тоже пришли.
* Самая очаровательная женщина Петербурга.
Каждому новому приезду Анна Павловна говорила: «Вы еще не видели мою тетю». или «Вы не знаете мою тетю?» и очень серьезно повела его или ее в маленькая старушка с большими бантами из лент на фуражке, пришедшая заходить из другой комнаты, как только начали приходить гости; а также медленно переводя взгляд с гостя на тетю Анну Павловну назвал имена каждого и оставил их.
Каждый посетитель совершал обряд приветствия этой старой тети, которую ни одна из них знал, никто из них не хотел знать, и никто из них не заботился около; Анна Павловна встретила эти приветствия скорбно и торжественно. интерес и молчаливое одобрение. Тетя говорила с каждым из них одинаково слова, об их здоровье и ее собственном, и здоровье Ее Величества, «Который, слава Богу, сегодня был лучше». И каждый посетитель хоть в вежливости предотвратил его нетерпение, оставил старуху с чувством облегчение от того, что выполнила досадный долг и не вернула ей Весь вечер.
Юная княгиня Болконская привезла работы в вышитом золотом бархатная сумка. Ее хорошенькая верхняя губа, на которой был нежный темный пух. едва заметно, был слишком короток для ее зубов, но тем более приподнят сладко, и было особенно очаровательно, когда она иногда рисовала встречайте нижнюю губу. Как всегда бывает с очень привлекательным женщина, ее недостаток — короткая верхняя губа и полуоткрытая рот — казалось, был ее особой и своеобразной красотой.Все обрадовались при виде этой красивой молодой женщины, так скоро стать матерью, такой полной жизни и здоровья, и несущей свою ношу так слегка. Старики и унылые, унылые молодые, которые смотрели на нее после находясь в ее компании и немного поговорив с ней, им показалось, что они тоже становились, как и она, полными жизни и здоровья. Все, с кем разговаривали ее, и при каждом слове видел ее яркую улыбку и постоянный блеск ее белые зубы, подумал, что в тот день у них было особенно любезное настроение.
Маленькая принцесса обошла стол быстрыми, короткими, покачивающимися шагами, сумку на руке, и, весело расправив платье, села на диван возле серебряного самовара, как будто все, что она делала, было приятно сама и все вокруг нее. «Я принесла свою работу», — сказала она в Френч показывает свою сумку и обращается ко всем присутствующим. «Помни, Аннет, я надеюсь, ты не сыграл со мной злую шутку, — добавила она, обращаясь к ней. хозяйка.«Вы писали, что это будет довольно небольшой прием и просто посмотри, как плохо я одета. И она раскинула руки, чтобы показать ей изящное серое платье с короткой талией и кружевной отделкой, лента чуть ниже груди.
« Soyez tranquille, Lise , ты всегда будешь красивее всех. иначе, — ответила Анна Павловна.
«Вы знаете, — сказала принцесса тем же тоном, но все еще в Француз, обращаясь к генералу, «муж меня бросает? Он собирается убить себя.Скажи мне, для чего нужна эта жалкая война? » она добавила, обращаясь к князю Василию, и, не дожидаясь ответа, обратилась к поговорите с его дочерью, прекрасной Элен.
«Какая прелестная женщина эта маленькая принцесса!» сказал князь Василий Анна Павловна.
Одним из следующих прибывших был плотный, крепко сложенный молодой человек с коротко остриженные волосы, очки, светлые бриджи, модные в в то время очень высокая оборка и коричневый фрак.Этот толстый молодой человек был внебрачным сыном графа Безухова, известного вельможи Екатерининское время, которое сейчас умирает в Москве. Молодой человек еще не поступил на военную или государственную службу, так как только что вернулся из-за границы, где он получил образование, и это было его первое появление в обществе. Анна Павловна поприветствовала его кивком, который она низшая иерархия в ее гостиной. Но, несмотря на низкосортный приветствие, взгляд тревоги и страха, как при виде чего-то тоже большой и непригодный для этого места, — она заметила ее лицо, когда она увидела Пьера войти.Хотя он определенно был намного крупнее других мужчин в комнаты, ее беспокойство могло иметь отношение только к умным, хотя и застенчивым, но наблюдательный и естественный, выражение которого отличало его от всех еще в гостиной.
«Очень хорошо с вашей стороны, мсье Пьер, прийти навестить бедного инвалидом, — сказала Анна Павловна, обменявшись встревоженным взглядом с тетей. как она проводила его к себе.
Пьер пробормотал что-то невнятное и продолжал оглядываться. если в поисках чего-то. По дороге к тете он поклонился маленькому принцесса с довольной улыбкой, как при интимном знакомстве.
Тревога Анны Павловны была оправдана: Пьер отвернулся от тети. не дожидаясь ее выступления о здоровье Ее Величества. Анна Павловна в ужасе задержала его со словами: «Вы знаете аббата? Морио? Он очень интересный человек.”
«Да, я слышал о его плане вечного мира, и это очень интересно, но вряд ли осуществимо ».
«Ты так думаешь?» — возразила Анна Павловна, чтобы что-то сказать и получить прочь, чтобы выполнять свои обязанности хозяйки. Но теперь Пьер совершил обратный акт невежливости. Сначала он оставил даму до того, как она закончил говорить с ним, и теперь он продолжал говорить с другим, кто хотел уйти.Склонив голову и расставив большие ноги, он начал объяснять причины, по которым он считал план аббата химерическим.
«Мы поговорим об этом позже», — сказала Анна Павловна с улыбкой.
И, избавившись от этого молодого человека, который не умел себя вести, она возобновила свои обязанности хозяйки и продолжала слушать и смотреть, готовая помощь в любой момент, когда разговор может затихнуть.Поскольку бригадир прядильной фабрики, когда он пустил руки в работу, обходит и замечает здесь остановившийся шпиндель или скрипящий или издает больше шума, чем следовало бы, и спешит проверить машину или установить в правильном движении, так Анна Павловна ходила по гостиной, приближаясь то к тихой, то к слишком шумной группе, и словом или легким перестановка поддерживала разговорный аппарат в устойчивом, правильном и регулярное движение.Но среди этих забот было очевидным ее беспокойство за Пьера. Она с тревогой наблюдала за ним, когда он подходил к группе. Мортемарта, чтобы послушать, что там говорилось, и снова, когда он проходил другой группе, центром которой был аббат.
Пьер получил образование за границей, и этот прием у Анны Павловны был первый, который он посетил в России. Он знал, что все интеллектуалы там собрались огни Петербурга и, как ребенок в магазине игрушек, не знал, куда смотреть, боялся пропустить умный разговор это должно было быть услышано.Видя уверенное и изысканное выражение лица на лица присутствующих он всегда ожидал услышать что-нибудь очень глубокий. Наконец он подошел к Морио. Здесь разговор казался интересно, и он стоял, ожидая возможности выразить свое собственное взгляды, чем увлекается молодежь.
ГЛАВА III.
Прием Анны Павловны был в самом разгаре.Шпиндели ровно гудели и непрестанно со всех сторон. За исключением тети, рядом с которой сидела только одна пожилая дама, которая с тонким озабоченным лицом места в этом блестящем обществе, вся компания обосновалась в три группы. Один, в основном мужской, сформировался вокруг аббата. Другая, молодых людей собрались вокруг прекрасной принцессы Элен, принца Дочь Василия и маленькая княгиня Болконская, очень хорошенькая и розовая, хотя и слишком пухлая для ее возраста.Собралась третья группа вокруг Мортемарта и Анны Павловны.
Виконт был симпатичным молодым человеком с мягкими чертами лица и полировкой. манеры, который, очевидно, считал себя знаменитостью, но не вежливость скромно предоставил себя в распоряжение круга, в котором он нашел себя. Анна Павловна явно угощала его ее гости. Поскольку умный метрдотель — это особый выбор деликатес кусок мяса, который никто из тех, кто видел его на кухне, не стал бы позаботились поесть, поэтому Анна Павловна обслуживала своих гостей, сначала Виконт, а затем аббат, в качестве особо изысканных блюд.Группа о Мортемар сразу же начал обсуждать убийство герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб в одиночку. великодушие, и что у Буонапарта были особые причины ненависть к нему.
«О да! Расскажите нам об этом, Виконт, — сказала Анна Павловна, приятное ощущение, что было что-то а ля Людовик XV в звучание этого предложения: «Contez nous çela, Vicomte.”
Виконт поклонился и вежливо улыбнулся в знак своей готовности соблюдать. Анна Павловна устроила вокруг него группу, приглашая всех послушайте его рассказ.
«Виконт знал герцога лично», — шепнула Анна Павловна одному из гости. «Виконт — прекрасный рассказчик», — сказала она другому. «Как очевидно, что он принадлежит к лучшему обществу», — сказала она третьему; а также ви
Лев Толстой | Биография, книги и факты
Лев Николаевич Толстой был российским писателем, наиболее известным своими романами «Война и мир» и «Анна Каренина», которые считаются величайшими романами реалистической фантастики.Толстой также многими считается лучшим романистом мира. Помимо романов, Толстой писал рассказы, очерки и пьесы. Будучи нравственным мыслителем и социальным реформатором, Толстой придерживался строгих моралистических взглядов. Позже он стал ярым христианским анархистом и анархо-пацифистом. Его подход ненасильственного сопротивления к жизни был выражен в его работах, таких как «Царство Божье внутри вас», которое, как известно, оказывает глубокое влияние на важных деятелей 20-го века, в частности, на Мартина Лютера Кинга-младшего.и Мохандас Ганди.
Лев Толстой родился в Ясной Поляне 9 сентября 1828 года и принадлежал к известной дворянской семье. Он был четвертым среди пяти детей графа Николая Ильича Толстого и графини Марии Толстой, оба из которых умерли, оставив своих детей на воспитание родственникам. Желая поступить на факультет восточных языков Казанского университета, Толстой подготовился к вступительным экзаменам, изучив арабский, турецкий, латинский, немецкий, английский и французский языки, а также географию, историю и религию.В 1844 году Толстой был принят в Казанский университет. Не имея возможности получить высшее образование после второго курса, Толстой вернулся в Яснавскую Поляну, а затем стал путешествовать между Москвой и Санкт-Петербургом. Обладая некоторым практическим знанием нескольких языков, он стал полиглотом. Вновь обретенный юноша привлекал Толстого к выпивке, посещению публичных домов и, прежде всего, к азартным играм, что привело его к тяжелым долгам и агонии, но Толстой вскоре осознал, что ведет жестокую жизнь, и снова попытался сдать университетские экзамены в надежде, что получит должность правительство, но в итоге оказался на Кавказе, служа в армии по стопам своего старшего брата.Именно в это время Толстой начал писать.
В 1862 году Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс, которую чаще звали Соня, которая была на 16 лет моложе его. У пары было тринадцать детей, пятеро из которых умерли в раннем возрасте. Соня выполняла функции секретаря, корректора и финансового менеджера Толстого, когда он написал два своих величайших произведения. Их ранняя супружеская жизнь была наполнена удовлетворением. Однако отношения Толстого с женой ухудшились, поскольку его убеждения становились все более радикальными, вплоть до отказа от унаследованного и заработанного богатства.
Толстой начал писать свой шедевр «Война и мир» в 1862 году. Шесть томов этого труда были опубликованы между 1863 и 1869 годами. В этом великом романе, состоящем из 580 персонажей из истории и других персонажей, созданных Толстым, исследуются теория истории и незначительность таких известных фигур, как Александр и Наполеон. Следующая эпопея Толстого «Анна Каренина» была начата в 1873 году и полностью опубликована в 1878 году. Среди его первых публикаций — автобиографические произведения, такие как «Детство, отрочество и юность» (1852–1856).Хотя это произведения художественной литературы, романы раскрывают аспекты жизни и опыта Лео. Толстой был мастером написания о русском обществе, свидетельство чего представлено в книге «Казаки» (1863). Его более поздние произведения, такие как «Смерть Ивана Ильича» (1886) и «Что делать?» (1901) сосредоточены на христианских темах.
В последние годы жизни Толстой все больше склонялся к аскетической морали и твердо верил в Нагорную проповедь и ненасильственное сопротивление. 20 ноября 1910 года Лев Толстой скончался в возрасте 82 лет от пневмонии.
Купить Книги Льва Толстого
Лев Толстой
Золотые годы
В сентябре 1862 года Толстой писал своей тете Александре: «Я, старый беззубый дурак, влюбился». Ему было всего 34 года, но он был на 16 лет старше Софьи Андреевны Берс (или Берс), мать которой была одной из подруг детства Толстого. Дочь известного московского врача, Берс была красивой, умной и, как покажут годы, волевой. Первое десятилетие их брака принесло Толстому величайшее счастье; Никогда ни до, ни после его творческая жизнь не была такой насыщенной, а личная — такой насыщенной.В июне 1863 года у его жены родился первый из 13 детей.
Запись в дневнике его жены от 28 октября 1863 года гласит: «Рассказ о 1812 году; он очень увлечен этим». И действительно, Толстой был. С 1861 года он пытался написать исторический роман о восстании декабристов 1825 года. Но чем больше работал, тем дальше уходил в прошлое. Первая часть книги « Война и мир » была опубликована в 1865 году (в «Русском вестнике , ») как «1805 год». В 1868 г. появились еще три главы; а в 1869 году он завершил роман.Критики несколько пренебрегли Толстым в предыдущие годы, потому что он не участвовал в жестокой литературной политике того времени. Но его новый роман вызвал фантастическую реакцию публики и критиков.
Война и мир — это апогей в истории мировой литературы, но он также был звездным часом личной жизни Толстого. Он населял свой огромный холст почти всеми, кого когда-либо встречал, включая всех своих родственников по обе стороны своей семьи.Поступая так, он прославлял патриархальный образ жизни — богатый деревенскими радостями и блистательный городской радостью. Шары и битвы, рождение и смерть — все было подробно и подробно описано. В этой книге европейский реалистический роман с его вниманием к социальной матрице, точному описанию и психологической интерпретации нашел свое наиболее полное выражение.
Гениальные сцены застолья и охоты были отражением большого личного счастья Толстого в то время. Его поместье процветало, и он был глубоко влюблен в свою жену.Она поклонялась своему мужу, делая все, что в ее силах, чтобы освободить его от всего, кроме его писательского мастерства. Их сын Илья сообщил, что она семь раз переписала полный текст Войны и мира .
Но даже в этот год величайшего успеха Толстого стали проявляться зловещие знаки будущего. Блестящая риторика тех отрывков из книги «Война и мир » года, в которой Толстой отстаивал свою собственную идиосинкразическую теорию истории, была обязана часто резкому тону последующего непримиримого моралиста.В разгар своего счастья в 1869 году Толстой пережил глубокую и загадочную личную травму. Путешествуя купить имение в Пензенской губернии, он ночевал в Арзамасе. Проснувшись от кошмара, он почувствовал, что умирает. И снова, как и когда Николай умер, ему напомнили о его смертности, и его так называемое обращение 1880 года, в некотором смысле, можно отнести к этому опыту.
Следующие 10 лет Толстого были не менее насыщенными. Он опубликовал «Букварь » и первые четыре «Читателя » (1872–1875), свои попытки обратиться к аудитории, в которую входили бы дети и недавно образованное крестьянство.С 1873 по 1877 год он работал над вторым своим шедевром, «Анна Каренина», , который также произвел фурор после своей публикации. Заключительный раздел романа был написан во время очередной, казалось бы, бесконечной войны России с Турцией. Страна находилась в патриотическом брожении. М. Н. Катков, редактор журнала, в котором серийно появлялась Анна Каренина , боялся печатать заключительные главы, в которых содержалась критика военной истерии. Толстой в ярости отобрал текст у Каткова и с помощью Н.Страхова издал отдельное издание, имевшее огромные продажи.
Роман частично основан на событиях, произошедших в соседнем имении, где отвергнутая любовница дворянина бросилась под поезд. Он снова содержал большие отрывки замаскированной биографии, особенно в сценах, описывающих ухаживания и брак Китти и Левина. Семья Толстого продолжала расти, а гонорары делали его чрезвычайно богатым человеком.
Дань памяти Троцкого 1908 году Льву Толстому
Великий русский писатель Лев Толстой умер сто лет назад, 20 ноября 1910 года.Хотя многие писатели превозносят его, одна из лучших дань уважения Толстому пришла за два года до его смерти, когда Лев Троцкий написал эту статью в честь восьмидесятилетия Толстого. Впервые он был опубликован на немецком языке в номере Die Neue Zeit 18 сентября 1908 г .; затем в русском переводе в томе 20 произведений Троцкого за 1926 год; и, наконец, в английском переводе Джона Г. Райта в журнале Fourth International за май-июнь 1951 года под заголовком «Толстой, поэт и бунтарь.”В исходный английский перевод были внесены незначительные изменения. Некоторые примечания были адаптированы из русского издания 1926 года.
Портрет Толстого на портрете Ильи РепинаТолстой исполнилось 80 лет, и теперь он стоит перед нами, как огромная зубчатая скала, покрытая мхом, из другого исторического мира.
Замечательная вещь! Не только Карл Маркс, но и — если цитировать имя из области, более близкой к толстовской — Генрих Гейне, кажется, также являются современниками наших.Но от нашего великого современника Ясной Поляны нас уже отделяет необратимый поток времени, который все различает.
Этому человеку было 33 года, когда в России отменили крепостное право. Как потомок «десяти поколений, не тронутых трудом», он повзрослел и сформировался в атмосфере старого дворянства, среди унаследованных акров, в просторном поместье и в тени липовых переулков, такой спокойной и патрицианской.
Традиции помещичьего господства, его романтизм, его поэзия, весь его образ жизни были неотразимо впитаны Толстым и стали органической частью его духовного облика.С первых лет своего сознания он был, и остается по сей день, аристократом , в самых глубоких и самых сокровенных тайниках своего творчества; и это, несмотря на все его последующие духовные кризисы.
В вотчине князей Волконских, унаследованной семьей Толстых, автор книги «Война и мир » занимает простую, скромно обставленную комнату, в которой висит ручная пила, стоит коса и лежит топор. Но на верхнем этаже этого же жилища, словно каменные хранители его традиций, прославленные предки целого ряда поколений несут стражу со стен.В этом есть символ. Мы находим оба этажа также в самом сердце хозяина дома, только в перевернутом порядке. Если на вершинах сознания философия простой жизни и самопогружения в людях сплела себе гнездо, то снизу, откуда берутся эмоции, страсти и воля, смотрят на нас сверху вниз. длинная галерея предков.
В гневе раскаяния Толстой отрекся от лживого и мирского суетного искусства господствующих классов, прославляющего их искусственно культивируемые вкусы и окутывающего их кастовые предрассудки лести фальшивой красоты.Но что случилось? В своей последней крупной работе, Воскресение , Толстой по-прежнему помещает в центр своего художественного внимания одного и того же богатого и знатного русского помещика, столь же бережно окружая его золотой паутиной аристократических связей, привычек и воспоминаний, как и если бы вне этой «мирской суетной» и «ложной» вселенной не было ничего важного или прекрасного.
От помещичьей усадьбы короткая и узкая тропинка ведет прямо к избе крестьянина.Поэт Толстой имел обыкновение произносить этот отрывок часто и с любовью еще до того, как Толстой-моралист превратил его в путь спасения. Даже после отмены крепостного права он продолжает рассматривать крестьянина как «своего» — неотъемлемую часть своего материального и духовного достояния. Из-за несомненную «физическую любовью к подлинному трудящемуся народу» Толстого, о котором он сам говорит нам, там смотрит на нас, так же, как, несомненно, его коллективный аристократический предок только озаренный гением художника.
Арендодатель и мужик — это, в конечном счете, единственные люди, которых Толстой целиком принял в свое творческое святилище. Но ни до, ни после своего духовного кризиса он никогда не был способен и не стремился освободиться от чисто патрицианского презрения ко всем тем фигурам, которые стоят между помещиком и крестьянином или тем, кто занимает должности за священными полюсами мира. этот древний орден немецкий суперинтендант, купец, французский наставник, врач, «интеллектуал» и, наконец, фабричный рабочий с часами и цепочкой.Толстой никогда не чувствует потребности понять этих людей, заглянуть в их души или расспросить их об их вере. И они проходят перед его взором художника, как множество незначительных и во многом комичных силуэтов. Когда он действительно создает образы революционеров семидесятых или восьмидесятых, как, например, в Resurrection , он просто адаптирует свои старые помещичьи и крестьянские типы к новой среде или предлагает нам чисто внешние и юмористические зарисовки.
В начале шестидесятых, когда поток новых европейских идей и, что более важно, новых социальных отношений прокатился по России, Толстой, как я уже сказал, оставил позади уже треть века: психологически он уже был сформирован.
Излишне напоминать, что Толстой не стал апологетом крепостного права, как его близкий друг Фет (Шеншин), помещик и тонкий лирический поэт, в сердце которого нежная восприимчивость к природе и любви сочеталась с обожанием земного поклона перед целительным ударом плети. феодализма. Но Толстой проникся глубокой ненавистью к новым общественным отношениям, пришедшим на смену старым. «Лично я не замечаю никакого улучшения нравственности, — писал он в 1861 году, — и не собираюсь верить никому на слово.Я не считаю, например, что отношения между фабрикантом и рабочим более гуманными, чем отношения между помещиком и крепостным ».
Везде и везде царила суматоха и суматоха, происходило разложение старого дворянства, разложение крестьянства, всеобщий хаос, мусор и мусор разрушения, шум и шум городской жизни, таверна и т. сигарета в деревне, фабричный лимерик вместо народной песни — и все это отталкивало Толстого и как аристократа, и как художника.Психологически он отвернулся от этого титанического процесса и навсегда отказался от художественного признания. У него не было внутреннего побуждения защищать феодальное рабство, но он искренне оставался на стороне тех связей, в которых он видел мудрую простоту и которые он мог раскрыть в художественно совершенные формы.
Здесь жизнь воспроизводится из поколения в поколение и из века в век во всей ее неизменности. Здесь всем правит священная необходимость. Каждый шаг зависит от солнца, дождя, ветра и зеленой травы.Ничего не происходит ни по собственному разуму, ни по бунтарской воле индивида, и поэтому личной ответственности тоже не существует. Все предопределено, все заранее оправдано, освящено. Ни за что не отвечающий, ничего не придумывая сам, человек живет только тем, что слушает и подчиняется , — говорит Успенский, замечательный поэт из «Владыки земли». И это постоянное слушание и повиновение, превращенное в непрекращающийся труд, именно то, что формирует жизнь , которая внешне не приводит ни к каким результатам, но имеет свой результат в самом себе… И о чудо! Эта тяжелая зависимость — без размышлений или выбора, без ошибок или мук покаяния — и есть то, что дает начало великому моральному « легкость » существования под суровой опекой «колосьев ржи». Микула Сельянинович, крестьянский герой народного эпоса, говорит о себе: «Я — , возлюбленный сырой матери-земли».
Таков религиозный миф о русском народничестве, десятилетиями господствовавший в сознании русской интеллигенции. Каменный глухой к его радикальным тенденциям, Толстой всегда оставался личным и представлял в народническом движении его аристократическое консервативное крыло.
Толстой отталкивало новое, и чтобы художественно создать русскую жизнь такой, какой он ее знал, понимал и любил, он был вынужден уйти в прошлое, в самое начало XIX века. Война и мир (написано в 1867-69) — его лучшая и непревзойденная работа.
Безличный массовый характер жизни и ее священная безответственность воплотились Толстым в образе Каратаева, наименее понятном для европейского лидера; во всяком случае, дальше всего от него.
«Жизнь Каратаева, в его понимании, не имела смысла как индивидуальная жизнь. Он имел значение лишь как малая частица большого целого, которое Каратаев постоянно чувствовал. Привязанности, дружбы и любви, как их понимал Пьер, у Каратаева не было. Он любил и нежно жил со всем, с чем его соприкасала жизнь, и особенно с людьми … Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю его нежную нежность к нему, ни на минуту не горевал об их разлуке.
Это та стадия, когда дух, как выразился Гегель, еще не достиг внутреннего самосознания и поэтому проявляет себя только как дух, пребывающий в природе. Несмотря на свое эпизодическое появление, Каратаев является философской, если не художественной осью года «Войны и мира «; а Кутузов, которого Толстой превращает в национального героя, — это тот самый Каратаев, только в должности главнокомандующего. В отличие от Наполеона, у Кутузова нет личных планов, никаких личных амбиций.В своей полусознательной тактике он руководствуется не разумом, а тем, что возвышается над разумом смутным инстинктом физических условий и побуждениями духа народа. Царь Александр в более светлые моменты своей жизни, как и меньший из солдат Кутузова, все в равной степени находятся под властью земли … В этом нравственном единстве — пафос книги Толстого.
Каким жалким на самом деле является эта Старая Русь с ее обездоленным историей благородством, без элегантного прошлого иерархических сословий, без крестовых походов, без рыцарской любви и рыцарских турниров, без даже романтических разбоев на шоссе.Насколько бедны в плане внутренней красоты; Какое безжалостное ограбление крестьянских масс на фоне их общего полузоологического существования!
Но какое чудо перевоплощения творит гений! Из сырья этой серой и бесцветной жизни он извлекает ее тайную красоту. С гомеровским спокойствием и с гомеровской любовью к детям он одаривает своим вниманием все и вся: Кутузова, дворянских слуг, кавалерийскую лошадь, юную графиню, мужика, царя, вошь на солдате, пожилого масона он не отдает предпочтения никому из них, никого не лишает своей доли.Шаг за шагом, штрих за штрихом, он создает безграничную панораму, части которой неразрывно связаны между собой внутренней связью. В своем творчестве Толстой так же нетороплив, как и изображаемая им жизнь. Страшно сказать, но он переписал свою колоссальную книгу семь раз … Пожалуй, самое поразительное в этом титаническом произведении то, что художник не позволяет ни себе, ни читателю привязываться к какому-либо отдельному персонажу. Он никогда не выставляет своих героев на всеобщее обозрение, как Тургенев, которого не любил Толстой, среди взрывов петард и ярких вспышек магниевых ракет.Он не ищет для них ситуаций, которые выгодно им выгодны; он ничего не скрывает, ничего не подавляет. Неугомонный искатель истины Пьер Безухов показывает нам в конце самодовольным семьянином и счастливым помещиком; Наташа Ростова, такая трогательная в своей полудетской чувствительности, он с божественной беспощадностью превращается в мелкую размножающуюся самку с неопрятными пеленками в руке. Но из-за этого, казалось бы, безразличного внимания к отдельным частям вырастает могучий апофеоз целого, где все дышит духом внутренней необходимости и гармонии.Возможно, было бы правильно сказать, что это творческое усилие пронизано эстетическим пантеизмом , для которого нет ни красоты, ни уродства, ни великого, ни малого, потому что оно считает великим и прекрасным только всю саму жизнь, в вечном круговороте его проявлений. Это сельскохозяйственная эстетика , безжалостно консервативная по своей природе, и она создает родство между эпосом Толстого и Пятикнижием или Илиадой .[1]
Две недавние попытки Толстого найти место психологическим образам и «красивым типам», к которым он чувствует наибольшую близость в рамках исторического прошлого ― во времена Петра Первого и декабристов 1825 года имеют была разбита враждебностью художника к иностранным влияниям, которые так резко окрашивают оба этих периода. Но даже там, где Толстой наиболее близко подходит к нашему времени, как в году Анна Каренина (1877), он остается внутренне чуждым господствующим разногласиям и непреклонно упрямым в своем художественном консерватизме, сужая пределы своего горизонта и выделяя вся русская жизнь только уцелевшие оазисы аристократии, с древней прародиной, родовыми портретами и роскошными липовыми аллеями, в тени которых повторяется от поколения к поколению и не меняя своих форм, круговорот рождений, любви и смерти .
И Толстой очерчивает духовную жизнь своих героев в соответствии с повседневной жизнью их родины: спокойно, без спешки, с ясным видением. Он никогда не опережает внутреннюю игру эмоций, мыслей или диалогов. Он никуда не спешит и никогда не опаздывает. Его руки держат нити, связывающие множество жизней, но он никогда не теряет головы. Подобно хозяину огромного предприятия, который бдительно следит за всеми его частями, он мысленно ведет безошибочный баланс.Казалось бы, все, что он делает, — это наблюдает за тем, как всю работу выполняет сама природа. Он бросает семя в землю и, как хороший земледелец, спокойно позволяет ему естественным образом высунуть свой стебель и вырасти полными колосьями. Да ведь это гениальный Каратаев с его безмолвным поклонением законам природы! Он никогда не будет пытаться прикоснуться к бутону, чтобы насильно раскрыть его лепестки; но позволяет им тихо открываться в лучах тепла солнца. Он одновременно чужд и глубоко враждебен эстетике культуры большого города, которая в своей самопожирающей ненасытности нарушает и мучает природу, требуя от нее только экстрактов и сущностей; и который судорожно сжимает пальцы в поисках на палитре цветов, которых нет в спектре солнечных лучей.
Стиль Толстого тождественен со всем его гением: спокойный, неторопливый, бережливый, без скупости и аскетизма; он мускулистый, иногда неловкий и грубый. Это так просто и всегда несравнимо по своим результатам. (Он так же далек от Тургенева, лиричного, кокетливого, искрометного и знающего красоту своего языка, как он от языка Достоевского, такого острого, такого забитого и рябого.)
В одном из своих романов Достоевский — горожанин без звания и титула, гений с неизлечимо задетой душой — этот сладострастный поэт жестокости и сострадания глубоко и многозначительно противопоставляет себя как художник новых и «случайных русских семей» Граф Толстой, певец отточенных форм помещичьего прошлого.
«Если бы я был русским писателем и талантливым, — говорит Достоевский устами одного из своих персонажей, — я бы непременно брал своих героев у родовитой русской знати, потому что она только в этом типе. культурного русского народа, что можно мельком увидеть красивый порядок и прекрасные впечатления … Говоря это, я вовсе не шучу, хотя сам я совсем не дворянин, что, к тому же, вы сами знаете … Поверьте, именно здесь до сих пор среди нас есть все по-настоящему прекрасное.Во всяком случае, среди нас есть все, что хоть немного усовершенствовано. Я говорю это не потому, что безоговорочно согласен либо с правильностью, либо с истинностью этой красоты; но здесь, например, мы уже отработали формы чести и долга, которые, кроме дворянства, не только нигде в России не отработаны, но даже начаты … Позиция нашего романиста, — продолжает Достоевский, упоминая Толстого, но, несомненно, имея в виду его, «в таком случае было бы вполне определенно.Он не мог бы писать иначе, кроме как исторически, потому что прекрасный тип больше не существует в наши дни, и если есть остатки, которые действительно существуют, то, согласно преобладающему консенсусу во мнениях, они не сохранили ни одного из их красота ».
Подробно
Подробнее о Льве Троцком
Лев Троцкий (1879-1940) был одним из лидеров Русской революции 1917 года, социалистическим противником Иосифа Сталина, основателем Четвертого Интернационала и стратегом мировой социалистической революции.
Когда исчез «красивый тип», рухнули не только непосредственный объект художественного творчества, но и основы морального фатализма Толстого и его эстетического пантеизма: погибло освященное каратаевизмом толстовской души. Все, что раньше считалось само собой разумеющимся как часть неоспоримого целого, теперь превратилось в фрагмент, а тем самым и в проблему. То, что было рациональным, становилось иррациональным. И, как всегда бывает, именно в тот момент, когда бытие потеряло свое прежнее значение , Толстой начал задавать себе вопрос о смысле бытия вообще.Начинается великий духовный кризис (ближе к концу 1870-х годов) — и не в жизни юноши, а в жизни пятидесятилетнего мужчины. Толстой возвращается к Богу, принимает учение Христа и отвергает разделение труда, а вместе с ним культуру и государство; он становится проповедником сельскохозяйственного труда, простой жизни и непротивления злу силой.
Чем глубже был внутренний кризис ― и, по его собственному признанию, пятидесятилетний художник давно помышлял о самоубийстве тем более удивительным должно казаться то, что Толстой в конечном итоге вернулся к тому, что, по сути, было его началом. точка. Сельскохозяйственный труд — Разве это не основа, на которой разворачивается эпопея о войне и мире года ? Простая жизнь , , и погружение, хотя бы духовное, в элементальных людей — разве не в этом сила Кутузова? Непротивление злу силой — Разве весь Каратаев не содержится в фаталистической отставке?
Но если это так, то в чем состоит кризис Толстого? Из этого то, что раньше было тайным и подземным, прорывается сквозь его кору и переходит в сферу сознания.Поскольку духовность, пребывающая в природе, исчезла вместе с той «природой», которая ее воплотила, дух начинает стремиться к внутреннему самосознанию. Эта автоматическая гармония, против которой восстал автоматизм самой жизни, отныне должна сохраняться сознательной силой идеи. В этой консервативной борьбе (за свое нравственное и эстетическое самосохранение) художник призывает на помощь философа-моралиста.
II
Было бы непросто определить, кто из этих двух Толстых — поэт или моралист — завоевал большую популярность в Европе.В любом случае, это не вызывает сомнения, что за снисходительную ухмылкой буржуазной общественности гениальной невиновности Ясной Поляне старшей, проглядывает своеобразный вид морального удовлетворения: известный поэт, миллионер, один из «нашей собственной среды,» аристократ к тому же, по моральным убеждениям носит крестьянскую рубашку, ходит в лаптях, рубит дрова. Это как если бы здесь было определенное искупление грехов целого класса, всей культуры. Это, конечно, не мешает всякому буржуазному дураку смотреть свысока на Толстого и даже слегка сомневаться в его полной вменяемости.В качестве примера можно привести небезызвестного Макса Нордау [2], одного из джентльменов, которые берут на вооружение философию старого и честного Сэмюэля Смайлса [3], приправленную цинизмом, и наряжают его в костюм клоуна для колонн в воскресенье. Имея в руках справочный текст Ломброзо [4], Нордау обнаруживает в Толстом все симптомы вырождения. Для всех этих мелких лавочников безумие начинается там, где прекращается прибыль.
Но независимо от того, относятся ли его буржуазные приверженцы к Толстому подозрительно, иронично или благосклонно, он остается для них психологической загадкой.Если не считать пары своих никчемных учеников и пропагандистов — один из них, Меньшиков, [5] теперь играет роль русского Хаммерштейна [6], то можно сказать, что последние тридцать лет своей жизни Толстой, моралист, остался совершенно один.
Воистину, это было трагическое положение пророка, плачущего в пустыне. Находясь полностью под властью своих консервативных сельскохозяйственных симпатий, Толстой непрестанно, неустанно и победоносно защищал свой духовный мир от опасностей, угрожающих ему со всех сторон.Он раз и навсегда вырыл глубокий ров между собой и всеми разновидностями буржуазного либерализма и, в первую очередь, отверг «повсеместно распространенные в наше время суеверия прогресса».
«Все хорошо, — кричит он, — иметь электричество, телефоны, выставки и все сады Аркадии с их концертами и представлениями, а также все сигары, спичечные коробки, подтяжки и моторы; но я желаю им всем на дне моря. И не только они, но и железные дороги, и все производимые в мире хлопчатобумажные и шерстяные ткани.Потому что для их производства 99 из каждых 100 человек должны находиться в рабстве и тысячами погибать на фабриках, где производятся эти предметы ».
Разве нашу жизнь не украшает и не обогащает разделение труда? Но разделение труда калечит живую человеческую душу. Пусть гниет разделение труда! Изобразительное искусство? Но подлинное искусство должно объединять всех людей в идее Бога, а не разъединять их. Наше искусство служит только избранным, оно разъединяет людей и поэтому является ложью. Толстой мужественно отвергает как «фальшивое» искусство Шекспира, Гете, самого себя, Вагнера и Бёклина.[7]
Он освобождает себя от всех материальных забот, связанных с бизнесом и обогащением, и надевает крестьянскую одежду, как будто выполняет символический обряд, отказываясь от культуры. Но что скрывается за этим символическим актом? Что он противопоставляет «лжи», то есть историческому процессу года?
На основе его работ мы могли бы представить социальную философию Толстого, тем самым нанося некоторое насилие над собой, в виде следующих «программных» тезисов:
1. Это не какие-то железные социологические законы, производящие порабощение народов, но кодексы.
2. Современное рабство основывается на трех законах: о земле, налогах и собственности.
3. Не только государство Российское, но и каждое государство является институтом для совершения с применением насилия и безнаказанности самых ужасных преступлений.
4. Подлинный социальный прогресс достигается только через религиозное и нравственное самосовершенствование личности.
5. «Чтобы избавиться от состояний, не нужно бороться с ними внешними средствами. Все, что нужно, — это не участвовать в них и не поддерживать их.То есть:
a. не брать на себя призвание ни солдата, ни фельдмаршала , ни министра , ни старейшины деревни , присяжного заседателя или члена парламента;
г. добровольно не платить государству налогов , прямых или косвенных;
г. не использовать государственные учреждения или государственные средства на зарплат или пенсий ; и
д. не охранять свою собственность мерами государственного насилия.
Если бы мы удалили из этой схемы четвертый пункт, который явно стоит сам по себе и который касается религиозного и морального самосовершенствования, то мы получили бы довольно округлую анархистскую программу . Во-первых, существует чисто механическая концепция общества как продукта порочного законодательства. Далее, формальное отрицание государства и политики в целом. И, наконец, как метод борьбы — пассивная всеобщая забастовка и всеобщий бойкот. Но, устраняя религиозно-нравственный тезис, мы фактически удаляем единственный нерв, который связывает всю эту рационалистическую структуру с ее архитектором: душой Льва Толстого.Для него, в силу всех условий его развития и положения, задача вовсе не состоит в том, чтобы установить «коммунистическую» анархию вместо капиталистического строя. Задача — уберечь общинно-земледельческий порядок от деструктивных воздействий «извне».
Толстой, как в своем «Народничестве», так и в своем «анархизме», представляет консервативные сельскохозяйственные интересы. Подобно ранним масонам, которые идеологическими средствами стремились восстановить и укрепить в обществе кастово-гильдейскую мораль взаимопомощи, которая естественным образом разваливалась под ударами экономического развития, Толстой стремится возродить — с помощью религиозно-нравственной идеи — жизнь под чисто натуральным хозяйством.
На этом пути он становится консервативным анархистом, потому что в первую очередь он требует, чтобы государство с его плетьми милитаризма и скорпионами федеральной казны дало возможность жить в мире всем спасающей коммуне Каратаева. Толстой не имеет ни малейшего представления о всемирной борьбе двух миров — буржуазии и социализма, — от исхода которой зависит судьба человечества. В его глазах социализм всегда оставался разновидностью либерализма, мало интересующей его.В его глазах Карл Маркс, а также Фредерик Бастиа [8] были представителями одного и того же «ложного принципа» капиталистической культуры, безземельных рабочих, государственного принуждения. В общем, как только человечество вступило на ложный путь, не имеет особого значения, насколько близко и как далеко он был пройден. Спасение может прийти только через обращение.
Толстой не в силах подобрать слова, достаточно презрительные, чтобы бросить вызов той науке, которая утверждает, что, хотя мы еще очень долго будем продолжать жить плохо «по законам исторического, социологического и других форм прогресса», наша жизнь тем не менее, в конечном итоге станет очень хорошим.
Нужно положить конец злу прямо сейчас, и для этого достаточно понять, что зло есть зло. Все моральные чувства, исторически скреплявшие людей, и все морально-религиозные фикции, проистекающие из этих связей, Толстой сводит к самым абстрактным заповедям любви, воздержания и пассивного сопротивления. А поскольку эти заповеди лишены какого-либо исторического содержания и, следовательно, лишены какого-либо содержания, ему кажется, что они применимы во все времена и ко всем народам.
Толстой не признает историю; и это составляет основу всего его мышления. На этом основана метафизическая свобода его отрицания, а также практическое бессилие всех его проповедей. Человеческая жизнь, которую он принимает — прежняя жизнь уральско-казачьих земледельцев в малонаселенных степях Самарской губернии — произошла в году за пределами истории: она постоянно воспроизводилась, как жизнь улья или муравейника. То, что люди называют историей, является продуктом бессмысленности, заблуждений и жестокостей, которые исказили истинную душу человечества.Бесстрашно последовательный, Толстой выкидывает в окно свое наследие вместе с историей.
Газеты и журналы ненавидят его как документы современной истории. Своей грудью он отбивал бы все волны мирового океана. Его историческая слепота делает его по-детски беспомощным в мире социальных проблем. Философия Толстого похожа на китайскую живопись. Идеи совершенно разных эпох помещены не в перспективу, а расположены в одной плоскости. Против войны он приводит аргументы чистой логики и, чтобы подкрепить их, приводит мнения Эпиктета [9], а также мнения Молинари [10] Лао-Цзы [11], а также Фридриха II [12] пророка. Исайя, а также обозреватель Хардуэн, оракул парижских бакалейщиков.В его глазах писатели, философы и пророки представляют не свои эпохи, а вечные моральные категории.
С ним Конфуций идет плечом к плечу с Гарпагом [13], и Шопенгауэр оказывается в компании не только с Иисусом, но и с Моисеем. В своем трагическом единоборстве с диалектикой истории, которому он противопоставляет свои да-да или нет-нет , Толстой на каждом шагу впадает в безнадежные внутренние противоречия. И из этого он делает вывод, полностью достойный упорства этого гения: «Несоответствие между положением человека и его нравственной деятельностью, — говорит он, — является вернейшим признаком истины.Но эта идеалистическая гордость несет в себе собственное наказание. Трудно назвать другого писателя, которого история так жестоко использовала, как Толстого, против его воли.
Моралист и мистик, враг политики и революции, в течение многих лет он питал своей критикой смутное революционное сознание многих народнических сект.
Отрицая всякую капиталистическую культуру, он встречает благосклонное признание европейской и американской буржуазии, которая находит в его проповедях как очертание собственного бесцельного гуманизма, так и психологический щит против философии революционного переворота.
Консервативный анархист, заклятый враг либерализма, Толстой к своему восьмидесятилетию оказывается знаменем и оружием шумного и тенденциозного политического проявления русского либерализма.
История одержала над ним победу, но не сломила его. Даже сейчас, на склоне лет, он сохранил в неизменном виде бесценный талант к нравственному негодованию.
В разгаре самой гнусной и преступной контрреволюции из всех известных, , [14], которая пытается своей конской паутиной виселицы навсегда затмить солнце нашей страны; в удушающей атмосфере униженного и трусливого официального общественного мнения этот последний апостол христианского прощения, в котором не умер гневный пророк Ветхого Завета, бросил свою брошюру I Cannot Keep Silent как проклятие на головы тех, кто служат палачами и осуждением тех, кто молча стоит рядом.
И хотя он отказывается с сочувствием выслушивать наши революционные цели, мы знаем, что это происходит потому, что история отказала ему лично в понимании ее революционных путей. Мы не будем его осуждать. И мы всегда будем ценить в нем не только его великий гений, который никогда не умрет, пока живет человеческое искусство, но и его несгибаемое моральное мужество, которое не позволяло ему спокойно оставаться в рядах их лицемерной церкви , их общество и их состояние , но обрекали его оставаться в одиночестве среди своих бесчисленных поклонников.
Лев Троцкий
Сентябрь 1908 г.
Сноски:
1. Илиада . Древнегреческая поэма об осаде Трои. По традиции автор долгое время считался слепым поэтом Гомером, которому также приписывают создание второго крупного греческого эпоса — Одиссея .
2. Макс Нордау (1849–1923 годы). Венгерский писатель, общественный критик и основатель Всемирного сионистского конгресса вместе с Теодором Герцлем. Автор Обычная ложь нашей цивилизации (1883), Вырождение (1892) и Парадоксов (1896).
3. Сэмюэл Смайлс (1812–1904): шотландский автор книг, посвященных самосовершенствованию, самой известной из которых была Self-Help .
4. Чезаре Ломброзо (1836–1909). Известный итальянский психиатр и криминолог, основавший дисциплину криминальной антропологии. Считал, что существует особый тип преступников с характерными физическими чертами.
5. Меньшиков Михаил Осипович (1859-1918). Русский журналист. Начал писать идеалистические статьи о морали, но в 1890-х годах стал все более реакционным и закончил защитником русского национализма и антисемитизма.Расстрелян ЧК в сентябре 1918 года.
6. Барон Вильгельм Хаммерштейн (1838–1904), немецкий политический деятель, консервативный член Рейхстага и редактор реакционной антисемитской газеты Kreuzzeitung .
7. Арнольд Бёклин (1827–1901). Швейцарский художник-символист.
8. Фредерик Бастиа (1801–1850). Французский экономист, представитель манчестерской школы, апологет капитализма и враг социализма.
9. Эпиктет (55–135 гг.). Греческий философ-стоик.
10. Гюстав де Молинари (1819–1912). Бельгийский экономист, связанный с манчестерской школой и Фредериком Бастиа.
11. Лао-цзы ([Лао-цзы], китайский философ доконфуцианской эпохи.
12. Фридрих II (1712-1786). Прусский король и один из главных представителей «просвещенного абсолютизма». Пример деспотизма Гогенцоллернов В одной из статей против войны («Подумай!», 1904) Толстой привел одно из высказываний Фридриха: «Если бы мои солдаты начали думать, ни один из них не остался бы в армии.”
13. Гарпаг. Министр мидийского царя Астиага, VI век до н. Э. По словам Геродота, когда Гарпаг отказался выполнить приказ убить Кира, Астиаг убил своего единственного сына и подал его мясо Гарпагу на банкете.
14. Троцкий здесь обращается к террору в России после пораженной революции 1905 года.
Лев Толстой краткая биография | Биография
Лев Толстой был русским писателем, считавшимся одним из величайших писателей всех времен.Он наиболее известен по Войне и миру (1869) и Анне Карениной (1877).
Лев Толстой краткая биография
Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года в году в Ясной Поляне, семейном имении, расположенном в 12 км к юго-западу от Тулы, Россия.
Он был четвертым среди пяти детей графа Николая Ильича Толстого и графини Марии Толстой, оба из которых умерли, оставив своих детей на воспитание родственникам.Желая поступить на факультет восточных языков Казанского университета, Толстой подготовился к вступительным экзаменам, изучив арабский, турецкий, латинский, немецкий, английский и французский языки, а также географию, историю и религию. В 1844 году Толстой был принят в Казанский университет. Не имея возможности получить высшее образование после второго курса, Толстой вернулся в Яснавскую Поляну, а затем стал путешествовать между Москвой и Санкт-Петербургом. Обладая некоторым практическим знанием нескольких языков, он стал полиглотом. Вновь обретенный юноша привлекал Толстого к выпивке, посещению публичных домов и, прежде всего, к азартным играм, что привело его к тяжелым долгам и агонии, но Толстой вскоре осознал, что ведет жестокую жизнь, и снова попытался сдать университетские экзамены в надежде, что получит должность правительство, но в итоге оказался на Кавказе, служа в армии по стопам своего старшего брата.Именно в это время Толстой начал писать.
В 1862 году Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс, которую чаще звали Соня, которая была на 16 лет моложе его. У пары было тринадцать детей, пятеро из которых умерли в раннем возрасте. Соня выполняла функции секретаря, корректора и финансового менеджера Толстого, когда он написал два своих величайших произведения. Их ранняя супружеская жизнь была наполнена удовлетворением. Однако отношения Толстого с женой ухудшились, поскольку его убеждения становились все более радикальными, вплоть до отказа от унаследованного и заработанного богатства.
Толстой начал писать свой шедевр «Война и мир» в 1862 году. Шесть томов этого труда были опубликованы между 1863 и 1869 годами. В этом великом романе, состоящем из 580 персонажей из истории и других персонажей, созданных Толстым, исследуются теория истории и незначительность таких известных фигур, как Александр и Наполеон. Следующая эпопея Толстого «Анна Каренина» была начата в 1873 году и полностью опубликована в 1878 году. Среди его первых публикаций — автобиографические произведения, такие как «Детство, отрочество и юность» (1852–1856).Хотя это произведения художественной литературы, романы раскрывают аспекты жизни и опыта Лео. Толстой был мастером написания о русском обществе, свидетельство чего представлено в книге «Казаки» (1863). Его более поздние произведения, такие как «Смерть Ивана Ильича» (1886) и «Что делать?» (1901) сосредоточены на христианских темах.
В последние годы жизни Толстой все больше склонялся к аскетической морали и твердо верил в Нагорную проповедь и ненасильственное сопротивление. 20 ноября 1910 года Лев Толстой скончался в возрасте 82 лет от пневмонии.
Духовных цитат: Лев Толстой
Духовные цитаты и бесплатная загрузка электронных книг Духовность, ЦитатыЛев Толстой (1828–1910)
Лев Толстой — один из величайших известных писателей
Толстой считал, что человек может обрести вечное счастье стремясь к самосовершенствованию после пацифизма, любя своего соседа , и Бог , а не смотрящий вовне на церковное руководство .
Он умер всего через несколько дней после того, как бросил свою семью и богатство и встал на путь странствующего аскета в возрасте 82 лет.
Кульминация мыслей Толстого о духовности находится в
Скачать бесплатно электронную книгу The Awakening, Leo Tolstoy
Исповедь — вдохновляющий пример человека, отвергающего ложь ортодоксии. Он описывает духовных и философских прозрений Толстого.Это его путь к вере и силе жизни.
Мы здесь, чтобы вдохновить вас на духовное развитие
Лев Толстой Вдохновляющие цитаты:
Толстой о добре и жизни
- Жизнь — это стремление к добру . Стремление к добру — это жизнь .
Толстой об истине и достижении высочайшего потенциала
- правда , в наши дни очень невнятная, что зла можно избежать, а добро достичь личными усилиями только
- Все развивается, дифференцируется, движется к сложности и уточнению, и есть законы, управляющие этим процессом.Вы часть целого. Когда вы будете знать как можно больше о целом и о законах его развития , вы поймете свое место в целом и свое собственное «я».
Толстой о Вере
- Какие бы ответы ни давала вера , независимо от того, какая вера или кому даны ответы, такие ответы всегда придают бесконечный смысл конечному существованию человека; смысл, который не разрушается страданиями, лишениями или смертью.Это означает, что только в вере мы можем найти смысл и возможность жизни .
Толстой о Боге, Божественном в человеке, любви
- Принципы очень просты, понятны и незамысловаты. Это следующие:
- , что есть бог, который является источником всего;
- , что в каждом человеке есть элемент этого божественного происхождения, который он может уменьшать или увеличивать своим образом жизни;
- , что для того, чтобы кто-то мог увеличить этот источник, он должен подавить свои страсти и увеличить любовь внутри себя;
- , что практические средства достижения этого состоят в том, чтобы поступать с другими так, как вы хотели бы поступать с вами.
- В Нехлюдове, как и в каждом человеке, было два существа; один — духовный, ищущий для себя только то счастье, которое стремится к счастью для всех; другой — животный человек, ищущий только свое счастье и готовый принести в жертву ему счастье всего остального мира.
Толстой об истинном смысле христианства
Толстой о ненасилии
- Христианское учение в его истинном значении, признающее ВЕРХНИЙ ЗАКОН человеческой жизни как закон любви, который ни в коем случае не допускает насилия между людьми, так близко сердцу человека и дает такую несомненную свободу, такое независимое счастье. как для отдельного человека, так и для группы людей, а также для всего человечества, что, казалось бы, это должно быть известно только всем людям, чтобы принять это как руководящий принцип своего поведения
- Неравенство между людьми, не только между мирянами и духовенством, но и между богатыми и бедными, господами и рабами, было установлено церковной христианской религией.. . Самым важным является то, что христианство провозглашает равенство всех людей уже не просто как основное учение о всеобщем братстве, а потому, что все люди признаны сыновьями Бога.
Толстой о войне человека и животных
- Даже если мы примем невозможное и поверим, что только через тысячу лет социальный прогресс объединит все человечество в одно целое, которое сформирует единое государство с единым правительством, даже в этом случае нельзя забывать, что борьба между нации и государства, которые будут упразднены, превратятся в борьбу между человеческим и животным царством.
- Это ужасно! Не страдания и смерть животных, а то, что человек подавляет в себе без надобности высшую духовную способность — сочувствие и жалость к таким живым существам, как он сам, — и, нарушая свои собственные чувства, становится жестоким. И как глубоко в человеческом сердце заповедь не лишать жизни!
почему вегетарианец цитата
- Так сильно отвращение человечества ко всем убийствам. Но примером, поощрением жадности, утверждением, что Бог допустил это, и прежде всего привычкой, люди полностью теряют это естественное чувство.
Толстой о перевоплощении
- Телесная смерть разрушает тело, ограниченное в пространстве, и сознание, ограниченное во времени, но она не может разрушить особое отношение каждого существа к миру, которое является основой жизни.
Толстой о поисках Бога
- В злых движениях не чувствуешь Бога , сомневаешься в Нем. И спасение всегда в одном — и оно несомненно: перестаньте думать о Боге , но думайте только о Его законе и выполняйте его, любите всех людей, и сомнения исчезнут, и вы снова найдете Бога .
Толстой о любви
- Любящая доброта — это не просто любовь к какому-то конкретному человеку, а духовное состояние любви ко всем.
Толстой об анархии
- Анархисты правы во всем; в отрицании существующего порядка и в утверждении, что без Власти не может быть насилия хуже, чем Власть в существующих условиях. Они ошибаются только в том, что думают, что анархия может быть установлена революцией.Но он будет учрежден только тогда, когда будет все больше и больше людей, не нуждающихся в защите государственной власти …
Толстой о собственности
- Земля не может быть ничьей собственностью; его нельзя купить или продать больше, чем воду, воздух или солнечный свет. Все имеют равное право на преимущества, которые она дает мужчинам.
Толстой о Боге
- Я верю в единого, непостижимого Бога, в бессмертие души, вечное возмездие за наши поступки.
- молитвы адресованы личному Богу , не потому, что он действительно личный, я точно знаю, что он не личный, потому что личность — это ограничение, а Бог безграничен.
- Я не хочу думать, что Христос искупит меня там, где я должен искупить себя.
- … И причина всего в том, что мы называем Богом . Познать Бога и жить — одно и то же.Бог есть жизнь
- .. Истинная религия — это та связь в соответствии с разумом и знанием, которую человек устанавливает с бесконечным миром вокруг себя, и которая связывает его жизнь с этой бесконечностью и направляет его действия … и ведет к практические нормы закона: поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами .
- Суть любой религии заключается исключительно в ответе на вопрос: почему я существую и каково мое отношение к бесконечной вселенной, которая меня окружает?
Толстой о вегетарианстве
- Вегетарианское движение должно вызывать особую радость у тех, чья жизнь заключается в усилиях по установлению царства Бога на земле…. потому что это знак того, что стремление человечества к нравственному совершенству серьезное и искреннее, поскольку оно приняло один неизменный естественный для него порядок преемственности, начиная с первого шага.
Лев Толстой на видео
