Изречения о любви омара хайяма: Красивые цитаты Омара Хайяма о любви (100 цитат) ✒
The Marginalian – Маргиналии о наших поисках смысла.
Под нашими тревожными оживлениями, под нашими клыкастыми страхами, под ржавыми доспехами убежденности мы жаждем нежности — нежности, чтобы смягчить наш болезненный контакт с реальностью, чтобы согреть нас, чтобы пробудить от морозного оцепенения почти-жизни.
Нежность — это то, что пронизывает Платеро и я ( публичная библиотека ) нобелевского лауреата испанского поэта Хуан Рамон Хименес (23 декабря 1881 г. — 29 мая 1958 г.) — отчасти любовное письмо любимому ослику, отчасти журнал экстатического наслаждения природой и человечеством, отчасти сказка для одиноких.
Целитель на осле Нико Пиросмани, начало 1900-х. Живя на своей родине в Могуэре — маленьком городке в сельской Андалусии — Хименес начал сочинять этот необычный набор стихов в прозе в 1907 году. Хотя он охватывает менее года его жизни с Платеро, ему потребовалось десятилетие, чтобы опубликовать его.
В основе лежит простая истина: то, что и кого мы любим, является линзой, которая фокусирует нашу любовь к жизни.
Нежность, с которой Хименес относится к Платеро, которого он снова и снова называет по имени, словно заклинание любви, — это нежность жизни, наполненной чудом и хрупкостью. Он прославляет «большие блестящие глаза нежной твердости Платеро, в которых сияет солнце»; он почитает его как «друга старика и ребенка, ручья и бабочки, солнца и собаки, цветка и луны, терпеливого и задумчивого, меланхолического и милого, Марка Аврелия лугов». Он манит его: «Пойдем со мной. Я научу тебя цветам и звездам».
Так и делает:
Смотри, Платеро, столько роз падает повсюду: голубых, розовых, белых, бесцветных роз… Можно подумать, небо рассыпается на розы… Можно подумать, что из семи райских галерей розы сыплются на землю… Платеро, кажется, пока звенит Ангелус, что эта жизнь наша теряет свою будничную силу, и что иная сила изнутри, более высокая, более постоянная и более чистая, вызывает все, как бы фонтанные струи благодати.
.. Твои глаза, которых ты не видишь, Платеро, и которые ты нежно возносишь к небу, — две прекрасные розы.
Вместе поэт и осел путешествуют по сельской местности Андалузии в состоянии упоительной гармонии друг с другом и живым миром:
По низменным дорогам лета, увитым нежной жимолостью, как сладко мы идем! Я читаю, или пою, или рассказываю стихи небу. Платеро щиплет скудную траву тенистых берегов, пыльные цветки мальвы, желтый щавель. Он больше останавливается, чем идет. Я позволил ему.
[…]
Время от времени Платеро перестает есть и смотрит на меня. Время от времени я перестаю читать и смотрю на Платеро.
В ликованиях Хименеса отголоски Уитмена:
Искусство Рёдзи Араи из Every Color of LightПеред нами уже зеленые поля. Перед огромным, ясным небом, пылающим индиго, мои глаза — так далеко от моих ушей! — открытое благородно, приветствующее в своем спокойствии ту неописуемую безмятежность, ту гармоничную, божественную безмятежность, которая обитает в безграничности горизонта.
Это стремление к бесконечности сопровождает молодого человека и старого осла, когда они пересекают холмы и долины в своих ежедневных паломничествах:
Вечер простирается за свои обычные пределы, и час, зараженный вечностью, бесконечен, мирен, непостижим.
Снова и снова присутствие Платеро усиливает вкус поэта к красоте, углубляет его контакт с вечным:
Я остаюсь в экстазе перед сумерками. Платеро с черными глазами, алыми от заката, осторожно идет к луже малиновых, розовых и фиолетовых вод; он мягко погружает губы в зеркала, которые, кажется, разжижаются, когда он к ним прикасается.
Эти экстазы перемежаются неизбежными приступами меланхолии, проистекающими из того факта, что цена пробуждения к жизни – пробуждение к смерти. Понимая, что эта волшебная жизнь с его возлюбленным Платеро только на время, Хименес тянется к печали будущего, чтобы с радостью освятить ее:
Платеро.
Я похороню тебя у подножия большой круглой сосны в саду Ла-Пинья, который ты так любишь. Вы останетесь рядом с веселой, безмятежной жизнью. Маленькие мальчики будут играть, а девочки будут шить рядом с вами на своих маленьких стульчиках. Ты услышишь стихи, которые вдохновит меня одиночество. Вы услышите пение старших девочек, когда они стирают белье в апельсиновой роще, а звук водяного колеса будет радостью и утешением для вашего вечного покоя. И круглый год щеглы, зеленушки и вирео в вечной свежести верхушки дерева создадут для вас небольшой музыкальный потолок между вашим безмятежным сном и бесконечным, вечно голубым небом Могуера.
Я читал эти страницы, думая о том, как все, что мы тщательно полируем, становится зеркалом. Так и осел становится зеркалом для собственной души поэта:
Искусство Рёдзи Араи из Every Color of LightВремя от времени Платеро бросает пить и поднимает голову, как я, как женщины на картинах Милле, к звездам, с нежной, бесконечной тоской.
Эти виньетки напоминают о том, что искусство поэзии, как и искусство жить, зависит от качества внимания, которое мы уделяем вещам, — живое подтверждение утверждения Симоны Вейл о том, что «внимание, доведенное до его высшей степени, — это то же самое, что и молитва». Хименес ликует:
Хименес ликует:
Какое утро! Солнце излагает на земле свою серебристо-золотую радость; бабочки сотен цветов играют повсюду, среди цветов, по дому (то внутри, то снаружи), на фонтане. Повсюду сельская местность открывается в треск и скрип, в кипение новой здоровой жизни.
Как будто мы находимся внутри огромных сот света, которые также были внутренностью огромной, пылающе-горячей розы.
Одним ясным голубым утром поэт и осел наткнулись на банду «вероломных мальчишек», раскинувших сеть, чтобы ловить птиц в близлежащем сосновом лесу. Преодолевая сострадание к «небесным братьям» Платеро, Хименес намеревается предостеречь птиц в сцене, которая снова заканчивается бесконечной симпатией, которая течет между ним и его ослом:
Искусство испанского художника Рока Риеры Рохаса из редкого издания Дон КихотЯ оседлал Платеро и подгонял его вперед ногами, и быстрой рысью мы поднялись в сосновый лес. Когда мы оказались под тенистым лиственным куполом, я хлопал в ладоши, пел и кричал. Платеро, уловив настроение, пару раз грубо проревел.
И ответило глубокое, гулкое эхо, словно из глубины большого колодца. Птицы с пением улетели в другой сосновый бор. Платеро, среди далеких проклятий буйных мальчишек, терся своей большой лохматой головой о мое сердце, благодарил меня, пока не ушиб мне грудь.
Когда бы я ни остановился, Платеро, мне кажется, что я останавливаюсь под сосной Ла-Короны… расстилая зеленое изобилие под широким голубым небом с белыми облаками… Как сильно я всегда чувствую себя, когда отдыхаю под его воспоминанием! Когда я вырос, это было единственное, что не переставало быть большим, единственное, что все время становилось больше. Когда они срубили ветку, которую сломал ураган, я подумал, что мне вырвали сук; а иногда, когда меня неожиданно охватывает какая-то боль, я воображаю, что она болит сосна Ла-Корона.
[…]
Слово «великий» подходит ему, как и морю, и небу, и моему сердцу. В его тени отдыхали многие поколения, глядя на облака, веками, словно на воду, под небо, и в ностальгии моего сердца. Когда мои мысли свободно блуждают и произвольные образы останавливаются, когда хотят, или в те минуты, когда есть вещи, видимые как бы вторым зрением, кроме того, что отчетливо воспринимается, сосна Ла-Корона, преображенная в некую картину вечности, приходит мне на ум, еще более шумящая и еще более гигантская, среди моих сомнений, манящая меня упокоиться в своем покое, как если бы она была истинным и вечным концом моего путешествия по жизни.
Деревья в изобилии фигурируют в поэтическом воображении Хименеса:
Искусство Арта Янга из Ночные деревья , 1924. (Доступно в печатном виде.)Это дерево, Платеро, эта акация, которую я посадил сам, зеленое пламя, которое росло весной за весной и теперь покрывает нас своей обильной свободно растущей листвой, пронизанной заходящим солнцем, было лучшей опорой моей поэзии, пока я жил в этом доме, ныне закрытом.
Каждая из его ветвей, украшенная изумрудом в апреле или золотом в октябре, охлаждала мой лоб, стоило мне только взглянуть на нее на мгновение, как чистейшая рука музы.
Под всеми виньетками пульсирует глубокое ощущение нерушимого одиночества поэта — даже в компании своего осла, даже в его абсолютном присутствии с живым миром. Воскресеньем поздним летом, читая Омара Хайяма под сосной, «полной птиц, которые не улетают», пока весь город ходит в церковь, он пишет:
В тишине между двумя звонами внутреннее бурление сентябрьского утра обретает присутствие и резонанс. Черно-золотые осы летают вокруг виноградной лозы, нагруженной здоровыми гроздьями муската, а бабочки, беспорядочно смешавшиеся с цветами, кажутся обновленными, в метаморфозе ярких цветов, порхая вокруг. Одиночество подобно великой мысли света.
Именно в этом бодрствующем одиночестве среди природы он находит то, к чему так стремится — красоту, безмятежность, вечность:
Как прекрасна сельская местность в эти праздники, когда все покидают ее! Самое большее, в молодом винограднике, в саду какой-нибудь старик может прислониться к незрелой лозе, над чистым ручьем.
.. И душа, Платеро, чувствует себя истинной царицей того, чем она обладает в силу своих чувств, большого здорового тела природы, которое, при уважении, дает тому, кто этого заслуживает, покорное зрелище своей блистательной, вечной красоты.
Рядом с преклонением Хименеса перед вечным стоит его элегия течению времени, болезненной красоте нашей смертной быстротечности. Когда наступает осень, пишет он:
Платеро, солнцу уже начинает лень вылезать из-под своих простыней, а фермеры встают раньше его… На широкой влажной тропе желтые деревья, уверенные, что снова зазеленеют, ярко освещают наш стремительный путь с обеих сторон, словно мягкие костры из чистого золота.
[…]
Это те мгновения, когда жизнь целиком заключена в уходящем золоте…. Красота делает вечным этот мимолетный миг без сердцебиения, словно навеки мертвый, но живой.
Снова и снова Хименес синкопирует между ликованием и плачем:
Взгляните, как заходящее солнце, представляя себя большим и алым, как видимый бог, притягивает к себе экстаз всех вещей и в полосе моря за Уэльвой погружается в абсолютную тишину, что мир — то есть, Могуэр, его сельская местность, вы, и я, Платеро, отдаю ему дань уважения.
Снова и снова он возвращается к элементарной истине бытия, которую можно найти в каждом цветке и в каждой звезде, — что для того, чтобы быть живым, достаточно этого мгновения, любого мгновения, это вечность:
Платеро, Платеро! Я бы отдал всю свою жизнь и хотел бы, чтобы ты захотел отдать свою, в обмен на чистоту этой глубокой январской ночи, одинокой, яркой и твердой.
Когда Платеро наконец отдает свою жизнь, поэт встречает свою смерть с той же великодушной тоской по вечному, которая живет во всем эфемерном. Посетив могилу Платеро с деревенскими детьми, которые так любили его, он пишет:
«Платеро, мой друг!» — сказал я земле. «Если, как я полагаю, ты сейчас на небесном лугу, неся на своей мохнатой спине ангелочков-отроков, неужели ты забыл меня? Платеро, скажи мне: ты еще помнишь меня?
И, словно в ответ на мой вопрос, невесомая белая бабочка, которой я никогда прежде не видел, настойчиво, как душа, порхала от радужки к радужке.



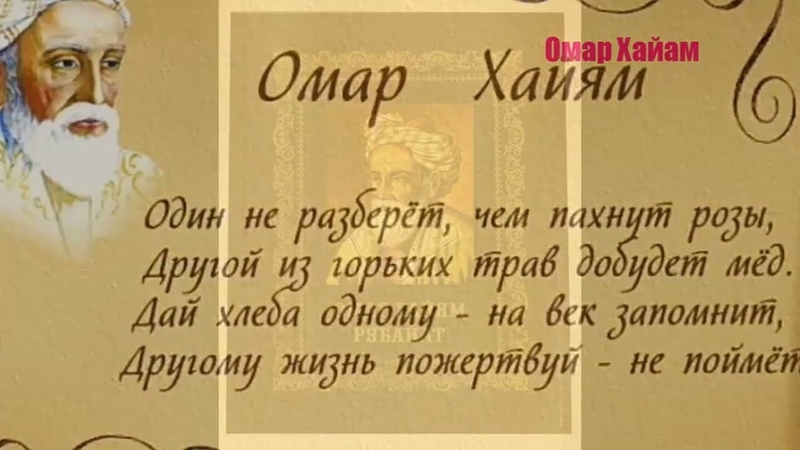 Я похороню тебя у подножия большой круглой сосны в саду Ла-Пинья, который ты так любишь. Вы останетесь рядом с веселой, безмятежной жизнью. Маленькие мальчики будут играть, а девочки будут шить рядом с вами на своих маленьких стульчиках. Ты услышишь стихи, которые вдохновит меня одиночество. Вы услышите пение старших девочек, когда они стирают белье в апельсиновой роще, а звук водяного колеса будет радостью и утешением для вашего вечного покоя. И круглый год щеглы, зеленушки и вирео в вечной свежести верхушки дерева создадут для вас небольшой музыкальный потолок между вашим безмятежным сном и бесконечным, вечно голубым небом Могуера.
Я похороню тебя у подножия большой круглой сосны в саду Ла-Пинья, который ты так любишь. Вы останетесь рядом с веселой, безмятежной жизнью. Маленькие мальчики будут играть, а девочки будут шить рядом с вами на своих маленьких стульчиках. Ты услышишь стихи, которые вдохновит меня одиночество. Вы услышите пение старших девочек, когда они стирают белье в апельсиновой роще, а звук водяного колеса будет радостью и утешением для вашего вечного покоя. И круглый год щеглы, зеленушки и вирео в вечной свежести верхушки дерева создадут для вас небольшой музыкальный потолок между вашим безмятежным сном и бесконечным, вечно голубым небом Могуера.
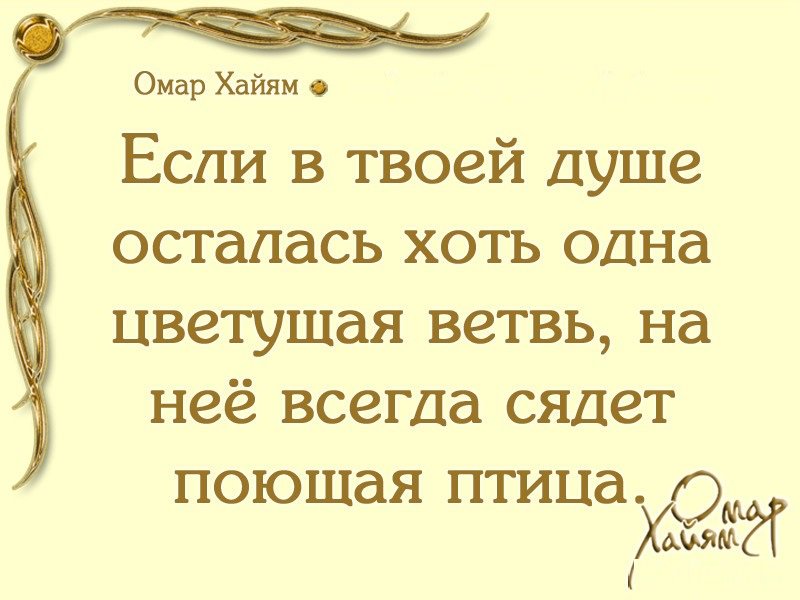
 Каждая из его ветвей, украшенная изумрудом в апреле или золотом в октябре, охлаждала мой лоб, стоило мне только взглянуть на нее на мгновение, как чистейшая рука музы.
Каждая из его ветвей, украшенная изумрудом в апреле или золотом в октябре, охлаждала мой лоб, стоило мне только взглянуть на нее на мгновение, как чистейшая рука музы. .. И душа, Платеро, чувствует себя истинной царицей того, чем она обладает в силу своих чувств, большого здорового тела природы, которое, при уважении, дает тому, кто этого заслуживает, покорное зрелище своей блистательной, вечной красоты.
.. И душа, Платеро, чувствует себя истинной царицей того, чем она обладает в силу своих чувств, большого здорового тела природы, которое, при уважении, дает тому, кто этого заслуживает, покорное зрелище своей блистательной, вечной красоты.
