Бродяга книга: Книга: «Бродяга. Исповедь смертника» — Заур Зугумов. Купить книгу, читать рецензии | ISBN 978-5-17-065819-0
Читать онлайн «Воровская трилогия. Бродяга. От звонка до звонка. Время – Вор», Заур Зугумов – Литрес
От автора
Я всегда знал, что стезя писателя терниста, да и не думал никогда, что у меня хватит знаний и таланта, а главное – терпения и выдержки, для того чтобы написать книгу. И не просто книгу, а автобиографическую повесть, то есть историю моей жизни. Требовался сильный толчок, который подвигнул бы меня на этот нелегкий труд. И случай не заставил себя ждать, точнее, не случай, а целый ряд всякого рода случайностей. Я понял, что со времен гласности обращаться к уголовной тематике и блатному фольклору – в литературе, поэзии, на эстраде и в кино – стало очень модным и даже доходным делом. В конечном счете все это и некоторые другие факторы, вместе взятые, определили мои дальнейшие действия. Преступный мир и все, что с ним связано, всегда было мрачной стороной нашей жизни, закрытой плотной завесой таинственности. Многие люди в свое время пытались поднять эту завесу, но они, как правило, расплачивались за свои попытки кто свободой, а кто и жизнью. Казалось бы, такое желание поведать правду о жизни заключенных, об их бедах и страданиях должно было бы заинтересовать многих, но увы! Некоторые доморощенные писаки в погоне за деньгами в своих романах до такой степени замусорили эту мало кому известную сферу жизни враньем и выдуманными историями, что мне не осталось ничего другого, как взяться за перо. Я провел в застенках ГУЛАГа около двадцати лет, из них больше половины – в камерной системе. Все режимы, начиная с ДВК (детская воспитательная колония), куда меня направили, а точнее, водворили в двенадцатилетнем возрасте, и кончая особым режимом и камерой смертников, где я провел около полугода, несколько лагерных раскруток, в том числе побег из таежного лагеря Коми АССР, – все эти испытания я прошел. Но всего, конечно, во вступлении не напишешь, да это и ни к чему, я думаю. Хочу лишь особо подчеркнуть, что нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах я не шел даже на мало-мальский компромисс, если это было против моих убеждений. Поэтому, думаю, моя честно прожитая жизнь в преступном мире дает мне право поведать читателям правду обо всех испытаниях, которые мне пришлось пережить.
Казалось бы, такое желание поведать правду о жизни заключенных, об их бедах и страданиях должно было бы заинтересовать многих, но увы! Некоторые доморощенные писаки в погоне за деньгами в своих романах до такой степени замусорили эту мало кому известную сферу жизни враньем и выдуманными историями, что мне не осталось ничего другого, как взяться за перо. Я провел в застенках ГУЛАГа около двадцати лет, из них больше половины – в камерной системе. Все режимы, начиная с ДВК (детская воспитательная колония), куда меня направили, а точнее, водворили в двенадцатилетнем возрасте, и кончая особым режимом и камерой смертников, где я провел около полугода, несколько лагерных раскруток, в том числе побег из таежного лагеря Коми АССР, – все эти испытания я прошел. Но всего, конечно, во вступлении не напишешь, да это и ни к чему, я думаю. Хочу лишь особо подчеркнуть, что нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах я не шел даже на мало-мальский компромисс, если это было против моих убеждений. Поэтому, думаю, моя честно прожитая жизнь в преступном мире дает мне право поведать читателям правду обо всех испытаниях, которые мне пришлось пережить. Уверен, что в этой книге каждый может найти пищу для размышлений, начиная от юнцов, прячущихся по подъездам с мастырками в рукавах, до высокопоставленных чиновников МВД. Эта книга расскажет вам о пути от зла к добру, от лжи к истине, от ночи ко дню. Если события, о которых в ней идет речь, вызовут у вас сочувствие или сопереживание, значит, я достиг своей цели. «Бродяга» – это вексель, выданный мне в юности, но который я сумел оплатить лишь в преклонном возрасте.
Уверен, что в этой книге каждый может найти пищу для размышлений, начиная от юнцов, прячущихся по подъездам с мастырками в рукавах, до высокопоставленных чиновников МВД. Эта книга расскажет вам о пути от зла к добру, от лжи к истине, от ночи ко дню. Если события, о которых в ней идет речь, вызовут у вас сочувствие или сопереживание, значит, я достиг своей цели. «Бродяга» – это вексель, выданный мне в юности, но который я сумел оплатить лишь в преклонном возрасте.
Махачкала, 2001
С уважением к читателю Заур Зугумов
Книга первая
Бродяга
Пролог
Отчего всякая смертная казнь оскорбляет нас больше, чем убийство? Это объясняется холодностью судьи, мучительным приготовлением, сознанием, что здесь человек употребляется как средство, чтобы устрашить других. Ибо вина не наказывается, даже если бы вообще существовала вина: она лежит на воспитателях, родителях, на окружающей среде, на нас самих, а не на преступнике, – я имею в виду побудительную причину.
 Ницше
Ницше
«Прощайте, братки!..» – услышал я как-то среди ночи отрывистый, отчаянный крик. Еще даже не проснувшись совсем, я узнал голос своего соседа по камере, который сидел со мной через стенку, – голос Лехи Сухова. Сомнений быть не могло: его уводили в ночь и, видно, закрыли рот руками, когда он хотел на прощание проститься с нами, – значит, его увели на расстрел. Подскочив к двери, я присел на корточки и, приложив ухо к двери, стал прислушиваться, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, но было тихо, как в могиле. В какой-то момент мне даже показалось, что все это мне послышалось и я схожу с ума, но дрожь, которая то и дело пробегала по телу, говорила об обратном – к моему глубокому сожалению. Бог мой, как бы мне хотелось ни о чем не думать, ничего не ждать, ни на что не надеяться, не воспринимать мир вообще, жить в своем иллюзорном мире, но увы… Как я завидовал в тот момент своему подельнику, который уже на начальном этапе нашего следствия сошел с ума от пыток, хотя, как читатель, думаю, уже понял, завидовать было нечему.






И вот сейчас, сидя у дверей своей камеры, я мысленно представил себе, как все то, о чем рассказывал мне горбун, происходит с Суховым. Я никогда не видел Сухова, только слышал его голос, да и то очень редко, когда у нас была редкая возможность перекинуться парой-тройкой слов, хотя мы и сидели через стенку, в соседних камерах. Знал я, что и у него, как и у меня, было еще два подельника и, так же как и у меня, одному из них было 15 лет.
 Огромное количество решеток полностью преграждало свету доступ в камеру Никогда нельзя было понять, глядя по привычке на окно, какое сейчас время суток: день или ночь? И только строгое расписание быта корпуса смертников позволяло ориентироваться во времени. Камеру же освещала маленькая лампочка, которую я, так же как и дневной свет, не видел никогда и которая, даже из симпатии к арестанту, ни разу не перегорала за то время, что я находился в этой камере. Она располагалась где-то высоко над дверью, утоплена в глубокой нише и тоже зарешечена. Таким образом, в камере был постоянный полумрак, дававший понять ее обитателю: ты еще не в могиле, но уже и не на этом свете. Камера являлась своего рода промежуточной станцией на пути в мир иной. Сейчас я, конечно, могу себе позволить иронию по отношению к быту камеры, где я тогда находился, тогда же, конечно, мне было не до иронии. С самого подъема, как только поднимались нары, начиналось хождение – четыре шага к стене и столько же обратно до двери.
Огромное количество решеток полностью преграждало свету доступ в камеру Никогда нельзя было понять, глядя по привычке на окно, какое сейчас время суток: день или ночь? И только строгое расписание быта корпуса смертников позволяло ориентироваться во времени. Камеру же освещала маленькая лампочка, которую я, так же как и дневной свет, не видел никогда и которая, даже из симпатии к арестанту, ни разу не перегорала за то время, что я находился в этой камере. Она располагалась где-то высоко над дверью, утоплена в глубокой нише и тоже зарешечена. Таким образом, в камере был постоянный полумрак, дававший понять ее обитателю: ты еще не в могиле, но уже и не на этом свете. Камера являлась своего рода промежуточной станцией на пути в мир иной. Сейчас я, конечно, могу себе позволить иронию по отношению к быту камеры, где я тогда находился, тогда же, конечно, мне было не до иронии. С самого подъема, как только поднимались нары, начиналось хождение – четыре шага к стене и столько же обратно до двери. И так каждый день. Мне кажется, что за те полгода, находясь в строгом уединении и вышагивая взад и вперед, я прошагал расстояние от Земли до Луны. Единственный раз в сутки камера открывалась, когда выводили на прогулку. Это мероприятие было всегда после отбоя. Открывалась кормушка, я просовывал в нее обе руки, на них клацали наручники, и только тогда открывалась дверь. На прогулку меня всегда сопровождали трое: один офицер и двое солдат внутренней службы, которые давали многолетнюю подписку о неразглашении места службы. Со стороны могло показаться странным, как четыре человека, шагая по коридору, не издают даже малейшего шума? Объяснение заключалось в том, что пол в коридоре был покрыт толстым, толщиной в две ладони, слоем резины, а сверху еще постелена дорожка из плотного материала. За исключением времени принятия пищи и еще некоторых моментов в коридоре стояла гробовая тишина. Связь с внешним миром производилась только через одного человека – о нем чуть позже. Целый день часовой был обязан маршировать по коридору, и он же нас кормил, когда привозили баланду.
И так каждый день. Мне кажется, что за те полгода, находясь в строгом уединении и вышагивая взад и вперед, я прошагал расстояние от Земли до Луны. Единственный раз в сутки камера открывалась, когда выводили на прогулку. Это мероприятие было всегда после отбоя. Открывалась кормушка, я просовывал в нее обе руки, на них клацали наручники, и только тогда открывалась дверь. На прогулку меня всегда сопровождали трое: один офицер и двое солдат внутренней службы, которые давали многолетнюю подписку о неразглашении места службы. Со стороны могло показаться странным, как четыре человека, шагая по коридору, не издают даже малейшего шума? Объяснение заключалось в том, что пол в коридоре был покрыт толстым, толщиной в две ладони, слоем резины, а сверху еще постелена дорожка из плотного материала. За исключением времени принятия пищи и еще некоторых моментов в коридоре стояла гробовая тишина. Связь с внешним миром производилась только через одного человека – о нем чуть позже. Целый день часовой был обязан маршировать по коридору, и он же нас кормил, когда привозили баланду.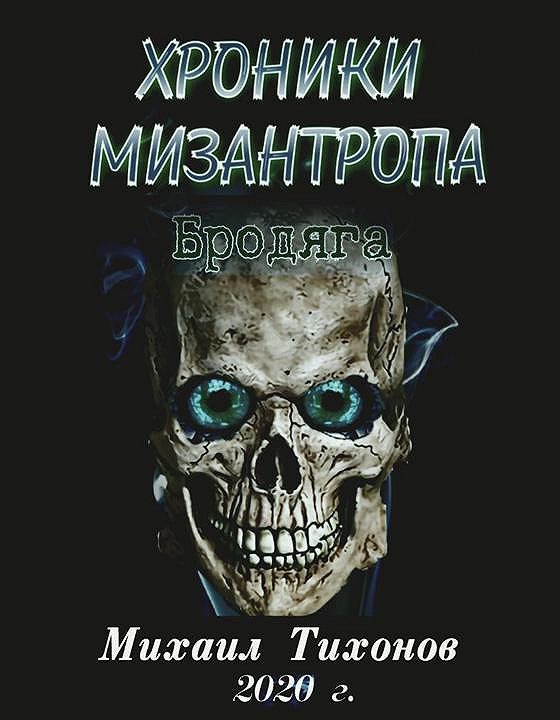 Что нужно приговоренному к расстрелу человеку? На мой взгляд – исходя из моего печального опыта, – две вещи: курево и место для движения. Помимо положенной по закону для подобного рода осужденных осьмушки махорки, которой в аккурат хватало на четыре скрутки, из корпусов приносили общак. Но делал это всегда один и тот же человек, и, как то ни странно, этим человеком был сам исполнитель смертных приговоров. Звали его Саволян. Я на всю жизнь запомнил это имя. Для приговоренных он был буквально всем. Человек этот был настолько независимым, что не подчинялся даже начальнику тюрьмы. Как мне удалось узнать много позже, люди подобного рода занятий всегда подчинялись напрямую Москве и никто, помимо московского начальства, не являлся для них авторитетом. Это была особая категория людей – палачи. Меня очень интересовали критерии, по которым их отбирали, и эта заинтересованность, я думаю, понятна. Я и подобные мне находились в абсолютной зависимости от них. Сам Саволян был ниже среднего роста, но хорошо сложен и мускулист.
Что нужно приговоренному к расстрелу человеку? На мой взгляд – исходя из моего печального опыта, – две вещи: курево и место для движения. Помимо положенной по закону для подобного рода осужденных осьмушки махорки, которой в аккурат хватало на четыре скрутки, из корпусов приносили общак. Но делал это всегда один и тот же человек, и, как то ни странно, этим человеком был сам исполнитель смертных приговоров. Звали его Саволян. Я на всю жизнь запомнил это имя. Для приговоренных он был буквально всем. Человек этот был настолько независимым, что не подчинялся даже начальнику тюрьмы. Как мне удалось узнать много позже, люди подобного рода занятий всегда подчинялись напрямую Москве и никто, помимо московского начальства, не являлся для них авторитетом. Это была особая категория людей – палачи. Меня очень интересовали критерии, по которым их отбирали, и эта заинтересованность, я думаю, понятна. Я и подобные мне находились в абсолютной зависимости от них. Сам Саволян был ниже среднего роста, но хорошо сложен и мускулист. Глубокие морщины вокруг глаз и складки, которые пролегали около носа и рта, выдавали его возраст. На вид ему было далеко за пятьдесят. Хмурый взгляд, дрожащие руки, молчаливость вполне соответствовали его профессии. Все обитатели смертного корпуса знали, что кормушка на дню открывается четыре раза – три раза для принятия пищи и один раз для защелкивания наручников перед прогулкой. Дверь же открывалась один раз и только ночью, – днем она не открывалась никогда. Самыми тягостными минутами были минуты ожидания прогулки после отбоя. И когда дольше обычного приходилось ждать конвой, мысли в голове проносились как шальные, обгоняя друг друга, ибо время вывода на прогулку совпадало со временем вывода на расстрел. При мне, пока я находился в этом корпусе, расстреляли четверых. Сухов и цыганенок, его подельник, к счастью, были последними. Мне кажется, что смерть человек чувствует каким-то спящим до времени шестым чувством… Каких только не приходило мыслей каждый день в тот период времени с отбоя и до начала прогулки! Бывало, приходилось часами сидеть у дверей камеры и прислушиваться к малейшему шороху, а иногда часами шагать по камере, призывая эту самую смерть как манну небесную.
Глубокие морщины вокруг глаз и складки, которые пролегали около носа и рта, выдавали его возраст. На вид ему было далеко за пятьдесят. Хмурый взгляд, дрожащие руки, молчаливость вполне соответствовали его профессии. Все обитатели смертного корпуса знали, что кормушка на дню открывается четыре раза – три раза для принятия пищи и один раз для защелкивания наручников перед прогулкой. Дверь же открывалась один раз и только ночью, – днем она не открывалась никогда. Самыми тягостными минутами были минуты ожидания прогулки после отбоя. И когда дольше обычного приходилось ждать конвой, мысли в голове проносились как шальные, обгоняя друг друга, ибо время вывода на прогулку совпадало со временем вывода на расстрел. При мне, пока я находился в этом корпусе, расстреляли четверых. Сухов и цыганенок, его подельник, к счастью, были последними. Мне кажется, что смерть человек чувствует каким-то спящим до времени шестым чувством… Каких только не приходило мыслей каждый день в тот период времени с отбоя и до начала прогулки! Бывало, приходилось часами сидеть у дверей камеры и прислушиваться к малейшему шороху, а иногда часами шагать по камере, призывая эту самую смерть как манну небесную. Я вспоминаю, как с самого моего водворения в эту камеру я целыми днями напролет просиживал на корточках возле двери. Перед этим, сразу после суда, получился у нас с мусорами небольшой хипиш и мне сломали ребро. Так вот, сидя у дверей камеры смертников, я даже не чувствовал боли телесной. Ребро так и срослось, крест-накрест. Много позже, когда мне делали операцию в Туркмении, в городе Чарджоу, врач-хирург после операции спрашивал меня, в каком же Богом забытом месте я находился в тот момент, когда получил подобную травму. Однако страх был сильнее боли. Мне кажется, что казни страшнее этого ожидания трудно придумать, потому что человек наказывает себя сам, постоянно психологически настраиваясь на неминуемый скорый конец. В моем случае апогеем ожидания этого самого конца были те доли секунды, когда я в наручниках выходил из камеры и внимательно смотрел на руки конвоя – нет ли наготове еще одной пары браслетов на ноги. Видя отсутствие кандалов, я облегченно вздыхал и успокаивался ровно на сутки.
Я вспоминаю, как с самого моего водворения в эту камеру я целыми днями напролет просиживал на корточках возле двери. Перед этим, сразу после суда, получился у нас с мусорами небольшой хипиш и мне сломали ребро. Так вот, сидя у дверей камеры смертников, я даже не чувствовал боли телесной. Ребро так и срослось, крест-накрест. Много позже, когда мне делали операцию в Туркмении, в городе Чарджоу, врач-хирург после операции спрашивал меня, в каком же Богом забытом месте я находился в тот момент, когда получил подобную травму. Однако страх был сильнее боли. Мне кажется, что казни страшнее этого ожидания трудно придумать, потому что человек наказывает себя сам, постоянно психологически настраиваясь на неминуемый скорый конец. В моем случае апогеем ожидания этого самого конца были те доли секунды, когда я в наручниках выходил из камеры и внимательно смотрел на руки конвоя – нет ли наготове еще одной пары браслетов на ноги. Видя отсутствие кандалов, я облегченно вздыхал и успокаивался ровно на сутки. Так продолжалось 5 месяцев и 26 дней, пока на 27-й день, ближе к вечеру, я не услышал шум открываемой двери, такой непривычный в это время, зловещий и загадочный. Я замер на месте. Точно помню, что вся моя жизнь каким-то образом промелькнула передо мной как на экране, с быстротой мысли. Я каждый день представлял этот момент и ждал его, а когда он пришел, был не готов ко встрече с ним. Так в жизни бывает очень часто. В этот момент я как бы раздвоился. Один Заур говорил: «Все, это конец». Другой не говорил ничего, он, затаив дыхание и надежду, молчал. Да, затаив таинственную, ни на чем не основанную надежду. Именно тогда я понял и ощутил, что последней умирает действительно надежда человека.
Так продолжалось 5 месяцев и 26 дней, пока на 27-й день, ближе к вечеру, я не услышал шум открываемой двери, такой непривычный в это время, зловещий и загадочный. Я замер на месте. Точно помню, что вся моя жизнь каким-то образом промелькнула передо мной как на экране, с быстротой мысли. Я каждый день представлял этот момент и ждал его, а когда он пришел, был не готов ко встрече с ним. Так в жизни бывает очень часто. В этот момент я как бы раздвоился. Один Заур говорил: «Все, это конец». Другой не говорил ничего, он, затаив дыхание и надежду, молчал. Да, затаив таинственную, ни на чем не основанную надежду. Именно тогда я понял и ощутил, что последней умирает действительно надежда человека.* * *
В решительные минуты жизни сама природа подсказывает человеку его действия. Его поведением управляет сочетание привычки и мышления, доведенного до высшей степени быстроты и умения приспособляться к данным обстоятельствам.
Почти вдоль всей некогда могучей страны пролегал наш путь по этапу, на северо-восток к китайско-монгольской границе. Читинская область, город Нерчинск – таков был наш конечный пункт. Краснодар, Ростов, Пенза, Казань, Свердловск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Чита. Вот неполный перечень городов, в тюрьмах которых мы побывали, и в каждой не меньше полумесяца, пока добрались до места назначения. В то время люди шли по этапу многие месяцы, и в этом не было ничего удивительного. Как бы ни была хорошо отлажена система ГУЛАГа, все же и она имела свои погрешности, и в частности это касалось транспортировки заключенных, а последнее, естественно, было не в их пользу. Ибо в любое время года этап, да еще и дальний, – это всегда каторга, ну а если летом, то, пожалуй, и вдвойне. Думаю, вам нетрудно себе представить вагон-«столыпин». Кстати, название свое он получил благодаря переселениям крестьян, которые проводил царский министр Столыпин. Так вот, это простой товарный вагон, то же купе, только вместо стены и двери – сплошная решетка. В самом купе – три ряда почти сплошных нар, заполняется купе всегда до отказа, то есть сидеть можно, но лечь некуда, и так приходится ехать месяцами, с некоторыми перерывами в пересыльных тюрьмах, пока не доберешься до места назначения.
Читинская область, город Нерчинск – таков был наш конечный пункт. Краснодар, Ростов, Пенза, Казань, Свердловск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Чита. Вот неполный перечень городов, в тюрьмах которых мы побывали, и в каждой не меньше полумесяца, пока добрались до места назначения. В то время люди шли по этапу многие месяцы, и в этом не было ничего удивительного. Как бы ни была хорошо отлажена система ГУЛАГа, все же и она имела свои погрешности, и в частности это касалось транспортировки заключенных, а последнее, естественно, было не в их пользу. Ибо в любое время года этап, да еще и дальний, – это всегда каторга, ну а если летом, то, пожалуй, и вдвойне. Думаю, вам нетрудно себе представить вагон-«столыпин». Кстати, название свое он получил благодаря переселениям крестьян, которые проводил царский министр Столыпин. Так вот, это простой товарный вагон, то же купе, только вместо стены и двери – сплошная решетка. В самом купе – три ряда почти сплошных нар, заполняется купе всегда до отказа, то есть сидеть можно, но лечь некуда, и так приходится ехать месяцами, с некоторыми перерывами в пересыльных тюрьмах, пока не доберешься до места назначения. Даже человеку, не сопровождаемому конвоем, не под силу вынести такой путь. Что же приходится терпеть людям заключенным, человеку непосвященному остается только догадываться. Не успеешь выпрыгнуть из вагона, звучит команда: сесть, положить вещи впереди себя, руки за голову. Так и сидишь, пока все не выйдут из вагона, затем начинают считать по головам, как скот. После чего звучат наставления: шаг влево, шаг вправо, прыжок вверх считается за побег – конвой шутить не любит, и уже для профилактики командуют раз пять сесть, встать и шагом марш. Где-то невдалеке ждут «воронки» (машины, специально приспособленные и оборудованные для конвоирования), но до них уже почти бежишь, так как конвой немного спускает с поводков собак, и если отстанешь, то зубов этих тварей не избежать. Передних заставляют идти ускоренным шагом, а последним, то есть больным и старикам, приходится бежать. Можно только догадываться, чему учили на службе этих 18-20-летних юнцов, если никто из нас не видел от них ни сочувствия, ни жалости, о большем и говорить не приходится.
Даже человеку, не сопровождаемому конвоем, не под силу вынести такой путь. Что же приходится терпеть людям заключенным, человеку непосвященному остается только догадываться. Не успеешь выпрыгнуть из вагона, звучит команда: сесть, положить вещи впереди себя, руки за голову. Так и сидишь, пока все не выйдут из вагона, затем начинают считать по головам, как скот. После чего звучат наставления: шаг влево, шаг вправо, прыжок вверх считается за побег – конвой шутить не любит, и уже для профилактики командуют раз пять сесть, встать и шагом марш. Где-то невдалеке ждут «воронки» (машины, специально приспособленные и оборудованные для конвоирования), но до них уже почти бежишь, так как конвой немного спускает с поводков собак, и если отстанешь, то зубов этих тварей не избежать. Передних заставляют идти ускоренным шагом, а последним, то есть больным и старикам, приходится бежать. Можно только догадываться, чему учили на службе этих 18-20-летних юнцов, если никто из нас не видел от них ни сочувствия, ни жалости, о большем и говорить не приходится. Самым ненавистным считался конвой, где преобладали лица азиатских национальностей, так же как и вологодский конвой. Это были натуральные изверги. Считалось, повезло, если конвой с Кавказа или из Сибири, эти вели себя по возможности по-людски, да и всегда с ними можно было о чем-то договориться.
Самым ненавистным считался конвой, где преобладали лица азиатских национальностей, так же как и вологодский конвой. Это были натуральные изверги. Считалось, повезло, если конвой с Кавказа или из Сибири, эти вели себя по возможности по-людски, да и всегда с ними можно было о чем-то договориться.
И вот, погрузившись в «воронки», следуем в тюрьму, ну а здесь начинается процедура приема. Заводят в помещение, где вдоль стен намертво приколочены лавки, а в одной из стен окошко. Приказывают раздеться донага, а вещи бросить в это самое окошко. Затем заставляют согнуться буквой «Г», раздвинуть ягодицы – и в буквальном смысле заглядывают в задний проход, не спрятано ли там что-то. Если все в порядке, то проходишь в другое помещение, где в куче лежат вещи всех тех, кто прошел шмон. Пока найдешь свои, звучит команда «выходи». Теперь уже ведут в баню, ну а после бани – в камеру. Конечно, камера транзита резко отличается от общих камер, то есть тех, где сидят либо до суда, либо после. Там, где приходится сидеть некоторое время, мы стараемся обустроиться по возможности с уютом, там же, где проездом, как в поговорке: после меня хоть потоп. Я даже встречал в транзитных камерах в туалете опарышей, это такие белые черви, я на них после в Коми, на Печоре, рыбу ловил. В общем, здесь так же, как и везде в тюрьме. Если есть каторжане, значит, будут чистота и относительный порядок, насколько их можно создать в транзите. Но что бы мы ни делали, а вот от вшей и клопов никуда не деться: они всегда достанут, аж порой бывает невмоготу. А все потому, что в транзитных камерах матрацы и подушки лежат годами, отполированные до блеска грязью, даже материала не видно, особенно на подушках. О простынях, наволочках, также как и об одеялах, не может быть и речи. Иногда можно услышать возмущение какого-нибудь паренька-первохода, так на него смотрят так, будто он потребовал апартаменты с ванной и отдельным туалетом. До такой ужасающей степени утвердились эти традиции как по этапу, так и во всей системе. Вот и приходится сидеть полмесяца, месяц, а иногда и больше – в зависимости от того, как повезет с этапом. Когда же забирают на этап, то процедура почти такая же, только шмон проходит непосредственно в «Столыпине», по ходу этапа.
Я даже встречал в транзитных камерах в туалете опарышей, это такие белые черви, я на них после в Коми, на Печоре, рыбу ловил. В общем, здесь так же, как и везде в тюрьме. Если есть каторжане, значит, будут чистота и относительный порядок, насколько их можно создать в транзите. Но что бы мы ни делали, а вот от вшей и клопов никуда не деться: они всегда достанут, аж порой бывает невмоготу. А все потому, что в транзитных камерах матрацы и подушки лежат годами, отполированные до блеска грязью, даже материала не видно, особенно на подушках. О простынях, наволочках, также как и об одеялах, не может быть и речи. Иногда можно услышать возмущение какого-нибудь паренька-первохода, так на него смотрят так, будто он потребовал апартаменты с ванной и отдельным туалетом. До такой ужасающей степени утвердились эти традиции как по этапу, так и во всей системе. Вот и приходится сидеть полмесяца, месяц, а иногда и больше – в зависимости от того, как повезет с этапом. Когда же забирают на этап, то процедура почти такая же, только шмон проходит непосредственно в «Столыпине», по ходу этапа.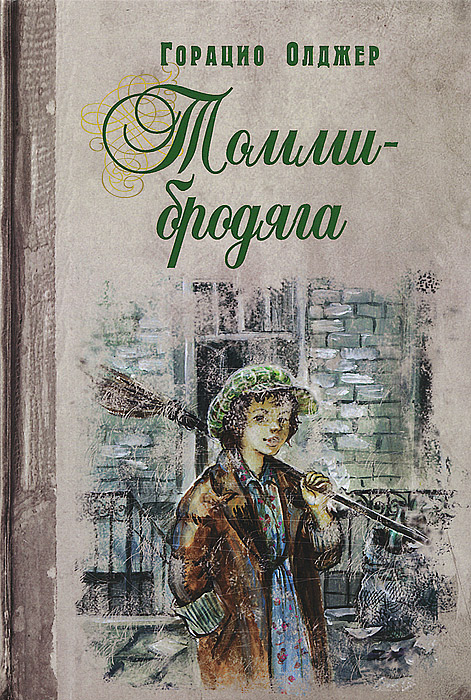 Но как бы ни забивали купе «столыпинских вагонов» до отказа, всегда найдутся люди, которые подскажут, как правильно и как лучше разместиться, помогут всем, чем смогут, – и делом, и советом. Человек больной или старый не останется без внимания, и вещи кто-нибудь поможет донести, и, если надо, потеснятся, чтобы прилег. Общее горе и нужда хоть и озлобляют, но все же доброта и человеколюбие почти всегда берут верх. Так уж устроен арестант, как бы ни было плохо самому, но, видя, что кому-то еще хуже, он забывает о своем горе и старается помочь.
Но как бы ни забивали купе «столыпинских вагонов» до отказа, всегда найдутся люди, которые подскажут, как правильно и как лучше разместиться, помогут всем, чем смогут, – и делом, и советом. Человек больной или старый не останется без внимания, и вещи кто-нибудь поможет донести, и, если надо, потеснятся, чтобы прилег. Общее горе и нужда хоть и озлобляют, но все же доброта и человеколюбие почти всегда берут верх. Так уж устроен арестант, как бы ни было плохо самому, но, видя, что кому-то еще хуже, он забывает о своем горе и старается помочь.
Много лет назад я читал статью о Пауэрсе, военном летчике США, которого сбили в 1959 году где-то над Уралом, когда его самолет-разведчик пересек нашу границу. Так вот, сидел этот Пауэрс во Владимире, в крытой, и все время находился в санчасти, – видно, так распорядились сверху, чтобы в грязь лицом не ударить, лучшего-то места в тюрьме нет. После суда его отправили на родину, в США. По приезде домой он дал интервью: «Русские три года держали меня в туалете». Видимо, то, что для нас хорошо, для них из ряда вон плохо, у них и психология другая, да и отношение к людям, в частности к заключенным, абсолютно другое.
Видимо, то, что для нас хорошо, для них из ряда вон плохо, у них и психология другая, да и отношение к людям, в частности к заключенным, абсолютно другое.
Заур Зугумов — Бродяга читать онлайн
12 3 4 5 6 7 …92
Заур Зугумов
БРОДЯГА
ОТ АВТОРА
Я всегда знал, что стезя писателя терниста, да и не думал никогда, что у меня хватит знаний и таланта, а главное — терпения и выдержки, для того чтобы написать книгу. И не просто книгу, а автобиографическую повесть, то есть историю моей жизни. Требовался сильный толчок, который подвигнул бы меня на этот нелегкий труд. И случай не заставил себя ждать, точнее, не случай, а целый ряд всякого рода случайностей. Я понял, что со времен гласности обращаться к уголовной тематике и блатному фольклору — в литературе, поэзии, на эстраде и в кино — стало очень модным и даже доходным делом. В конечном счете все это и некоторые другие факторы, вместе взятые, определили мои дальнейшие действия. Преступный мир и все, что с ним связано, всегда было мрачной стороной нашей жизни, закрытой плотной завесой таинственности.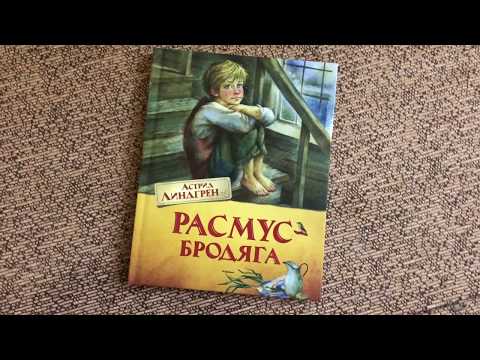 Многие люди в свое время пытались поднять эту завесу, но они, как правило, расплачивались за свои попытки кто свободой, а кто и жизнью. Казалось бы, такое желание поведать правду о жизни заключенных, об их бедах и страданиях должно было бы заинтересовать многих, но увы! Некоторые доморощенные писаки в погоне за деньгами в своих романах до такой степени замусорили эту мало кому известную сферу жизни враньем и выдуманными историями, что мне не осталось ничего другого, как взяться за перо. Я провел в застенках ГУЛАГа около двадцати лет, из них больше половины — в камерной системе. Все режимы, начиная с ДВК (детская воспитательная колония), куда меня направили, а точнее, водворили в двенадцатилетнем возрасте, и кончая особым режимом и камерой смертников, где я провел около полугода, несколько лагерных раскруток, в том числе побег из таежного лагеря Коми АССР, — все эти испытания я прошел. Но всего, конечно, во вступлении не напишешь, да это и ни к чему, я думаю. Хочу лишь особо подчеркнуть, что нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах я не шел даже на мало-мальский компромисс, если это было против моих убеждений.
Многие люди в свое время пытались поднять эту завесу, но они, как правило, расплачивались за свои попытки кто свободой, а кто и жизнью. Казалось бы, такое желание поведать правду о жизни заключенных, об их бедах и страданиях должно было бы заинтересовать многих, но увы! Некоторые доморощенные писаки в погоне за деньгами в своих романах до такой степени замусорили эту мало кому известную сферу жизни враньем и выдуманными историями, что мне не осталось ничего другого, как взяться за перо. Я провел в застенках ГУЛАГа около двадцати лет, из них больше половины — в камерной системе. Все режимы, начиная с ДВК (детская воспитательная колония), куда меня направили, а точнее, водворили в двенадцатилетнем возрасте, и кончая особым режимом и камерой смертников, где я провел около полугода, несколько лагерных раскруток, в том числе побег из таежного лагеря Коми АССР, — все эти испытания я прошел. Но всего, конечно, во вступлении не напишешь, да это и ни к чему, я думаю. Хочу лишь особо подчеркнуть, что нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах я не шел даже на мало-мальский компромисс, если это было против моих убеждений. Поэтому, думаю, моя честно прожитая жизнь в преступном мире дает мне право поведать читателям правду обо всех испытаниях, которые мне пришлось пережить. Уверен, что в этой книге каждый может найти пищу для размышлений, начиная от юнцов, прячущихся по подъездам с мастырками в рукавах, до высокопоставленных чиновников МВД. Эта книга расскажет вам о пути от зла к добру, от лжи к истине, от ночи ко дню. Если события, о которых в ней идет речь, вызовут у вас сочувствие или сопереживание, значит, я достиг своей цели. «Бродяга» — это вексель, выданный мне в юности, но который я сумел оплатить лишь в преклонном возрасте.
Поэтому, думаю, моя честно прожитая жизнь в преступном мире дает мне право поведать читателям правду обо всех испытаниях, которые мне пришлось пережить. Уверен, что в этой книге каждый может найти пищу для размышлений, начиная от юнцов, прячущихся по подъездам с мастырками в рукавах, до высокопоставленных чиновников МВД. Эта книга расскажет вам о пути от зла к добру, от лжи к истине, от ночи ко дню. Если события, о которых в ней идет речь, вызовут у вас сочувствие или сопереживание, значит, я достиг своей цели. «Бродяга» — это вексель, выданный мне в юности, но который я сумел оплатить лишь в преклонном возрасте.
Махачкала, 2001
С уважением к читателю Заур Зугумов
Книга первая
Отчего всякая смертная казнь оскорбляет нас больше, чем убийство? Это объясняется холодностью судьи, мучительным приготовлением, сознанием, что здесь человек употребляется как средство, чтобы устрашить других. Ибо вина не наказывается, даже если бы вообще существовала вина: она лежит на воспитателях, родителях, на окружающей среде, на нас самих, а не на преступнике, — я имею в виду побудительную причину.
Ницше
ПРОЛОГ
«Прощайте, братки!..» — услышал я как-то среди ночи отрывистый, отчаянный крик. Еще даже не проснувшись совсем, я узнал голос своего соседа по камере, который сидел со мной через стенку, — голос Лехи Сухова. Сомнений быть не могло: его уводили в ночь и, видно, закрыли рот руками, когда он хотел на прощание проститься с нами, — значит, его увели на расстрел. Подскочив к двери, я присел на корточки и, приложив ухо к двери, стал прислушиваться, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, но было тихо, как в могиле. В какой-то момент мне даже показалось, что все это мне послышалось и я схожу с ума, но дрожь, которая то и дело пробегала по телу, говорила об обратном — к моему глубокому сожалению. Бог мой, как бы мне хотелось ни о чем не думать, ничего не ждать, ни на что не надеяться, не воспринимать мир вообще, жить в своем иллюзорном мире, но увы… Как я завидовал в тот момент своему подельнику, который уже на начальном этапе нашего следствия сошел с ума от пыток, хотя, как читатель, думаю, уже понял, завидовать было нечему. Все же, с моей точки зрения, он уже отмучился. Я почему-то вспомнил, как он улыбался и строил смешные рожи тем, кто сидел в зале, когда судья бакинского суда объявлял нам приговор. Зугумов Заур Магомедович — к высшей мере наказания, расстрелу, Даудов Абдулла Магомедович — к расстрелу, и когда дошла очередь до нашего спятившего подельника, он даже не повернулся в сторону судьи, продолжая улыбаться и корчить всем рожи. И вот сейчас, сидя уже почти полгода в камере смертников, ожидая утверждения или отмены приговора, я завидовал ему, который сошел с ума и сидел где-то далеко от нас, — не потому, что он был менее виновен, а потому, что не воспринимал мир как таковой. Что касается другого нашего подельника, по кличке Лимпус, то он сидел недалеко от меня, нас разделяла всего одна камера, но при определенных обстоятельствах это расстояние становится огромным. Именно в эту ночь расстреляли, как я узнал позже, двоих каторжан из нашего корпуса, а это было немаловажным событием, если учесть, что камер смертников было восемь — и все одиночки.
Все же, с моей точки зрения, он уже отмучился. Я почему-то вспомнил, как он улыбался и строил смешные рожи тем, кто сидел в зале, когда судья бакинского суда объявлял нам приговор. Зугумов Заур Магомедович — к высшей мере наказания, расстрелу, Даудов Абдулла Магомедович — к расстрелу, и когда дошла очередь до нашего спятившего подельника, он даже не повернулся в сторону судьи, продолжая улыбаться и корчить всем рожи. И вот сейчас, сидя уже почти полгода в камере смертников, ожидая утверждения или отмены приговора, я завидовал ему, который сошел с ума и сидел где-то далеко от нас, — не потому, что он был менее виновен, а потому, что не воспринимал мир как таковой. Что касается другого нашего подельника, по кличке Лимпус, то он сидел недалеко от меня, нас разделяла всего одна камера, но при определенных обстоятельствах это расстояние становится огромным. Именно в эту ночь расстреляли, как я узнал позже, двоих каторжан из нашего корпуса, а это было немаловажным событием, если учесть, что камер смертников было восемь — и все одиночки. Никогда не забуду, как, сидя на корточках у дверей своей пятой камеры смертников и приложив ухо к двери, я ловил каждый звук извне и вспоминал рассказ одного порчака из хозобслуги. Тогда я еще находился под следствием и сидел в корпусе КПЗ горотдела Баку. Мы просидели там по два месяца при максимально допустимых по закону тринадцати сутках, и только потом нас развезли по тюрьмам. Я попал в центральную тюрьму Баку, других же подельников поместили в тюрьме Шуваляны в пригороде. С самого начала, еще в карантине, я сидел, как мне сказали надзиратели, в камере, откуда в свое время бежал Сталин. Я был и в той камере один и шутил по этому поводу сам с собой, спрашивая себя, к добру ли это. И еще я ломал голову над тем, как умудрился человек, кто бы он ни был, убежать из этого каземата, не будучи невидимкой. Начало тюремного житья здесь было уже знаменательным. На следующий день я попал по распределению во второй корпус, а еще через день к тюрьме подъехал Тофик Босяк, один из бакинских воров в законе, и доверил мне смотреть за положением в двух корпусах — первом и втором.
Никогда не забуду, как, сидя на корточках у дверей своей пятой камеры смертников и приложив ухо к двери, я ловил каждый звук извне и вспоминал рассказ одного порчака из хозобслуги. Тогда я еще находился под следствием и сидел в корпусе КПЗ горотдела Баку. Мы просидели там по два месяца при максимально допустимых по закону тринадцати сутках, и только потом нас развезли по тюрьмам. Я попал в центральную тюрьму Баку, других же подельников поместили в тюрьме Шуваляны в пригороде. С самого начала, еще в карантине, я сидел, как мне сказали надзиратели, в камере, откуда в свое время бежал Сталин. Я был и в той камере один и шутил по этому поводу сам с собой, спрашивая себя, к добру ли это. И еще я ломал голову над тем, как умудрился человек, кто бы он ни был, убежать из этого каземата, не будучи невидимкой. Начало тюремного житья здесь было уже знаменательным. На следующий день я попал по распределению во второй корпус, а еще через день к тюрьме подъехал Тофик Босяк, один из бакинских воров в законе, и доверил мне смотреть за положением в двух корпусах — первом и втором. Всего в центральной тюрьме было, как и в Бутырках, шесть корпусов. С левой стороны второго корпуса можно было спокойно разговаривать со свободой, — правда, приходилось кричать, но это было кстати, ибо контингент, услышавший от вора имя положенца, никогда не позволит себе никаких сомнений в его компетенции. Сообщение слышали и менты, но и это было на руку ворам, ибо и менты таким образом становились ручными. Бакинская центральная того времени была тюрьмой, о которой мог мечтать любой заключенный ГУЛАГа. Почти в любое время суток, имея деньги, арестант мог себе позволить множество запрещенных законом вещей: пойти в камеру к другу в гости после поверки, иметь курево, чай, наркотики, продукты питания… Все это можно было заказать со свободы, — при желании даже женщин, были бы деньги, за них здесь почти все продавалось и покупалось. Но за такими делами нужен воровской глаз, чтобы все было честно и благородно, по-воровски. Вот я и осуществлял эту непростую миссию. У меня была возможность почти в любое время выходить из камеры и ходить по двум корпусам туда, где требовалось мое присутствие.
Всего в центральной тюрьме было, как и в Бутырках, шесть корпусов. С левой стороны второго корпуса можно было спокойно разговаривать со свободой, — правда, приходилось кричать, но это было кстати, ибо контингент, услышавший от вора имя положенца, никогда не позволит себе никаких сомнений в его компетенции. Сообщение слышали и менты, но и это было на руку ворам, ибо и менты таким образом становились ручными. Бакинская центральная того времени была тюрьмой, о которой мог мечтать любой заключенный ГУЛАГа. Почти в любое время суток, имея деньги, арестант мог себе позволить множество запрещенных законом вещей: пойти в камеру к другу в гости после поверки, иметь курево, чай, наркотики, продукты питания… Все это можно было заказать со свободы, — при желании даже женщин, были бы деньги, за них здесь почти все продавалось и покупалось. Но за такими делами нужен воровской глаз, чтобы все было честно и благородно, по-воровски. Вот я и осуществлял эту непростую миссию. У меня была возможность почти в любое время выходить из камеры и ходить по двум корпусам туда, где требовалось мое присутствие. Естественно, при этом я вел себя прилично, положение обязывало меня не употреблять наркотики, спиртное, не быть предвзятым и пристрастным ни в чем и ни к кому, даже по отношению к родному брату. Однажды во дворе тюрьмы рабочие хозблока показали мне одного типа, который, сидя на бревнышке и привалившись спиной к стене прогулочного дворика, закрыв глаза, наслаждался ранним весенним солнцем так, будто только недавно вышел из темницы. Его поза сразу бросалась в глаза искушенному глазу арестанта. Он был горбат, видно с рождения, с копной густых темных с проседью волос, неряшливый на вид и с отталкивающей внешностью попрошайки-порчака. Мысль о разговоре с подобным типом вызывала брезгливость. Я пересилил в конце концов антипатию, ибо мне нужны были сведения, которыми обладал только этот человек, если позволительно называть человеком такое существо. Я уже давно не тешил себя надеждой вывернуться по ходу следствия из цепких лап смерти. Уже тогда я ясно понимал, что подобное «непредвзятое» следствие неминуемо приведет меня к расстрелу.
Естественно, при этом я вел себя прилично, положение обязывало меня не употреблять наркотики, спиртное, не быть предвзятым и пристрастным ни в чем и ни к кому, даже по отношению к родному брату. Однажды во дворе тюрьмы рабочие хозблока показали мне одного типа, который, сидя на бревнышке и привалившись спиной к стене прогулочного дворика, закрыв глаза, наслаждался ранним весенним солнцем так, будто только недавно вышел из темницы. Его поза сразу бросалась в глаза искушенному глазу арестанта. Он был горбат, видно с рождения, с копной густых темных с проседью волос, неряшливый на вид и с отталкивающей внешностью попрошайки-порчака. Мысль о разговоре с подобным типом вызывала брезгливость. Я пересилил в конце концов антипатию, ибо мне нужны были сведения, которыми обладал только этот человек, если позволительно называть человеком такое существо. Я уже давно не тешил себя надеждой вывернуться по ходу следствия из цепких лап смерти. Уже тогда я ясно понимал, что подобное «непредвзятое» следствие неминуемо приведет меня к расстрелу. Центральная бакинская — тюрьма исполнительная, то есть приговор суда к высшей мере наказания приводится в исполнение именно в ней. И вот этот самый горбун и был «шнырем камеры грез» — так называли его все арестанты, которые знали, чем он зарабатывал себе в тюрьме на кусок хлеба. То есть он был шнырем именно тех камер, где расстреливали и готовили к расстрелу, что в принципе одно и то же. Но разговорить эту мрачную личность было совсем не просто. Он ничем не интересовался — при разговоре с ним создавалось такое впечатление, что он вообще живет где-то в потустороннем мире, и даже когда он начал отвечать на мои вопросы, он словно рассказывал о какой-то далекой планете. Несомненно, он был не в своем уме, но как бы до определенных пределов и делал свою работу по инерции, как робот. Собрав в уме воедино отрывистые эпизоды его рассказа, я составил себе следующее представление о том, где и как творит правосудие госпожа Фемида. Вот как это происходило: среди ночи, как правило ближе к утру, в камеру, предназначенную для подобного рода процедур, заводят арестанта в наручниках и ножных кандалах.
Центральная бакинская — тюрьма исполнительная, то есть приговор суда к высшей мере наказания приводится в исполнение именно в ней. И вот этот самый горбун и был «шнырем камеры грез» — так называли его все арестанты, которые знали, чем он зарабатывал себе в тюрьме на кусок хлеба. То есть он был шнырем именно тех камер, где расстреливали и готовили к расстрелу, что в принципе одно и то же. Но разговорить эту мрачную личность было совсем не просто. Он ничем не интересовался — при разговоре с ним создавалось такое впечатление, что он вообще живет где-то в потустороннем мире, и даже когда он начал отвечать на мои вопросы, он словно рассказывал о какой-то далекой планете. Несомненно, он был не в своем уме, но как бы до определенных пределов и делал свою работу по инерции, как робот. Собрав в уме воедино отрывистые эпизоды его рассказа, я составил себе следующее представление о том, где и как творит правосудие госпожа Фемида. Вот как это происходило: среди ночи, как правило ближе к утру, в камеру, предназначенную для подобного рода процедур, заводят арестанта в наручниках и ножных кандалах. За столом, покрытым зеленым казенным сукном, сидят прокурор, начальник тюрьмы и врач. Конвой, который приводит приговоренного, остается за дверью, наверное на всякий случай, а в этой самой комнате приговоренный тут же попадает под опеку самого исполнителя. С той минуты, как осужденного ввели, сам палач уже не отходит от него ни на шаг, до самой кончины приговоренного. При появлении осужденного присутствующие встают — и прокурор зачитывает приговор Верховного Совета СССР. Почему именно Верховного Совета СССР? Потому что при вынесении в любой из пятнадцати республик СССР приговора к высшей мере наказания именно Верховный Совет всей страны должен был дать окончательное заключение, виновен человек или нет. После того как приговор зачитан, исполнитель заводит несчастного в находящуюся рядом камеру, словно для каких-то подготовительных действий, и внезапно стреляет ему в затылок. Затем исполнитель пробивает железным прутом отверстие в височной части головы несчастного и в таком виде фотографирует труп.
За столом, покрытым зеленым казенным сукном, сидят прокурор, начальник тюрьмы и врач. Конвой, который приводит приговоренного, остается за дверью, наверное на всякий случай, а в этой самой комнате приговоренный тут же попадает под опеку самого исполнителя. С той минуты, как осужденного ввели, сам палач уже не отходит от него ни на шаг, до самой кончины приговоренного. При появлении осужденного присутствующие встают — и прокурор зачитывает приговор Верховного Совета СССР. Почему именно Верховного Совета СССР? Потому что при вынесении в любой из пятнадцати республик СССР приговора к высшей мере наказания именно Верховный Совет всей страны должен был дать окончательное заключение, виновен человек или нет. После того как приговор зачитан, исполнитель заводит несчастного в находящуюся рядом камеру, словно для каких-то подготовительных действий, и внезапно стреляет ему в затылок. Затем исполнитель пробивает железным прутом отверстие в височной части головы несчастного и в таком виде фотографирует труп. Затем врач документально констатирует смерть и все четверо расписываются — удостоверяют исполнение приговора. Труп тайно вывозится за пределы тюрьмы. Куда — никто не знает, но родителям покойного труп никогда не выдается. Ну а следы «акта социальной защиты» этот самый шнырь должен был убрать. Когда он мне все это рассказывал, я внимательно наблюдал за ним, но эмоций было ноль. Обыденный рассказ о каком-то не особо важном происшествии. «Да, — подумал я тогда, — иногда человек хуже животного, потому что, имея способность размышлять и сострадать, он все же не делает ни того, ни другого, превращаясь в бесчувственное и безмозглое нечто».
Затем врач документально констатирует смерть и все четверо расписываются — удостоверяют исполнение приговора. Труп тайно вывозится за пределы тюрьмы. Куда — никто не знает, но родителям покойного труп никогда не выдается. Ну а следы «акта социальной защиты» этот самый шнырь должен был убрать. Когда он мне все это рассказывал, я внимательно наблюдал за ним, но эмоций было ноль. Обыденный рассказ о каком-то не особо важном происшествии. «Да, — подумал я тогда, — иногда человек хуже животного, потому что, имея способность размышлять и сострадать, он все же не делает ни того, ни другого, превращаясь в бесчувственное и безмозглое нечто».
Читать дальше
12 3 4 5 6 7 …92
Книга Леди Бродяги — Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 214 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )
Бродяга Чарли Рассела Хобана
- org/Review»>
Бродяга Чарли показывает, что, работая и прилагая усилия, мы можем стать теми, кем мы созданы.
 Эта ностальгическая классика наполнена очаровательными линиями…
Эта ностальгическая классика наполнена очаровательными линиями…Шерил Харт
Спасибо за переиздание Чарли Бродяги. Заказала для внучки. Я впервые обнаружил это в базальном ридере моей дочери в третьем классе в… Читать далее
Спасибо за переиздание Чарли Бродяги. Заказала для внучки. Впервые я обнаружил это в 19-летнем возрасте у дочери в третьем классе.84, и я помнил это все эти годы. Я бы хотел, чтобы вы переиздали «Стена» Мэтью Уилока Фрэнсис Хеллер, тоже волшебную и, к сожалению, больше не издаваемую.
Донна Талмейдж
Донна Талмейдж
Чарли узнает, что у него есть право принимать собственные решения, поскольку его родители дают ему такую свободу. Он узнает, отправившись в путь самостоятельно, что… Читать далее
Чарли узнает, что у него есть право принимать собственные решения, поскольку его родители дают ему такую свободу. Он узнает, отправившись в путь самостоятельно, что быть тем, кем он должен был быть, в конце концов, не так уж и плохо. Эта книга в твердом переплете предназначена для детей в возрасте от 3 до 8 лет, но будет интересна всем возрастам. Каждый рисунок имеет причудливый характер, который понравится детям.
Бонни Эннис
Бонни Эннис


 Эта ностальгическая классика наполнена очаровательными линиями…
Эта ностальгическая классика наполнена очаровательными линиями…