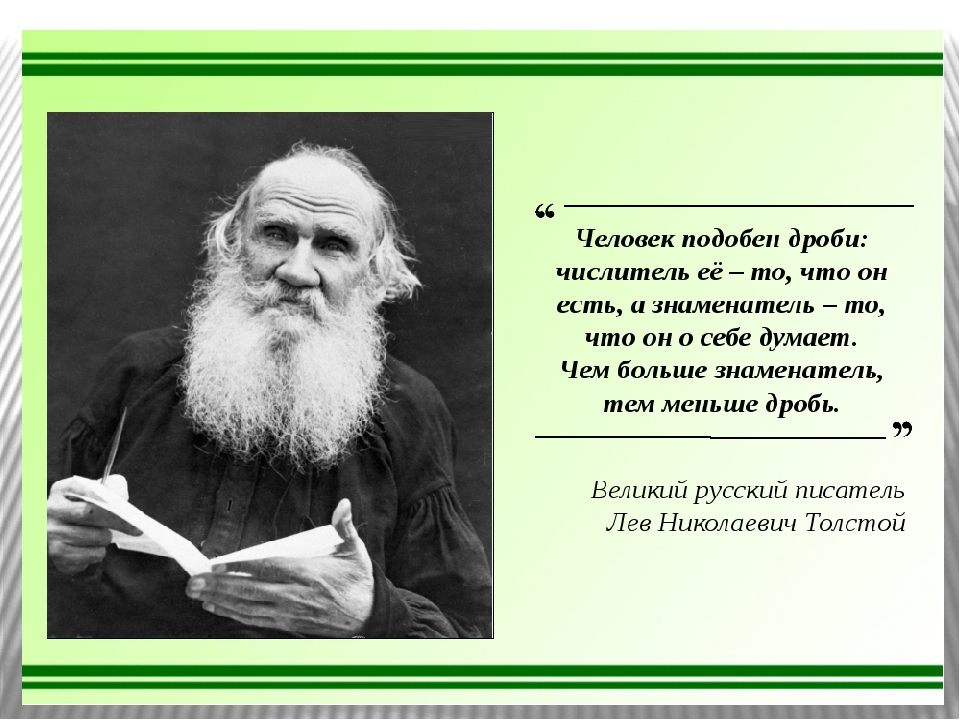Высказывания толстой: 25 высказываний Льва Толстого на каждый день
Лев Николаевич Толстой. Высказывания и афоризмы — МНОГОКНИГ.ee
Лев Николаевич Толстой. Высказывания и афоризмы — МНОГОКНИГ.ee — Книжный интернет-магазинкатегории
книги
НовинкиАкции %АвтомобилиДетективы, боевикиДетская литератураДом, быт, досугИностранные языки, словариИстория, политикаКомпьютерные технологииЛюбовный романМедицина и здоровьеПодарочные изданияПсихология, философияПутеводители, атласыСовременная и классическая литератураСпорт, оружие, рыбалкаСувениры. АксессуарыФантастикаЭзотерика, астрология, магияЭкономическая литература
Подарочные карты
игры, игрушки
Игрушки Книги-игры Настольные игры Развивающие игры
товары для малышей
Прорезыватели и пустышки Шезлонги и качели Автокресла Аксессуары для защиты ребенка Вигвам Детская мебель Детская одежда Детские кроватки Кровать для путешествий Купание малыша Матрасы Подушки для беременных Развивающие игрушки для малышей Текстиль Товары для кормления Уход за малышом Ходунки
товары для праздника
Все открытки Карнавальные костюмы, маски и аксессуары Одноразовая посуда Подарочные коробки Подарочные пакеты Свечи Шарики
товары для школы
Бумажная продукция Глобусы Канцелярские товары Папки Пеналы Товары для творчества Школьные ранцы
товары для живописи, рукоделия и хобби
Декорирование Жемчуг эффект для декупажа Живопись Контур по стеклу и керамике Контур по ткани Краски для свечей Маркеры для скетчинга Моделирование Прочее Рукоделие
традиционные товары
Костровые чаши и очаги Матрёшки Платки Самовары Фарфоровые фигурки
другие товары
Аксессуары для девочек Аксессуары для мальчиков Товары для пикника Фотоальбомы
издательство
Об издательстве Многоразовые наклейки Настольные игры Рабочие тетради для дошкольников Рабочие тетради для школьников Развивающее лото Раскраски для девочек Раскраски машины и техника Раскрась водой! Учебные пособия для дошкольников
нет тиража
Код: 9785386017484
К сожалению, весь тираж
 К сожалению, весь тираж
К сожалению, весь тираж этой книги закончился.
Автор: ТОЛСТОЙ Л.
Серия: Кофе с мудрецами
Примечание:
Рипол классик (А5-6/тв), ФИЛОСОФИЯ
В сборнике представлены избранные высказывания и афоризмы великого русского писателя и мыслителя.
Вице-спикер Госдумы, доказывая необходимость передачи Исаакия Церкви, допустил антисемитское высказывание
Global Look Press
Бывший телеведущий Первого канала, а ныне вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, курирующий блок гражданского общества, взаимодействия со СМИ, интернет и культуру, комментируя собравшую 200 тысяч подписей 
«К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством», — сказал депутат, подчеркнув, что власти обязаны исполнять закон, в данном случае — закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», передает «Интерфакс».
Кроме того, Толстой походя допустил антисемитское высказывание, намекнув на то, что нынешние борцы против передачи Исаакиевского собора РПЦ являются потомками евреев, которые в прошлом веке «рушили наши храмы». «Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек«, — сказал Петр Толстой.
Подобные заявления журналист сделал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию XXV юбилейных Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия». Вместе с ним в мероприятии участвовали представители РПЦ.
Государственные СМИ не стали передавать эти слова вице-спикера Госдумы, ограничившись цитатами о «шампанском на балконе» и «фейсбучной публике». Но скандал разразился, когда на высказывания вице-спикера Госдумы обратили внимание представители религиозных общин.
Важно отметить, что высказывания Толстого пришлись «ко времени» — на этой неделе в России проходит «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста и 72-й годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим). Его организаторами стали правительство Москвы, Российский еврейский конгресс и Центр «Холокост».
Глава департамента общественных связей Федерации еврейских организаций России Борух Горин заявил, что антисемитские высказывания, особенно от государственных деятелей такого уровня, неприемлемы. Он добавил, что слова Толстого не имеют никакого отношения к действительности, передает «Эхо Москвы».
Он добавил, что слова Толстого не имеют никакого отношения к действительности, передает «Эхо Москвы».
«Заявление не просто сомнительно, а оно абсолютно недопустимо и мне бы очень хотелось знать оценку руководства Государственной думы, руководства страны такого рода заявлениям, которые, на мой взгляд, совершенно подрывают основы современной России, современного общества», — отметил Горин.
«Я лично считаю заявление Толстого открытым антисемитизмом, чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические, в данном случае юдофобские. Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов. Есть совершенно разные взгляды на этот вопрос», — добавил он.
Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский согласен с оценкой Горина по отношению к высказыванию Толстого. «Мне уже прислали это «замечательное» в кавычках высказывание. Но я никогда не переоценивал культурный уровень большей части депутатов Государственной думы, особенно относящихся к «Единой России», особенно бывших ведущих федеральных каналов, таких, как господин Толстой», — заявил парламентарий.
«Мне уже прислали это «замечательное» в кавычках высказывание. Но я никогда не переоценивал культурный уровень большей части депутатов Государственной думы, особенно относящихся к «Единой России», особенно бывших ведущих федеральных каналов, таких, как господин Толстой», — заявил парламентарий.
«Я намерен, посоветовавшись с юристами, свои претензии облечь в форму официального заявления, возможно, в Следственный комитет, возможно, в прокуратуру. Поскольку полагаю, что то, что себе позволил господин Толстой, вообще, должно квалифицироваться как разжигание межнациональной вражды», — подчеркнул Вишневский.
В свою очередь, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров назвал заявление депутата Толстого оскорбительным и позвал его на экскурсию, чтобы рассказать, как на самом деле работал музей.
По словам Бурова, комментарии Толстого по поводу интеллигенции, разгуливающей по храму с шампанским, оскорбительны и не соответствуют действительности. «Во-первых, вывод оскорбителен сам по себе. В музее по определению не предусмотрено шампанское. Тем более в музее, который имеет целый ряд ограничений. Там не то что шампанское, там многих вещей нельзя делать. Во-вторых, ночью гости города поднимаются в лучшем случае на колоннаду, которая работает до половины пятого утра, для того, чтобы принять как можно большее число туристов», — приводит слова Бурова Life.
«Во-первых, вывод оскорбителен сам по себе. В музее по определению не предусмотрено шампанское. Тем более в музее, который имеет целый ряд ограничений. Там не то что шампанское, там многих вещей нельзя делать. Во-вторых, ночью гости города поднимаются в лучшем случае на колоннаду, которая работает до половины пятого утра, для того, чтобы принять как можно большее число туристов», — приводит слова Бурова Life.
Кроме того, руководитель музея посоветовал критикам изучить историю, прежде чем говорить о «болтающемся маятнике Фуко», который демонтировали в 1986 году.
«Я с удовольствием покажу ему (Толстому — Прим. NEWSru.com) и любому другому депутату Госдумы наш музей. Может быть, тогда мозги встанут на место и люди начнут говорить о том, что есть на самом деле, а не то, что является грязным домыслом», — добавил Буров.
Напомним, 10 января стало известно, что власти Северной столицы решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения. Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.
Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения. Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.
Черта оседлости (изначально черта постоянного жительства евреев) — граница территории, внутри которой в Российской Империи постоянно жили цыгане и иудеи.
Черта оседлости была определена указом Екатерины II 23 декабря 1791 года после второго раздела Речи Посполитой. После присоединения в 1815 году Царства Польского, в котором жили около 200 тыс. евреев, черта оседлости стала включать в себя 25 губерний на западе России (территории нынешних Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии, части Польши) и составляла 1,2 млн кв. км.
В 1835 году Николай I утвердил новое «Положение о евреях», в том числе вводившее термин черты оседлости. Оно подтвердило все ограничения на проживание евреев и вывело за границы черты оседлости Киев, Николаев, Севастополь; в прибалтийских губерниях разрешалось проживать только тем евреям, кто там родился. Евреи могли находиться вне черты оседлости не более шести недель и при этом должны были иметь паспорт, выдаваемый губернатором, и носить европейское или русское платье.
Евреи могли находиться вне черты оседлости не более шести недель и при этом должны были иметь паспорт, выдаваемый губернатором, и носить европейское или русское платье.
В 1850-1860-е годы отдельные категории еврейского населения получили право на свободу передвижения: купцы первой гильдии и часть ремесленников.
В 1870-е евреи, окончившие высшие учебные заведения, получили право жительства по всей империи.
К XX веку 94% евреев (около 5 млн человек) в Российской Империи проживали в пределах черты оседлости, составляя почти 12% населения этих земель, напоминает «Коммерсант».
Указ утратил силу 13 августа 1915 года, когда был подписан циркуляр главы МВД Николая Щербатова, разрешавший «евреям жить в городских поселениях, за исключением столиц и местностей, находящихся в ведении министерств Императорского Двора и Военного».
22 марта 1917 года Временное правительство приняло постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», упразднявший, в частности, черту оседлости.
Высказывания о А. П. Чехове
Главная → Краеведение → Писатели → А. П. Чехов →
Высказывания
о Чехове
(Горький,
Толстой, Станиславский и др.)
«Бесспорное, подлинно народное творчество великого русского писателя-реалиста Антона Павловича Чехова всегда будет служить для нас, иностранных писателей, лучшим примером».
/М. Бенюк/
«Степь»
«Прелесть! Ведь это же настоящая, настоящая степь! Прямо дышишь степью, когда читаешь».
/В. А. Гиляровский
А. Гиляровский
из кн. А. П. Чехов в воспоминаниях современников.-1960. с. 130/
«Чехов пользуется на Востоке огромной любовью. Своеобразная манера письма Чехова оказалась на редкость близкой вкусам нашего читателя: ибо хотя Чехов стихов не писал, все же он – подлинный поэт, рассказы и пьесы его – поэзия. Влияние Чехова на новую литературу и искусство Китая поистине огромно…»
/Го Мо-жо, китайский
писатель,
ученый и общественный
деятель/
«В течение последних двадцати лет самым могучим магнитом для молодых писателей многих стран был Чехов…»
/Д. Голсуорси. Высказывание относится к 1928 г./
В рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности. Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, «чего нет на свете…».
/ А. М. Горький.
Литературные заметки.
По поводу нового
рассказа А. П. Чехова «В овраге» 1900г./
«Как стилист Чехов недосягаем, и будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что этот язык создали Пушкин, Тургенев и Чехов».
/М. Горький/
«Сколько дивных минут прожил я над вашими книгами, сколько раз плакал над ними:
«… каждый новый рассказ Чехова всё усиливает одну глубоко ценную и нужную ноту – ноту бодрости и любви к жизни».
/А. М. Горький/
«Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в неё ясный смысл».
/А. М. Горький/
«…Чехов… один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, — друг, любящий её, сострадающий ей во всем, и Россия… долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям…»
/А. М. Горький
и А. Чехов.
Чехов.
Переписка. Статьи.
Высказывания.- М., 1951. с. 122-123/
«… ярко горят умы Великой красы и силы, сердца истинных художников».
/М. Горький (о Чехова)/
«Я хотел бы объясниться Вам в искреннейшей горячей любви, кою безответно питаю я Вам со времен младых ногтей моих, я хотел бы выразить мой восторг перед удивительным талантом Вашим…, в русской литературе ещё не было новеллиста, подобного Вам, а теперь Вы у нас самая ценная и крупная фигура», —
так писал М. Горький А. П. Чехову.
«Чехов …величайший мастер слова, уничтожающий критик буржуазно-помещичьего общества, в котором он жил».
/М. И. Калинин/
«Трудно говорить о Чехове – он слишком велик, слишком многогранен, чтобы его можно было измерить…»
/О Кейси, Шон/
«Чехов – могучий ваятель. Чем Чехов
повлиял на меня? Я пока не знаю, но всегда чувствовал постоянное и благодеятельное,
если так можно выразиться, излучение его книг».
/Л. Леонов/
«Чехов… был настроен жгуче протестантски к своему кошмарному времени».
/Луначарский А. В./
«Скучная история» А. П. Чехова
«…это совершенно необыкновенная вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее, — такая она печальная и странная. Эта история, именующая себя «скучной», а на самом деле потрясающая, удивительна своим глубочайшим проникновением в психологию».
/Томас Манн. Собр. соч. М., 1961, т.10, стр. 524/
«Из-за привычной обывателю фигуры ничем недовольного нытика, ходатая перед обществом за «смешных» людей, Чехов – «Певца сумерек» выступают линии другого Чехова – сильного веселого художника слова».
/Из статьи «Два Чехова». 1914г. В. В. Маяковский/
«Вишневый сад» как будто вобрал
в себя всё, что мог дать лучшего для театра Чехов, и всё, что мог лучшего
сделать театр с произведением Чехова».
/Вл. И. Немирович-Данченко/
«Дружественно и тесно сблизились их жизни [Чехова и Художественного театра] для того, чтобы создать в искусстве движение, которое не может остаться забытым в истории русского сценического творчества».
/Вл. И. Немирович-Данченко/
«Искусство Чехова – искусство художественной свободы и художественной правды».
/Вл. И. Немирович-Данченко «Через 30 лет»/
«Он был искренен и говорил и писал только так, как чувствовал.
Он был глубоко добросовестен и говорил и писал только о том, что знал крепко» (об А. П. Чехове)
/Вл. И. Немирович-Данченко «Через 30 лет»/
«Чехов – поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека…
…Читая
Чехова, становится стыдно позировать. Чехов своим искусством давал нам образцы
поведения, он был в числе десяти, двадцати писателей, давших нам русскую литературу
на поведение.
В наше время героических требований к личности Чехов, яркий представитель нашего русского родного дома, каждому претенденту на героя может служить проверкой: действительно ли ты цвет или пустоцвет».
/Пришвин М. «Незабудки»/
«Чеховский дом в Ялте дает живое представление о личности большого русского писателя… Мир вещей, составляющий его домашнюю обстановку, свидетельствует о том, что жил здесь человек «ясный умственно, чистый нравственно и опрятный физически».
/Л. Сейфулина/
«Антон Павлович был самым большим оптимистом будущего, какого мне только приходилось видеть. Он бодро, всегда оживленно, с верой рисовал красивое будущее нашей русской жизни».
/К. С. Станиславский/
«Глава о Чехове ещё не кончена, её ещё не прочли, как следует, не вникли в её сущность и преждевременно закрыли книгу.
Пусть её раскроют вновь, изучат и дочтут
до конца».
/К. С. Станиславский/
«Пусть для зрителей его пьесы – печальная страница прошлого, но для нас, артистов, передающих их на сцене, это страница будущего, олицетворение вечного стремления к лучшей жизни. Других путей нет для постижения тайников души Чехова. Ощущение правды реальной жизни в настоящем и искренняя вера в идеальную мечту, в будущее – вот ключи к потайным дверям творческого сверхсознания в его произведениях»
/К. С. Станиславский/
«Чехов – неисчерпаем, потому что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своем основном, духовном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы».
/К. С. Станиславский
из кн. «Моя
жизнь в искусстве/
«Чеховские мечты о будущей жизни
говорят, о высокой культуре духа, о Мировой Душе, о том Человеке, которому
нужны не «три аршина земли», а весь земной шар, о новой прекрасной жизни,
для создания которой нам надо ещё двести, триста, тысячу лет работать, трудиться
в поте лица, страдать».
/К. С. Станиславский/
«Главное, он был постоянно искренен, а это великое достоинство писателя, а благодаря своей искренности Чехов создал новые, совершенно новые формы писания».
/Л. Н. Толстой/
«Чехов – несравненный художник… Художник жизни. И достоинство его творчества в том, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще. А это главное…».
/Л. Н. Толстой/
«Чехов – это Пушкин в прозе»
/Л. Н. Толстой/
«… Чехов – истинный художник: его можно перечитывать несколько раз».
/Л. Н. Толстой/
«Чехова, как художника нельзя даже сравнивать
с прежними русскими писателями – с Тургеневым, с Достоевским или со мной.
У Чехова своя особенная манера, как у импрессионистов. Смотришь, как человек,
будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему под руку, и
никакого, как будто, отношения эти мазки между собою не имеют.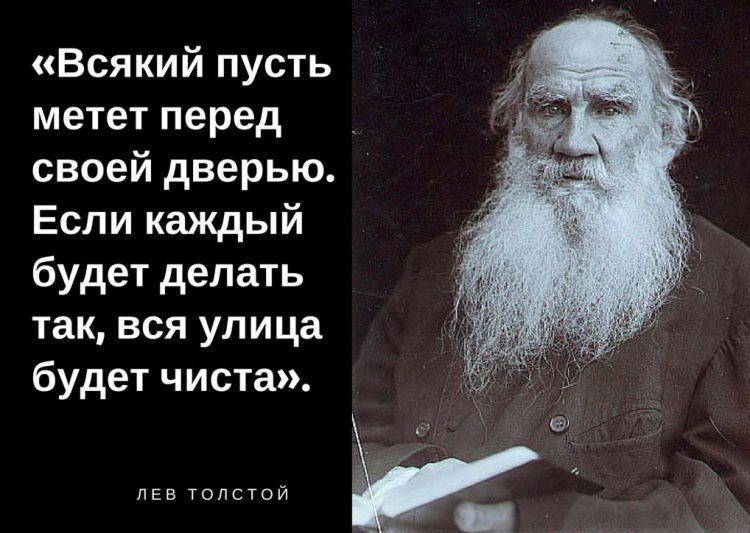 Но отойдешь
на некоторое расстояние, посмотришь и, в общем, получается цельное впечатление:
перед вами яркая, неотразимая картина природы. И вот ещё наивернейший признак,
что Чехов истинный художник: его можно перечитывать несколько раз…».
Но отойдешь
на некоторое расстояние, посмотришь и, в общем, получается цельное впечатление:
перед вами яркая, неотразимая картина природы. И вот ещё наивернейший признак,
что Чехов истинный художник: его можно перечитывать несколько раз…».
/Л. Н. Толстой/
«Читая Чехова, я смеюсь, радуюсь, восхищаюсь… Вот определение таланта».
/Л. Н. Толстой/
«Я его очень люблю… Большой художник. Но все-таки это мозаика, тут нет руководящей идеи».
/Л. Н. Толстой о Чехове/
«Широкая известность Чехова среди всех народов мира наполняет нас отрадой и гордостью за русскую литературу, за нашего Чехова».
/К. Федин/
«Имеете ли Вы понятие о новом большом русском литературном таланте, Чехове?… По-моему, это будущий столп нашей словесности».
/П. И. Чайковский об А. П. Чехове
Из письма е. Ю. П. Шпажинской, 1889/
«Не верится, что все эти толпы людей,
кишащие в чеховских книгах, созданы одним человеком, что только два глаза,
а не тысяча глаз с такою нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и
запечатлели навек все это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд
и что не тысяча сердец, а всего лишь одно вместило в себе боли и радости этой
громады людей.
/К. Чуковский/
«Чтобы правильно определить положение Чехова, нужно найти термин, равнозначный мудрецу и святому»
/Известный французский критик Шарль Дю Бос/
— «На меня влияют все хорошие писатели. Каждый по-своему хорош. Вот, например, Чехов. Казалось бы, что общего между мной и Чеховым? Однако и Чехов влияет. И вся беда моя и многих других в том, что влияют еще на нас мало. Чехов никогда не выпускал полуфабрикатов. И брака у него не найдешь».
/М. А. Шолохов. Газ. «Известия» 1937. 31 дек./
Как «Война и мир» Толстого может вдохновить тех, кто боится Америки Трампа
Как профессор русской литературы, я не мог не заметить, что комик Азиз Ансари непреднамеренно подражал писателю Льву Толстому, когда тот утверждал, что «изменения не исходят от президентов», а от «больших групп разгневанных людей».
В одном из своих величайших романов «Война и мир» (1869) Толстой настаивает на том, что история движется вперед не действиями отдельных вождей, а случайным стечением обстоятельств и сообществ людей.
Неожиданная победа Дональда Трампа на выборах в ноябре прошлого года стала политическим сюрпризом сейсмического масштаба, шокировавшим как социологов, так и экспертов. Было дано множество объяснений. Немногие являются убедительными. Но для тех, кто не согласен с его политикой и чувствует себя беспомощным в этот неопределенный момент, эпический роман Толстого может предложить полезную перспективу.
Иллюзорная сила эгоистичного захватчика
Действие происходит между 1805 и 1817 годами — во время вторжения Наполеона в Россию и сразу после него — «Война и мир» изображает нацию в кризисе. Когда Наполеон вторгается в Россию, массовые жертвы сопровождаются социальным и институциональным распадом. Но читатели видят и повседневную русскую жизнь, с ее романсами, элементарными радостями и тревогами.
Толстой смотрит на события с исторической дистанции, исследуя мотивы разрушительного вторжения и возможной победы России, несмотря на превосходство Наполеона в военной мощи.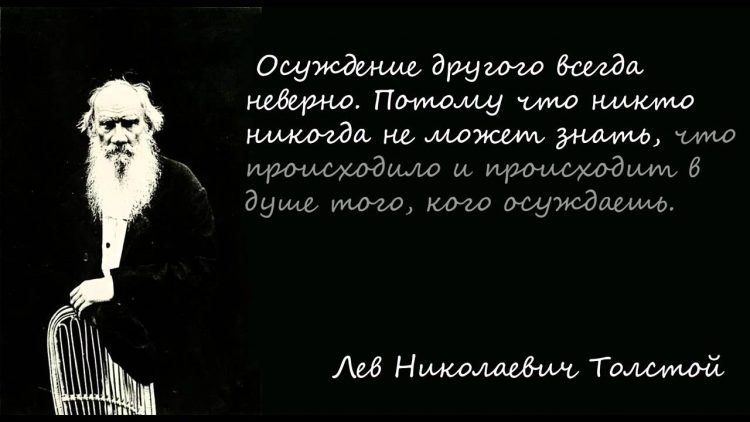
Толстой явно ненавидит Наполеона. Он представляет великого императора эгоистичным, капризным ребенком, считающим себя центром мира и покорителем народов. Оторванный от реальности, Наполеон настолько уверен в своем личном величии, что предполагает, что все должны либо поддерживать его, либо получать удовольствие от его побед. В один из самых приятных моментов романа самовлюбленный император входит в ворота покоренной Москвы в ожидании царского приема, но обнаруживает, что жители бежали и отказываются присягнуть на верность.
Между тем сердце романа об одной из величайших военных побед России лежит не на Наполеоне, царе Александре I или командующем армией генерале Кутузове. Вместо этого он лежит на простом, любящем крестьянине по имени Платон Каратаев, которого против его воли отправляют воевать с французами.
Но хотя Платон мало контролирует ситуацию, он обладает большей способностью прикасаться к другим, чем авторитарный Наполеон, который только подает пагубный пример. Например, Платон предлагает герою-сироте Пьеру Безухову почти женскую и материнскую доброту и показывает ему, что ответ на его духовные искания лежит не в славе и горячих речах, а в человеческой связи и нашей внутренней связности. Вскоре Пьеру снится земной шар, в котором каждый человек представляет собой крошечную капельку, временно оторвавшуюся от большей водной сферы. Обозначая нашу общую сущность, он намекает на то, до какой степени, по мнению Толстого, мы все связаны.
Например, Платон предлагает герою-сироте Пьеру Безухову почти женскую и материнскую доброту и показывает ему, что ответ на его духовные искания лежит не в славе и горячих речах, а в человеческой связи и нашей внутренней связности. Вскоре Пьеру снится земной шар, в котором каждый человек представляет собой крошечную капельку, временно оторвавшуюся от большей водной сферы. Обозначая нашу общую сущность, он намекает на то, до какой степени, по мнению Толстого, мы все связаны.
Случай с Платоном и его духовной силой — лишь один из примеров массовой силы отдельных людей в «Войне и мире». В других случаях Толстой показывает, как отдельные солдаты могут иметь большее значение на поле боя, быстрее реагируя на обстоятельства, чем генералы или императоры. События решаются в пылу момента. К тому времени, когда курьеры возвращаются к Наполеону — и он смело заявляет о своем завоевательном видении — хаос битвы уже сместился в новом направлении. Он слишком далек от реальной жизни солдат — и, косвенно, от людей — чтобы действительно управлять ходом истории.
Описывая поход Наполеона таким образом, Толстой, кажется, отвергает историческую теорию Томаса Карлейля о «великом человеке» — идею о том, что события управляются волей выдающихся лидеров. Толстой, напротив, настаивает на том, что, отдавая предпочтение выдающимся личностям, мы игнорируем огромную, низовую силу обычных людей.
В некотором смысле такое видение истории подходит для романиста. Романы часто фокусируются на обычных людях, которые не попадают в учебники истории. Тем не менее, для писателя их жизнь и мечты обладают силой и ценностью, равной таковым у «великих людей». В этой динамике нет победителей, героев или спасителей; просто есть люди, способные спасти себя или нет.
Итак, по мнению Толстого, не Наполеон определяет ход истории; скорее, это неуловимый дух людей, тот момент, когда люди почти непреднамеренно объединяются для достижения общей цели. С другой стороны, короли — рабы истории, они сильны только тогда, когда способны направить такой коллективный дух. Наполеон часто думает, что отдает смелые приказы, но Толстой показывает, что император просто осуществляет власть.
Наполеон часто думает, что отдает смелые приказы, но Толстой показывает, что император просто осуществляет власть.
Единая общественная оппозиция
Все эти идеи актуальны сегодня, когда многие, кто не голосовал за президента Трампа, обеспокоены тем, как его предвыборная риторика влияет на его президентство и страну.
Очевидно, что президент США обладает огромной властью. Но именно здесь «Война и мир» может дать некоторую перспективу, помогая демистифицировать эту силу и разобраться в ее более перформативных аспектах.
В Белом доме происходит довольно много действий, когда президент Трамп яростно подписывает один указ за другим перед камерами. Трудно сказать, сколько из этих указов могут вступить в силу сразу же. Многие из них — например, недавний запрет на въезд иммигрантов из семи стран с мусульманским большинством — определенно сказываются на жизни людей. Но другие также потребуют законодательной и институциональной поддержки. Каждый день мы слышим о государственных служащих и ведомствах, мэрах и губернаторах, которые клянутся не выполнять приказы президента Трампа.
Хотя в распоряжении тех, кто выступает против Трампа, может и не быть таких крестьян-философов, как Платон Каратаев, массовые марши и акции протеста транслируют единую оппозицию — как и все петиции, английские булавки, розовые шляпки и мошеннические твиты. Кое-что из этого можно было бы высмеять как #slacktivism. Но в совокупности они намечают тонкие сети связей между людьми.
Размышляя в терминах эссенциализма, Толстой считал, что Наполеону не удалось уничтожить Россию, потому что против него объединились коллективные интересы русского народа: большинство людей — вольно или невольно — действовало, чтобы подорвать его планы. Возможно ли, что подобное раскладывание низовых интересов мы увидим сейчас? Могут ли мужчины, женщины, цветные люди, иммигранты и представители ЛГБТКИА выступить против некоторых исполнительных действий президента Трампа, которые могут угрожать многим на личном уровне?
Я не могу представить Толстого в розовой шляпе. Но всегда голос неповиновения, он, конечно, одобрил бы сопротивление.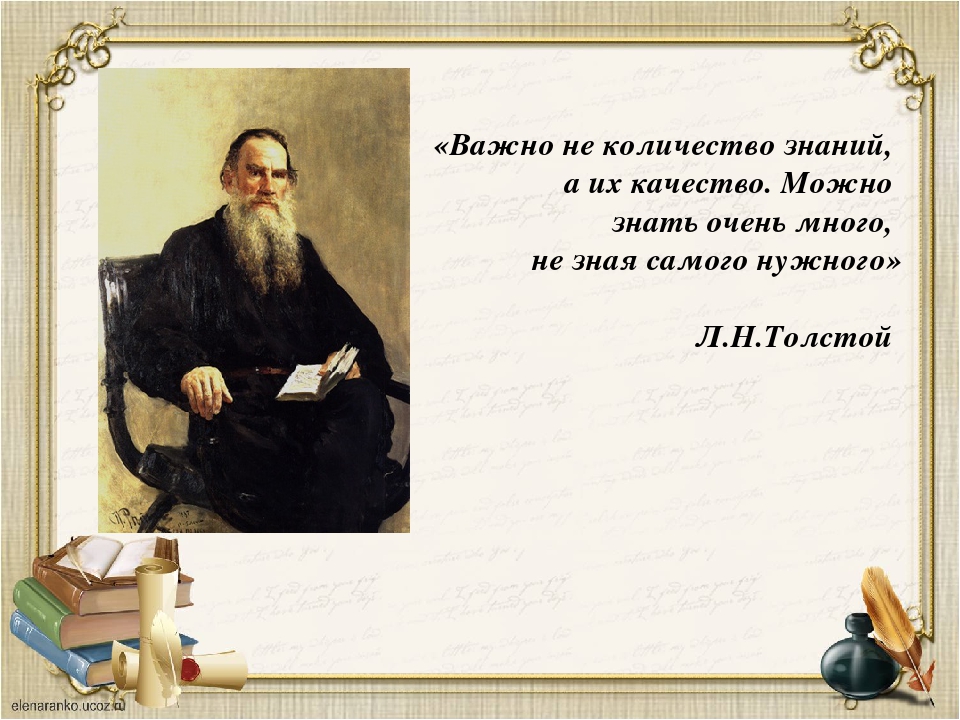
Витгенштейновская война | Журнал христианской истории
АВСТРИЙСКИЙ ФИЛОСОФ Людвиг Витгенштейн (1889 г.–1951) прошел насыщенную службу на Восточном фронте в Первую мировую войну. Он храбро сражался, завоевал медали, написал философский шедевр – и встретил Бога.
Витгенштейн происходил из аристократической семьи еврейского происхождения в Вене. Трагедия преследовала его и его братьев и сестер: трое из его четырех братьев покончили жизнь самоубийством, двое в начале 1900-х годов и один в качестве солдата на Восточном фронте в 1918 году. Людвиг и его выживший брат Пауль, потерявший правую руку в бою с русскими. в 1914 году оба тоже думали о самоубийстве. Незадолго до Второй мировой войны его сестры избежали преследований нацистов, заключив финансовую сделку с Гитлером.
Приказ Христианская история №121: Вера в окопах в печати.
Подпишитесь сейчас, чтобы получать будущие печатные издания в свой почтовый ящик (пожертвование требуется, но не обязательно).
В начале 1910-х годов Витгенштейн изучал математику и логику в Кембриджском университете у Бертрана Рассела, где, хотя и был крещен католиком, особой веры он не исповедовал. Когда началась война, юноша поступил на службу в австрийскую армию и был направлен в артиллерийский полк. Однако он никогда не вписывался по-настоящему, так как был дотошным и книжным и считал других «сворой мошенников».
В конце августа 1914 года полк Витгенштейна двинулся на фронт, чтобы помочь противодействовать наступлению русских на австрийскую границу. Во время свободного дня в Тарнове, Галиция, молодой человек нашел захудалый книжный магазин и наткнулся на экземпляр романа Льва Толстого «Краткое Евангелие», неортодоксального пересказа романиста о жизни Христа — в нем были удалены чудеса и основное внимание уделено Этика Иисуса.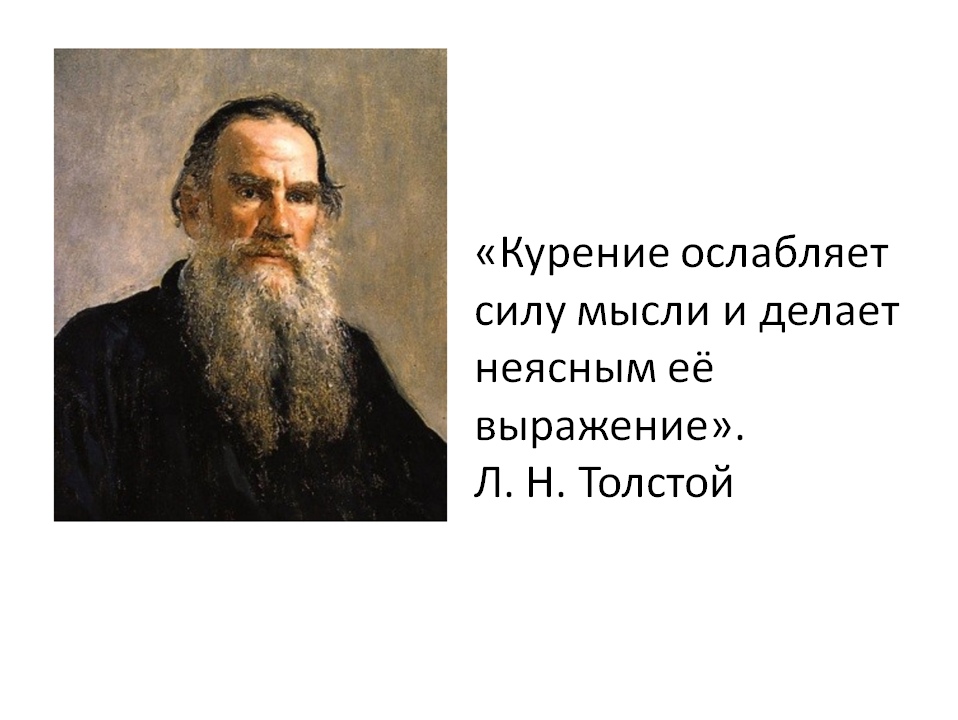
«Как мне жить?»
Секретный дневник Витгенштейна военного времени показывает, насколько интенсивно он занимался Толстым Евангелие , которое он оценил как «великолепное произведение. Но это не то, что я ожидал». Слова Толстого помогли ему справиться с ужасами боя. Он писал: «Я всегда ношу с собой «Евангельские изложения» Толстого, как талисман». (Некоторые другие солдаты даже называли его «человеком с Евангелиями».) И изображение Бога Толстым помогло молодому солдату глубже понять существование и смысл. В сентябре 1914 года он записал в своем дневнике: «Вновь и вновь я повторяю в уме слова Толстого: «Человек бессилен плотью, но свободен духом» 9 .0003
Новые обязательства Витгенштейна оказались критически важными в октябре 1914 года, когда он оказался на корабле Goplana , патрулировавшем реку Висла под шквальным огнем русских. Он писал в своем дневнике: «Я могу умереть через час, я могу умереть через два часа, я могу умереть через месяц или только через несколько лет. Я не могу ни знать, ни помочь, ни что-либо поделать с этим: такова жизнь. Как мне жить, чтобы иметь возможность умереть в любой момент?»
Я не могу ни знать, ни помочь, ни что-либо поделать с этим: такова жизнь. Как мне жить, чтобы иметь возможность умереть в любой момент?»
По мере того как война затягивалась, Витгенштейн испытывал внутренние муки, описывая один день как «набор ужасных пыток. Изнурительный марш, одна ночь, проведенная в кашле, вечеринка пьяных, общество простых и глупых людей. Делай добро и будь доволен своей добродетелью. Я болен, и у меня была плохая жизнь». Но молитва и размышление принесли некоторое утешение: он закончил запись словами: «Боже, помоги мне. Я бедный несчастный человек. Боже, услышь меня и даруй мне свой мир! Аминь.»
В июне 1916 года Витгенштейн стоял на своем посту под сильным обстрелом во время Брусиловского наступления России, за что был награжден Бронзовой медалью за отвагу; позже он получил еще одну награду — Серебряную медаль за доблесть 2-й степени. Война Витгенштейна закончилась в конце 1918 года, когда он попал в плен на итальянском фронте. Он провел девять месяцев в плену и вернулся к своей семье в 1919 году.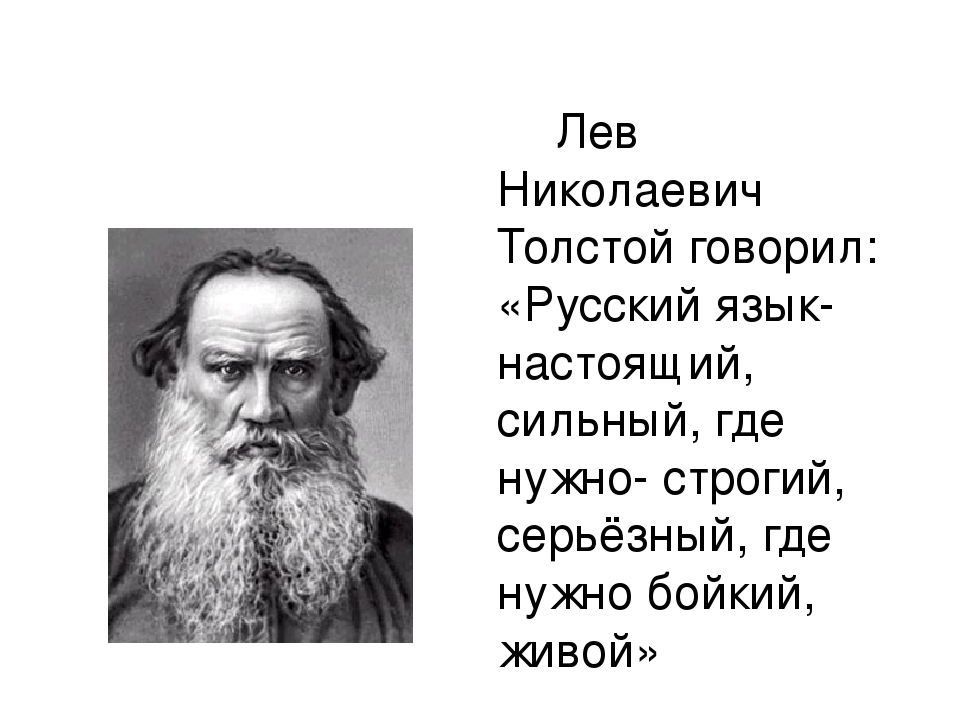 В 1921 году его боевые заметки по логике были опубликованы как Tractatus Logico-Philosophicus, книга, которая оказала глубокое влияние на философию и сделала его одним из величайших интеллектуалов двадцатого века. .
В 1921 году его боевые заметки по логике были опубликованы как Tractatus Logico-Philosophicus, книга, которая оказала глубокое влияние на философию и сделала его одним из величайших интеллектуалов двадцатого века. .
Эта статья взята из журнала Христианская история №121 Вера в окопах. Прочитайте это в контексте здесь!
Джеффри Б. Уэбб
[Christian History впервые опубликовала эту статью в выпуске Christian History #121 в 2017 году]
Джеффри Б. Уэбб — профессор американской истории в Хантингтонском университете и автор книги «Путеводитель по христианству для полных идиотов».
Следующие статьи
Служба мира
Отказники от военной службы по соображениям совести отвергли мир в состоянии войны
Стивен М. Нолт
Элвин Йорк
Христианский пацифист, отправившийся на войну
Мэтт Форстер
Показать больше
Лев Толстой и истоки духовных мемуаров
I.
ДВЕ ПРАВДЫ о Льве Толстом в 1879 году. Во-первых, он в основном отказался от художественной литературы, опубликовав два своих титанических романа, Война и мир и Анна Каренина . Последняя книга утомила его физически и морально: вскоре после ее появления он назвал свою сагу о прелюбодеянии «мерзостью». Он обнаружил, что написание романов — плохая замена противостоянию религиозным проблемам и его экзистенциальной судьбе. Во-вторых, из-за своего раннего литературного признания и аморального образа жизни, который он породил и способствовал, он был несчастен. Ему было так стыдно за себя, что после Каренина его амбивалентный атеизм рухнул, и он искал новое отношение к «истине». Он отрекся от престола романиста и принял мантию религиозного критика — на стороне христианства и против него.
Выросший в Русской православной церкви, Толстой потерял свою религию в 18 лет. После развратной жизни, в свои 50 с небольшим, он хотел вернуть религию — или какой-то источник интеллектуальной безопасности. В 1882 году он опубликовал свое исповедание , ретроспективный анализ предыдущих пяти лет, когда его кризис веры среднего возраста нарушил баланс его литературных и философских взглядов. Это один из самых странных христианских рассказов, трактат, ищущий свою собственную центральную истину. Повсюду он жаждет духовной стойкости: «Есть ли смысл в моей жизни, который не был бы разрушен неизбежно ожидающей меня смертью?» Читатели отмечают, что в заголовке нет прикрепленных букв «а» или «тот». (В русском языке нет артиклей, но это конкретное отсутствие в английском имеет смысл.) Существительное в единственном числе само по себе подчеркивает его актуальность.
В 1882 году он опубликовал свое исповедание , ретроспективный анализ предыдущих пяти лет, когда его кризис веры среднего возраста нарушил баланс его литературных и философских взглядов. Это один из самых странных христианских рассказов, трактат, ищущий свою собственную центральную истину. Повсюду он жаждет духовной стойкости: «Есть ли смысл в моей жизни, который не был бы разрушен неизбежно ожидающей меня смертью?» Читатели отмечают, что в заголовке нет прикрепленных букв «а» или «тот». (В русском языке нет артиклей, но это конкретное отсутствие в английском имеет смысл.) Существительное в единственном числе само по себе подчеркивает его актуальность.
В начале книги он открыто заявляет, что «христианское учение не играет никакой роли в жизни; с ним никогда не сталкиваешься в отношениях с другими и никогда не приходится сталкиваться с ним в собственной жизни». Он называет верующих «глупыми, жестокими и аморальными людьми, считающими себя очень важными». Он называет неверующих лучшими людьми, которых он знает: у них есть «разум, честность, праведность, доброта сердца и нравственность». Он отказывается от религии в пользу «чтения и размышления» — по сути, разума — и вспоминает, что пять лет назад «моей единственной настоящей верой […] была вера в самосовершенствование».
Он отказывается от религии в пользу «чтения и размышления» — по сути, разума — и вспоминает, что пять лет назад «моей единственной настоящей верой […] была вера в самосовершенствование».
Конечно, разум означает прогресс, а прогресс для такого эгоиста, как Толстой, влечет за собой неограниченную свободу в поведении. В этом молодой Толстой, аристократ и хвастун, преуспел более чем. Вот часть его резюме:
Я убивал людей на войне, я вызывал людей на дуэли, чтобы убить их, я проигрывал в карты, я потреблял труд крестьян, я наказывал их, я прелюбодействовал, я обманывал. Ложь, воровство, прелюбодеяние всякого рода, пьянство, насилие, убийство. … Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это мои современники хвалили меня и считали относительно нравственным человеком, как и сейчас.
Но сверхнаблюдательный и одержимый собой Толстой страдает, несмотря на свое эго, изнурительной паранойей. Он считает, что люди высмеивают его из-за его алкогольных, прелюбодейных и высокомерных эксцессов. Ему часто представлялось, что он умирает: тьма сгущается, и он должен найти цель, потому что скоро для него «ничего не останется, кроме смрада и червей». (Одержимый смертью русский прожил еще 30 лет после исповеди .) Порой отчаяние цепляется за его слова, как розовая лоза: «Жить можно только до тех пор, пока ты пьян жизнью; но когда протрезвеешь, то не можешь не видеть, что все это только обман, и глупый обман. Именно так: в этом нет ничего даже забавного и остроумного; это просто жестоко и глупо». Он говорит, что не знает, почему существует Вселенная. Его мучает вопрос. Он хочет, чтобы на него ответили; он не может жить в незамеченном и непредусмотренном космосе.
Ему часто представлялось, что он умирает: тьма сгущается, и он должен найти цель, потому что скоро для него «ничего не останется, кроме смрада и червей». (Одержимый смертью русский прожил еще 30 лет после исповеди .) Порой отчаяние цепляется за его слова, как розовая лоза: «Жить можно только до тех пор, пока ты пьян жизнью; но когда протрезвеешь, то не можешь не видеть, что все это только обман, и глупый обман. Именно так: в этом нет ничего даже забавного и остроумного; это просто жестоко и глупо». Он говорит, что не знает, почему существует Вселенная. Его мучает вопрос. Он хочет, чтобы на него ответили; он не может жить в незамеченном и непредусмотренном космосе.
К середине книги поиски Толстого начинают меняться — не только его внимание, но и его чувствительность. Чтобы развеять свою тоску, он цитирует отрывки из Библии, индийского мудреца и самородки из святых и мучеников, почитая то, что он ранее назвал бесполезными «учениями веры». Он задается вопросом, нужна ли нам для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, мудрость древних. Эти учения, утверждает он, длились 90 063 – 90 064 года. Его разоблачения превращают его в пену, и он заявляет, что чистая вера в разум, без места для Бога как высшей тайны, ведет к безумию и самоубийству. Беспокойный, Толстой продолжает тоном ворчливого депрессивного человека. Более того, он перекладывает, как ему выгодно, вину на тех, кто должен нести его тоску: с языческих нигилистов на ученых рационалистов, на православных догматиков, на юристов-бюрократов — этих последних, Иванов Ильичей мира. Он решает, что единственный безупречный тот, кто живет так, как жил Иисус. И все же, возражает он, кто может? Это невозможно.
Эти учения, утверждает он, длились 90 063 – 90 064 года. Его разоблачения превращают его в пену, и он заявляет, что чистая вера в разум, без места для Бога как высшей тайны, ведет к безумию и самоубийству. Беспокойный, Толстой продолжает тоном ворчливого депрессивного человека. Более того, он перекладывает, как ему выгодно, вину на тех, кто должен нести его тоску: с языческих нигилистов на ученых рационалистов, на православных догматиков, на юристов-бюрократов — этих последних, Иванов Ильичей мира. Он решает, что единственный безупречный тот, кто живет так, как жил Иисус. И все же, возражает он, кто может? Это невозможно.
Толстой решает, что нет веры более истинной, чем вера крестьянина-христианина, чьи «иррациональные знания» прокладывают дорогу к счастью. Иррациональное знание есть вера, утверждает он. Крестьяне должны знать. Они (хотя он стремится присоединиться, Толстой определенно , а не один из них) «великая масса людей, все человечество» — неиндивидуализированная масса, которую он восхваляет, но которая и возвышается, по его характеристике, не выше типа. Равным образом, пишет он в главе VIII, они верят, что Бог — это «один и три», отец, сын, дух, «творение за шесть дней, дьяволы и ангелы и все, что я не мог принять, пока не сошёл с ума. ” Это странное признание с его запутанной грамматикой и выразительным заключительным предложением — пока я не сошла с ума — это перформативный скачок в сторону от его природных задатков. Ему нужно верить во что-то, что превосходит его врожденное, непрекращающееся самовопрошание, и он решает это сделать. Для него крестьянская уверенность истинна, потому что он , великий литературный арбитр истины, пришел к ней, а не потому, что христианство велело ему принять ее.
Равным образом, пишет он в главе VIII, они верят, что Бог — это «один и три», отец, сын, дух, «творение за шесть дней, дьяволы и ангелы и все, что я не мог принять, пока не сошёл с ума. ” Это странное признание с его запутанной грамматикой и выразительным заключительным предложением — пока я не сошла с ума — это перформативный скачок в сторону от его природных задатков. Ему нужно верить во что-то, что превосходит его врожденное, непрекращающееся самовопрошание, и он решает это сделать. Для него крестьянская уверенность истинна, потому что он , великий литературный арбитр истины, пришел к ней, а не потому, что христианство велело ему принять ее.
II.
Таким образом, с громовым ударом короткая и крайне самозащитная полемика Толстого превращается в классическую историю христианского обращения, достойную рассказа Августина о скорби. Взвесив все возможности, безумные или нет, Толстой надевает распятие себе на шею. Как пишет один из его лучших биографов, Мартина де Курсель, он довольно по-христиански «признал свои грехи и провозгласил свою веру». Спасенный, он заявляет, что его действия отныне будут воплощать его намерения — он будет посещать церковь, участвовать в таинствах, жить бережливо, оставит свои мещанские привычки, одинаково любит Бога и крестьянина.
Спасенный, он заявляет, что его действия отныне будут воплощать его намерения — он будет посещать церковь, участвовать в таинствах, жить бережливо, оставит свои мещанские привычки, одинаково любит Бога и крестьянина.
Но подождите. Открытие скрипучей двери веры едва успокаивает его беспокойство. Хотя Толстой говорит, что ошибался «не столько потому, что я неправильно думал, сколько потому, что я плохо жил», этого понимания недостаточно. Он не может успокоить свои мысли. Как бы он ни старался, Толстой, самоочищающийся фанатик, не может избавиться от своего девиантного прошлого и своей спорной натуры. Он не может ни простить себя, ни перестать анализировать требования христианской веры. Пока он продолжает писать страницы, он не уверен ни во Христе как в спасителе, ни в божественном вмешательстве. Его вера требует все большей и большей настройки.
Клин веры раскалывает его надвое, до и после этого так называемого религиозного перерождения. Без Бога Толстой прожил жизнь, полную боли и обмана. Он заявляет, что теперь он с Богом живет жизнью, свободной от такой боли. Но это слишком просто. Решение каждого вопроса приводит к другому, и каждый раз он корчится. Де Курсель винит его. Она пишет, что, «отвергая догматы Церкви, он думал, что освобождает себя; на самом деле, он собирался стать пленником догм собственного сочинения». Это Толстой, художник-самоуверенность, его образец, его личность. Он исповедуется и обращается, то есть очищает религию до того, что считает ценным, и восклицает: «Эврика!» Но затем он признает, часто сразу же, что центр конверсии не может удержаться. Утверждение и контрутверждение нейтрализуют друг друга.
Он заявляет, что теперь он с Богом живет жизнью, свободной от такой боли. Но это слишком просто. Решение каждого вопроса приводит к другому, и каждый раз он корчится. Де Курсель винит его. Она пишет, что, «отвергая догматы Церкви, он думал, что освобождает себя; на самом деле, он собирался стать пленником догм собственного сочинения». Это Толстой, художник-самоуверенность, его образец, его личность. Он исповедуется и обращается, то есть очищает религию до того, что считает ценным, и восклицает: «Эврика!» Но затем он признает, часто сразу же, что центр конверсии не может удержаться. Утверждение и контрутверждение нейтрализуют друг друга.
Я думаю, что решающим моментом здесь является то, что «догмы [ нашего ] собственного создания» приходят к писателям, потому что личное письмо является свидетельством — то, что я утверждаю или сомневаюсь, может стать таким же библейским, как и так называемый священный текст. Проблема религиозной автобиографии до Толстого в том, что она должна была основываться на библейских рассуждениях (увы, не ясной области исследования) и, по-видимому, требовала богоугодного прозрения автора посреди исповеди.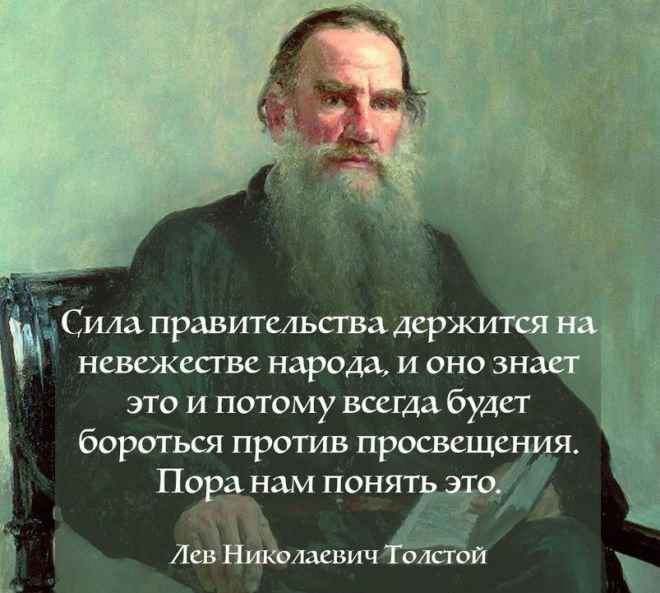 И все же почти все автобиографы веры после графа Льва осознают, что они в первую очередь авторы личных, а не религиозных откровений.
И все же почти все автобиографы веры после графа Льва осознают, что они в первую очередь авторы личных, а не религиозных откровений.
Последние пять глав Исповедь вовлекают нас в его хрипящую конверсию и деконверсию. Толстой становится на сторону христианства только для того, чтобы снова и снова противостоять ему, вся его борьба, вера, рассеивающаяся, как благородный газ, — свободная, рыхлая, несвязанная. Что примечательно в Толстом, так это не его обращение, а то, как он оценивает свою исповедь во время исповеди.
Энергия Толстого исходит от его вопросов, которые часто вытесняют или подрывают его ответы. Его , рассказывающий , обладает силой, хотя это не та сила, которую мы получаем от драматического повествования романа или современных мемуаров. Это что-то другое. В Признание мало попыток показать действие или поступок, нет сцен, нет репортажа, нет обменов с другими и мало историй. Анализ важнее повествования. И все же это не вся риторика. Есть диалектика — аргументированная дискуссия, в которой Толстой дискутирует с самим собой. То, что происходит, представляет собой смесь проповедования добродетели читателю и спора о пороках с самим собой, с самим собой, которое не может понять, во что ему следует верить.
Есть диалектика — аргументированная дискуссия, в которой Толстой дискутирует с самим собой. То, что происходит, представляет собой смесь проповедования добродетели читателю и спора о пороках с самим собой, с самим собой, которое не может понять, во что ему следует верить.
III.
Чтобы проиллюстрировать его мастерство художественной драмы, рассмотрим повесть Толстого Смерть Ивана Ильича , написанную сразу после Исповедь . Характер Ильича живо оживает благодаря мысли и действию: мы слышим о закулисной мелочности его семьи и чиновничьих лизоблюдах, которые с нетерпением ждут его смерти и мы участвуем в моментах умиления между ним и верным, чистым- сердечный крестьянин в последние месяцы жизни Ильича. В наиболее напряженных сценах мы находимся внутри головы Ильича, когда он кипит и самообманывается, сломленный своей болезнью и отталкиваемый приближающейся смертью. Ничто не умеряет его пылкую тревогу:
Он плакал о своей беспомощности, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.
«Зачем ты все это сделал? Зачем ты привел меня сюда? Зачем, зачем ты меня так ужасно мучаешь?
Он не ждал ответа, но и плакал, потому что ответа не было и быть не могло. Боль снова усилилась, но он не двигался и никого не звал. Он сказал себе: «Еще, давай, бей меня! Но почему? Что я тебе сделал, зачем?
Смысл в том, что вымысел, подобный Ивану Ильичу , обладает правдоподобием жизни, которую мы узнаем, и реальным персонажем, который ломается и умирает медленно, во время рассказа, в то время как документальная литература Исповедь формирует правдоподобие мысли, аналитическую езду на дидактическое резюме и вопиющее утверждение. Оба типа письма (они могут быть в равной степени эмоциональными и очистительными) ощущаются у Толстого необходимыми — исчерпывая одну форму, он как бы приглашает другую.
Повествование — это то, чего мне не хватает в Исповедь , сцены и муки из жизни Толстого, которые, конечно же, попали в его художественную литературу и которые, хорошо это или плохо, я привык читать в мемуарах современников.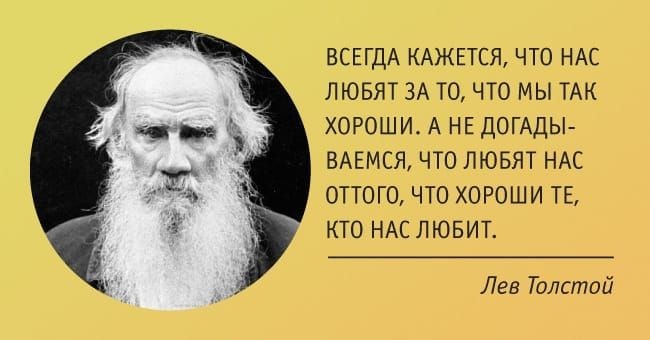 Если бы он только показал нам всю глубину своего суицидального отчаяния, какое впечатление на него самого и на других произвело то, что он обманывал их в азартных играх, когда он чувствовал себя опустошенным своим прелюбодеянием («всяким»), когда он убил человека на дуэли. Короче говоря, повествовательная драма могла бы быть более убедительной, чем экспозиция. В результате мы могли бы сочувствовать моральному заболеванию, которым он страдает в Признание — как у нас с Иваном Ильичем. (И как у нас с Иваном в г. Братья Карамазовы .) Я не сочувствую смыслу борьбы Ильича; Я сочувствую чувствует, что борется сама с собой. Например, в момент физической боли (он не знает, что у него рак) он говорит:
Если бы он только показал нам всю глубину своего суицидального отчаяния, какое впечатление на него самого и на других произвело то, что он обманывал их в азартных играх, когда он чувствовал себя опустошенным своим прелюбодеянием («всяким»), когда он убил человека на дуэли. Короче говоря, повествовательная драма могла бы быть более убедительной, чем экспозиция. В результате мы могли бы сочувствовать моральному заболеванию, которым он страдает в Признание — как у нас с Иваном Ильичем. (И как у нас с Иваном в г. Братья Карамазовы .) Я не сочувствую смыслу борьбы Ильича; Я сочувствую чувствует, что борется сама с собой. Например, в момент физической боли (он не знает, что у него рак) он говорит:
Дело не в аппендиксе или почке, а в жизни… и смерти. Да, у меня была жизнь, а теперь она проходит, проходит, и я не могу ее удержать. Вот и все. Зачем обманывать себя. Разве не для всех очевидно, кроме меня самого, что я умираю, и вопрос только в количестве недель, дней — может быть, и сейчас.
Я чувствую, что факт смерти Ильича ужасает его. И этот ужас выражается в трактовке Толстого как спорное убеждение, которое Ильич не может поколебать. Пока мы живы, смерть не может изменить нас. Смерти нет , в идею Толстой или любой из нас хотят поверить. Неважно, что мы обманываем себя; нам нужно избегать психической боли смерти. Но Ильича разрывает душевная боль. Так же, как мы чувствуем, и сам Толстой. Религии говорят, что конца нет, но мы знаем, что он есть. Несмотря на нашу веру в воскресшего Христа и обещанное нам бессмертие, вид смерти настаивает на том, что смерть окончательна. Толстой отказался заглушить экзистенциальную суматоху своего литературного героя. И если Ильич не мог урегулировать эту суматоху, то и Толстой не мог. Его путь вперед заключался в том, чтобы изменить формы и углубиться в свое следующее предприятие, пьесу, Сила тьмы .
IV.
Чем больше я изучаю Исповедь , тем более очевидными становятся конфликты Толстого. (Он становится не столько религиозным писателем, сколько духовным — менее догматичным и более интересным для чтения, поскольку он подвергает сомнению свою дырявую веру.) С одной стороны, я могу обвинить Толстого в этой книге в том, что он отказался от драмы повествовательной движущей силы. С другой стороны, я признаю, что книга, которую он написал, представляла большой риск: аргументировать неуверенность и идентифицировать основанный на вере обман в себе и в государстве было отступничеством.
(Он становится не столько религиозным писателем, сколько духовным — менее догматичным и более интересным для чтения, поскольку он подвергает сомнению свою дырявую веру.) С одной стороны, я могу обвинить Толстого в этой книге в том, что он отказался от драмы повествовательной движущей силы. С другой стороны, я признаю, что книга, которую он написал, представляла большой риск: аргументировать неуверенность и идентифицировать основанный на вере обман в себе и в государстве было отступничеством.
Несколько примеров подтверждают эту да/но риторику ощетинившейся враждебности Толстого: «Чтобы постичь истину, надо не стоять в стороне, а чтобы не стоять в стороне, надо любить и принимать то, с чем можно не соглашаться»; «В Мессе самыми важными для меня были слова: «Возлюбим друг друга единомысленно…» Следующие слова: «Веруем в Отца, Сына и Святого Духа» я пропустил, потому что не мог их понять. ”; «Как часто я завидовал крестьянам за их неграмотность и необразованность. Утверждения веры, которые для меня произвели вздор, для них не произвели ничего ложного». И,
И,
[Т]чем больше я начинал проникаться этими истинами [христианскими догмами], которые я изучал, и чем больше они становились основой моей жизни, тем тягостнее и болезненнее становились эти конфликты и тем острее становилась разделительная черта между чего я не понимал и чего нельзя было понять, кроме как солгать самому себе.
В этих цитатах мы слышим почти легкое отвращение к вере (истины — это «конфликты»). Мы также слышим («кроме как во лжи самому себе»), насколько ему отталкивает Православная Церковь, религиозная дерзость которой «тончайшими нитями сплетена с ложью».
Действительно, на последних страницах Исповедь Толстой заявляет, что те «учения веры», которые его взбесили и которым он подчинился, не могут быть истинными. «Но откуда взялась ложь, — пишет он, — и откуда взялась истина? И ложь, и истина были переданы так называемой церковью. И ложь, и истина содержатся в предании, в так называемом священном предании и священном писании». Единственная альтернатива — выйти из организованной религии, что и сделает Толстой, пока будут нарастать его антиправославные лозунги — другой путь — через частно распространяемую книгу 9.0063 Критика догматического богословия — до того, как церковь отлучила его от церкви в 1901 году.
Единственная альтернатива — выйти из организованной религии, что и сделает Толстой, пока будут нарастать его антиправославные лозунги — другой путь — через частно распространяемую книгу 9.0063 Критика догматического богословия — до того, как церковь отлучила его от церкви в 1901 году.
В 2013 году переводы Питера Карсона Исповедь и Смерть Ивана Ильича были опубликованы в одном томе, из которого я цитирую. В своем предисловии Мэри Бирд поднимает проблему, с которой сталкивается любой жизнеописатель, когда ее тема превращает личную веру в текстовое описание. «[А]тобиография никогда не бывает достаточно прозрачной, — пишет Бирд, — и […] духовные мемуары от первого лица всегда являются частично конструкциями — ретроспективными и упрощающими вымыслами, наложенными на сбивающий с толку поток воспоминаний, на интеллектуальные сомнения и дилеммы». Это верно для любых мемуаров: письмо подавляет и обновляет грубость жизни. Однако точка зрения Берда не отражает уникальности творчества Толстого. У Толстого основная история — это его замешательство, его борьба с тем, что не разрешено, то, что он ставит «сомнения и дилеммы» в центр своих душевных поисков. он пытается , а не , чтобы упростить или выдумать свою разрушающую веру точку зрения: он признается в травме своего духовного кризиса. Вот почему он пишет. Это не что иное, как зацикленность Августина на грехе, которая в исповеди приводит его к позору и отвращению к себе, чтобы присоединиться к Божьему замыслу. Во всяком случае, Толстой борется со своей собственной неисследованной жизнью в христианстве, и именно это делает его таким злобным или, если хотите, не выдуманным толстовским персонажем.
У Толстого основная история — это его замешательство, его борьба с тем, что не разрешено, то, что он ставит «сомнения и дилеммы» в центр своих душевных поисков. он пытается , а не , чтобы упростить или выдумать свою разрушающую веру точку зрения: он признается в травме своего духовного кризиса. Вот почему он пишет. Это не что иное, как зацикленность Августина на грехе, которая в исповеди приводит его к позору и отвращению к себе, чтобы присоединиться к Божьему замыслу. Во всяком случае, Толстой борется со своей собственной неисследованной жизнью в христианстве, и именно это делает его таким злобным или, если хотите, не выдуманным толстовским персонажем.
Настоящая проблема, я думаю, риторическая: как можно убедить других в том, во что он верит, не прибегая к перечислению необоснованных описательных заявлений, будь то агностические или подтвержденные, которые в конечном итоге звучит как упрощенно, хотя, возможно, они совсем не упрощены? Мне нравится подход Роберта Дженсена в книге «Аргументы за нашу жизнь» : «Хотя опыт веры может быть описан другим, а образцы опыта веры могут быть оценены, опыт веры не является свидетельством в том смысле, в каком мы используем этот термин в интеллектуальных исследованиях.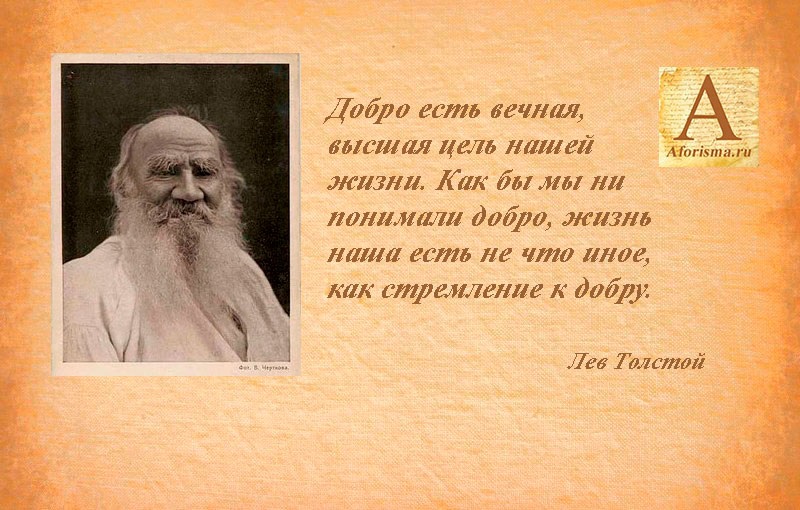 жизнь — ее нельзя воспроизвести или представить другим для изучения». Вера — это мнение, а не факт. Желаемое, не проверенное. Христос родился от девы, не умер и воскрес? Просто поверь. Как только вы это сделаете, эти чувствовать как факты, имеющие эмоциональный смысл. Представьте, например, что есть видеозапись воскресения. Видим тело, душу на борту, вместе выходим из гроба; разделение души происходит в более позднем моменте «поймано на камеру». Но там не есть видеокассета — в том-то и дело. Есть только библейское утверждение. Это , почему есть только библейское утверждение. Если вы принимаете ее, вы принимаете две вещи: во-первых, что Непорочное Зачатие «не может быть воспроизведено или представлено другим для изучения», и, во-вторых, такая истина полностью является областью текста.
жизнь — ее нельзя воспроизвести или представить другим для изучения». Вера — это мнение, а не факт. Желаемое, не проверенное. Христос родился от девы, не умер и воскрес? Просто поверь. Как только вы это сделаете, эти чувствовать как факты, имеющие эмоциональный смысл. Представьте, например, что есть видеозапись воскресения. Видим тело, душу на борту, вместе выходим из гроба; разделение души происходит в более позднем моменте «поймано на камеру». Но там не есть видеокассета — в том-то и дело. Есть только библейское утверждение. Это , почему есть только библейское утверждение. Если вы принимаете ее, вы принимаете две вещи: во-первых, что Непорочное Зачатие «не может быть воспроизведено или представлено другим для изучения», и, во-вторых, такая истина полностью является областью текста.
Что опять же не факт. Но такой читатель и писатель, как Толстой или вроде нас, весьма восприимчив к тому, чтобы поверить в него, потому что оно записано, — и не поверить ему или, по крайней мере, подвергнуть сомнению это тем самым письмом, которым мы подвергаем сомнению обоснованность убеждений в первое место.
Заветы общей веры, ритуализированные в человеческих церемониях и наделенные текстовыми утверждениями, обретают странную актуальность религиозного опыта. Таким образом, чье-то учение может быть чьим-то опытом. Мусульманам достаточно сказать: «Есть только один Бог, и Аллах — его имя», и вы в деле. Христианам нужно сказать: «Я верю, что Иисус Христос — мой личный спаситель», и вы в деле. «в»? Вы находитесь в надежном клубе людей, отстаивающих веру. На самом деле, самая надежная связь племени — это его опора на религиозный язык. В Исповедь , Великая проницательность Толстого состоит в том, что, когда ему самому приходилось отстаивать православные вероучения, он не мог превратить такие утверждения в религиозный опыт. Он не мог приостановить свое неверие. Ему приходилось высказываться и писать против любой догмы, которую он не мог практиковать. Исследование загадки религиозного языка — то, что вы говорите, является правдой, потому что вы это утверждаете и верите в это, — привело Толстого в некотором смысле отказаться от литературы, хотя и не полностью. Художественная литература не могла утолить его душевную сухость. Но антирелигиозная и продуховная полемика, его сильная сторона как писателя на всю оставшуюся жизнь, придавала тонус самым неприятным вопросам о том, как жить.
Художественная литература не могла утолить его душевную сухость. Но антирелигиозная и продуховная полемика, его сильная сторона как писателя на всю оставшуюся жизнь, придавала тонус самым неприятным вопросам о том, как жить.
V.
Вот писательская разница между Августином и Толстым, разделенных более чем 14 веками: Августин обескровливает свое греховное тело, пока не соглашается с христианским учением, чрезмерно ненавидя себя, чтобы быть сверхкомпенсированным Божьей любовью. Толстой борется с христианским дискурсом и отвергает большую его часть в пользу своего плана спасения. Он будет лучше, когда будет служить бедняку, откажется от привязанности и примет крестьянские лишения, многие жалкие, некоторые недостижимые, — да будет так. Кульминацией этих ценностей является та, которую он сам создает: духовная уверенность в себе. Хотя он и спас призыв Христа к социальной справедливости, Толстой убежден, что он создатель своих постхристианских верований. Если другие следуют их примеру, они часто делают это из-за текстового мастерства автора. Это странный побочный продукт любой религиозной конфессии — идея о том, что автобиографы пропагандируют реформированный путь для единомышленников или адептов (вспомните Ганди или Дипака Чопру), потому что они сами усовершенствовали веру, сделали ее более действенной в современном мире.
Если другие следуют их примеру, они часто делают это из-за текстового мастерства автора. Это странный побочный продукт любой религиозной конфессии — идея о том, что автобиографы пропагандируют реформированный путь для единомышленников или адептов (вспомните Ганди или Дипака Чопру), потому что они сами усовершенствовали веру, сделали ее более действенной в современном мире.
Жизнеписателям Толстой предлагает экзистенциальное исследование религии; как и Кьеркегор, он пионер в этой «области». Он отвергает пакет: церковь, религию и политическую систему, которая их поддерживает. Это писательское средство к духовному познанию: вечно свободный, вечно ищущий, вечно обременяющий себя автор отрицает, что какой-либо другой источник может изменить его. По сути, он одухотворяет себя. Таким образом, Толстой рождает примитивный, или зарождающийся, или прото-поджанр мемуаров, жизнеописание, цель которого — увести себя от своих и мировых обманов. Я на странице знает. Иногда это «я» знает лучше. Не Бог. Не Иисус. Не Библия. Не духовенство. «Я» я создаю посредством письма.
Не Бог. Не Иисус. Не Библия. Не духовенство. «Я» я создаю посредством письма.
Возможно, вы скажете, что это выходит за рамки истории, общества и традиций, и поэтому глубоко ошибочно. Но авторитет религиозной автобиографии не нуждался бы в толстовской реформации, если бы форма одухотворяла ценности внутреннего авторитета писателя. Сегодня, с взрывом мемуаров и их акцентом на повествовательном самораскрытии (смешение стратегий сценического вымысла с стратегиями научно-популярного дискурса), у нас есть новые способы для автобиографов разыгрывать свои религиозные и духовные затруднения. Для этого изменения есть не только формальные причины.
В каком-то смысле императивная форма Толстого — послушайте, признайтесь, — если и осталась, то в европейской и американской литературе почти не сохранилась. По большей части писатели-литературоведы сочли религиозное вероисповедание неуместным — потому что большинство писателей и художников последних полутора столетий считали христианскую жизнь, веру и традиции, по меньшей мере, бесполезными.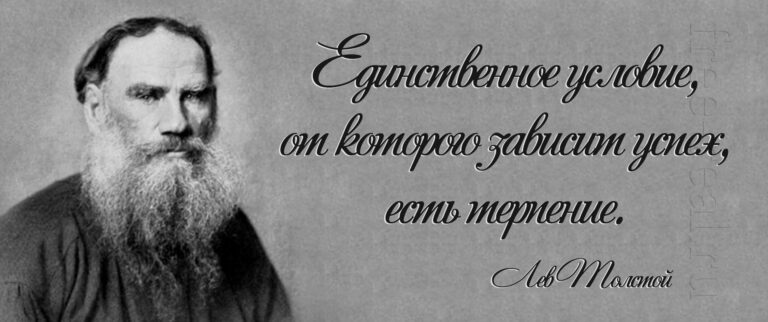 За исключением (самого) католика Томаса Мертона и панрелигиозного деятеля Алана Уоттса, в Соединенных Штатах у нас было немного писательских душ, согнутых свирепостью Льва Толстого. Действительно, некоторые из лучших работ о религии и духовности были безжалостно критически настроены по отношению к традиционной вере или отвергали ее. Многие книги К. С. Льюиса о христианстве, в том числе его религиозная автобиография 9, были любимыми людьми.0063 Удивленные радостью (1955) — произведения благочестивого христианства, которое во многом является кораблем, уплывшим в закат. К большому ужасу Льюиса, основные писатели последних двух столетий — Пейн, Уитмен, Фрейд, Дарвин, Ницше, Маркс, Твен, Рассел, Камю — были антирелигиозными или нерелигиозными в крайней степени . Несмотря на Фланнери О’Коннор, Уокера Перси, Мэрилин Робинсон и Энн Ламотт в Соединенных Штатах и Роджера Скратона и Дона Купитта в Англии, христианские темы умирают, как угольные месторождения в Вайоминге. Есть, но не раскопан.
За исключением (самого) католика Томаса Мертона и панрелигиозного деятеля Алана Уоттса, в Соединенных Штатах у нас было немного писательских душ, согнутых свирепостью Льва Толстого. Действительно, некоторые из лучших работ о религии и духовности были безжалостно критически настроены по отношению к традиционной вере или отвергали ее. Многие книги К. С. Льюиса о христианстве, в том числе его религиозная автобиография 9, были любимыми людьми.0063 Удивленные радостью (1955) — произведения благочестивого христианства, которое во многом является кораблем, уплывшим в закат. К большому ужасу Льюиса, основные писатели последних двух столетий — Пейн, Уитмен, Фрейд, Дарвин, Ницше, Маркс, Твен, Рассел, Камю — были антирелигиозными или нерелигиозными в крайней степени . Несмотря на Фланнери О’Коннор, Уокера Перси, Мэрилин Робинсон и Энн Ламотт в Соединенных Штатах и Роджера Скратона и Дона Купитта в Англии, христианские темы умирают, как угольные месторождения в Вайоминге. Есть, но не раскопан.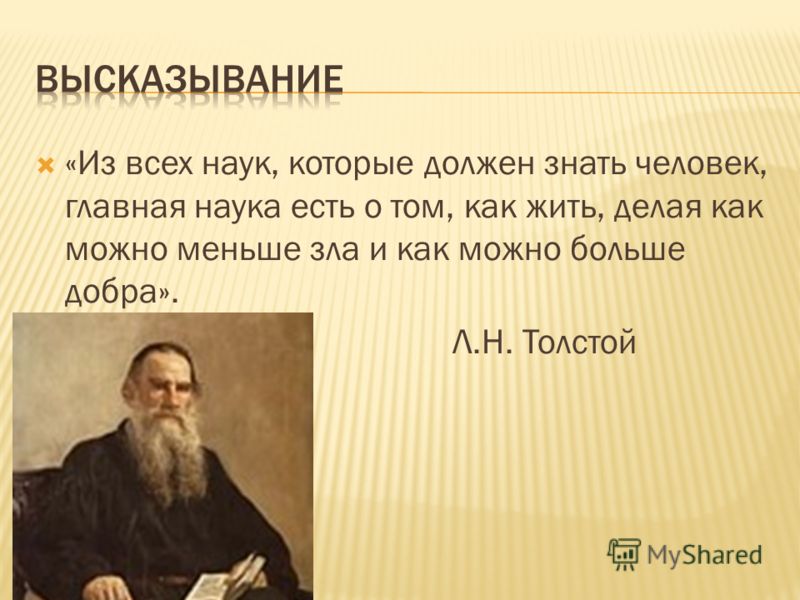
В наше время верующих и нерелигиозных мемуаристов охватывает сомнение и неверие. Для них остающееся в сомнении не враждебный акт, а способ разблокировать нуминозное, поставить на кон трансцендентное в пишущей жизни автора. Это было бы несовместимо с Толстым, который по большей части убил религиозную автобиографию. Для современных писателей духовное — это то, что освобождается от религии, чтобы стать актом самовосстановления и, возможно, также и культурного восстановления. Каждое тело, которое приходит в мир, приходит с неповрежденной душой. Эдемское единство. Ни при какой предшествующей системе. Несмотря на желание родителей или государства. Что такое моральная география внутренняя жизнь этого человека? Это дверь в каждом из нас, которую Толстой распахнул.
¤
Критик, мемуарист и эссеист, Томас Ларсон является автором трех книг: Святилище болезней: воспоминания о болезни сердца для струн», и Мемуары и мемуарист: Чтение и написание личного повествования .