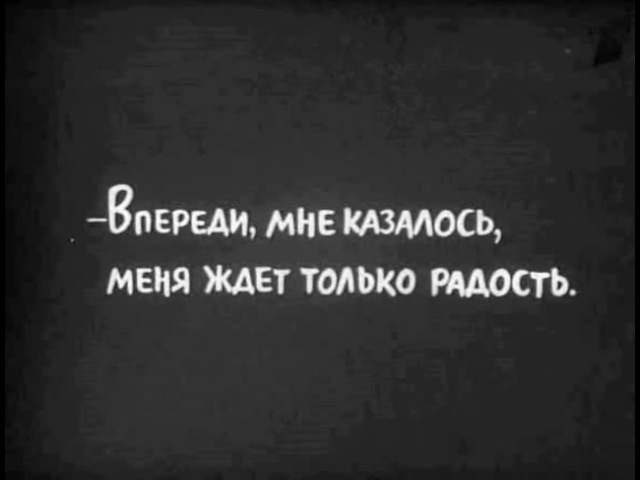Впереди мне казалось ждет меня только радость: Я просто живу. `Впереди, мне казалось, меня ждет только радость…`– купить в интернет-магазине, цена, заказ online
Нас ждет только радость
Я учился на третьем курсе, когда Арам Ильич [Хачатурян] посоветовал мне предложить в издательство «Советский композитор» только что написанный вокальный цикл на стихи средневековых японских поэтов. Я отнес его в издательство. К моему изумлению, цикл был принят и через некоторое время опубликован. А на четвертом курсе к нам в институт пришли ребята из ВГИКа — Эльдар Шенгелая, Михаил Калик и Эдик Абалов. Они снимали курсовую работу, картину по заказу Общества спасения на водах. Комедию «Спасите утопающего». Они пришли в перерыве между лекциями и стали спрашивать, не напишет ли кто-нибудь музыку для этого фильма. Конечно, бесплатно. Шла сессия. Всем было ни до чего — некогда. А мне стало ужасно интересно. И я согласился. Написал музыку быстро. В главной роли, кстати, снималась студентка четвертого курса ВГИКа Людмила Гурченко, только что ставшая звездой советского кино — по экранам шла «Карнавальная ночь».
Москва готовилась к Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Примерно тогда, когда я бунтовал в своем институте, студенты ВГИКа бунтовали у себя, требуя права снимать дипломы на профессиональных студиях. И они отвоевали его на несколько лет. Именно тогда «вышли в свет» Михаил Калик, Гия Данелия, Андрей Тарковский — вот такого класса режиссеры. Потом все покатилось по-прежнему. То есть, заканчивая ВГИК, режиссер несколько лет работает ассистентом на студии, и только потом, даст Бог, он получает право на постановку.
Помню, как я впервые появился на студии. Даже взял такси, хотя у меня тогда денег не было. Группа вся профессиональная, студийная. Со мной тоже подписали договор. И я стал писать музыку. Это была моя первая профессиональная работа в кино, и мне ужасно хотелось показать, на что я способен. Я написал музыку, очень много музыки, для большого симфонического оркестра, мужского хора, женского хора и двух солистов. Все мы были очень довольны собой. Я в восторге от режиссеров, режиссеры от меня. И забавно — вся студия была увлечена этой музыкой. Настолько, что однажды пришел гонец и попросил, чтобы мы с режиссером зашли к директору студии Бритикову. Я сыграл ему увертюру. Партию барабана стучал на рояле. На пюпитре. Когда я закончил, он сказал:
— Вот если фильм получится таким же, как эта увертюра, то все будет замечательно.
Я был в восторге. И Мише это было тоже приятно. Теперь я понимаю, что это редкое качество для режиссера. Но тогда мы все были в восторге друг от друга. Музыка к фильму практически вся писалась параллельно со съемками. Снимали частично под Москвой, частично — в Пицунде. Я тоже ездил на съемки. Мне было интересно абсолютно все. Как же — впервые меня отправили в командировку, купили билет. Сняли для меня комнатку, инструмент притащили из какого-то детского сада. И прямо там я писал. Помню, снимался эпизод с Метелицей, и камера должна была его на тележке объехать. А музыка для этого эпизода была уже написана. Когда я приехал на съемку и увидел, как тележку толкает ассистент оператора, я понял, что он толкает ее совершенно неправильно. Я музыку-то знаю — а он не попадает в ритм, ведет панораму быстрее.
— Подождите, — сказал я, — давайте я это сделаю. — И несколько дублей тележку вел я. Я знал, какая будет музыка — она звучала у меня в голове. И задавал темп тележки. И эти отрывки получились фантастически.
Наступил момент, когда все было снято и нужно было музыку записывать. Я ужасно нервничал. Как это будет звучать в оркестре? В первый день записи с утра я поехал в Сандуновские бани. У меня была всего одна хорошая рубашка — мне ее там постирали, погладили, отутюжили костюм, и я отправился на запись. Приезжаю. А оркестром руководил знаменитый по тем временам дирижер Гамбург. Народный артист и так далее. А я тогда увлекался Прокофьевым настолько, что записал партитуру всю целиком in С. И все транспонирующие инструменты тоже. Конечно, партии переписали в строях. Тогда мне казалось, что вся история с транспортами — это глупость, и я позволил себе сделать то, что делал Прокофьев. Дирижер был ужасно недоволен. При всем оркестре он устроил мне допрос.
— Почему вы так написали?
— Потому что так писал Прокофьев. Я считаю, что так правильно.
— Это пижонство.
Тут я не на шутку обозлился.
— С вами я работать не буду, — ответил я, повернулся и ушел.
Я ждал этого дня много лет. И все же работать отказался. За мной выбежал директор.
— Как это вы не будете работать с этим дирижером? Мы запишем на ваш счет эту смену.
Тут вышел Калик.
— Если композитора не устраивает дирижер, я отказываюсь тоже, — присоединился он ко мне, даже не зная в чем дело, не зная, прав я или не прав. Вот это одно из качеств Миши Калика. Если он стоит с человеком рядом, он не предаст его. Так мы и ушли, сорвав запись.
Что началось! Звонки, извинения. «Я не хотел вас обидеть. Мы оба горячие люди». Кончилось тем, что музыку к «Разгрому» записал Геннадий Рождественский, тогда еще совсем молодой дирижер. Когда вышел фильм, начался новый скандал. В «Известиях» появилась огромная статья «Мы такими не были» за подписями бывших партизан. Герои гражданской войны на нас ужасно обиделись. Конечно, фильм был сделан более честно, чем роман. В нем не было слепой героики.
Калик старше меня на несколько лет. И если многие из нас были лишь детьми репрессированных, а кого-то чаша сия вообще миновала, Калик прошел этот путь сам. Путь репрессий и лагерей. Захватила его волна конца сороковых. Миша был студентом первого курса ВГИКа. Их компания часто собиралась в кафе «Мороженое» на улице Горького — здесь тусовалась молодежь в последние годы жизни Сталина. Всесильный Берия любил тогда, проезжая на машине по улицам города, высматривать себе молодых девушек. Позже их увозили к нему на дом, естественно, под страшным секретом. Им объясняли, что если кто-то узнает, то не только они сами, но и все их близкие отправятся в лагерь. И это было правдой.
Однажды весенним вечером по улице Горького медленно полз длинный лимузин. Он двигался от Центрального телеграфа к площади Маяковского. Из окна Берия заметил хорошенькую девушку. Начальник его охраны, выскочивший из притормозившей машины, в категорической форме «пригласил» девушку внутрь. Машина отправилась в загородную резиденцию Берии, с девушкой, несмотря на все ее мольбы и протесты, произошло то, что обычно происходило в таких случаях. На прощание ей было заявлено, что, если кто-то узнает, ее ждут большие неприятности. Девушка не удержалась и поделилась со своим другом. Юноша еще где-то рассказал. Через два дня были арестованы не только они, но и все, чьи телефоны оказались в записной книжке молодого человека. В том числе и Калик. Подручные Берии действовали умело. Группе из сорока человек, которые даже и не подозревали, за что их арестовали, было предъявлено обвинение в покушении на жизнь Сталина.
Он двигался от Центрального телеграфа к площади Маяковского. Из окна Берия заметил хорошенькую девушку. Начальник его охраны, выскочивший из притормозившей машины, в категорической форме «пригласил» девушку внутрь. Машина отправилась в загородную резиденцию Берии, с девушкой, несмотря на все ее мольбы и протесты, произошло то, что обычно происходило в таких случаях. На прощание ей было заявлено, что, если кто-то узнает, ее ждут большие неприятности. Девушка не удержалась и поделилась со своим другом. Юноша еще где-то рассказал. Через два дня были арестованы не только они, но и все, чьи телефоны оказались в записной книжке молодого человека. В том числе и Калик. Подручные Берии действовали умело. Группе из сорока человек, которые даже и не подозревали, за что их арестовали, было предъявлено обвинение в покушении на жизнь Сталина.
Калик рассказывал мне, что следователь, который вел дело этой группы, сказал: в случае если он подпишет обвинение, ему гарантируется жизнь — правда, его ждет двадцать пять лет лагерей. Но если на суде хотя бы намеком всплывет история с Берией, то его ждет расстрел. «Впрочем, — добавил он, — меня расстрел ждет тоже». Калик и его друзья знали, как заметаются следы командой Берии, и на суде ничего не отрицали. Так двадцатилетний Миша Калик отправился в лагеря. Это было в сорок девятом. В пятьдесят четвертом, уже после смерти Сталина, вместе со многими другими, группа была реабилитирована. Когда через четыре года Калик пытался восстановиться в Институте кинематографии, тогдашний ректор института категорически отказал ему. Он сказал, что хотя Калик и реабилитирован, тем не менее советское искусство должно воспитывать таких режиссеров, которые смогут снимать светлую действительность советской жизни. А он, пройдя систему лагерей, вероятно, этого не сможет. Но после многочисленных хождений Миши по разным инстанциям его все-таки восстановили во ВГИКе. Вот такая история. Несмотря на то что ему пришлось пройти через ад сталинских лагерей, Михаил Калик остался удивительно светлым и добрым человеком.
Но если на суде хотя бы намеком всплывет история с Берией, то его ждет расстрел. «Впрочем, — добавил он, — меня расстрел ждет тоже». Калик и его друзья знали, как заметаются следы командой Берии, и на суде ничего не отрицали. Так двадцатилетний Миша Калик отправился в лагеря. Это было в сорок девятом. В пятьдесят четвертом, уже после смерти Сталина, вместе со многими другими, группа была реабилитирована. Когда через четыре года Калик пытался восстановиться в Институте кинематографии, тогдашний ректор института категорически отказал ему. Он сказал, что хотя Калик и реабилитирован, тем не менее советское искусство должно воспитывать таких режиссеров, которые смогут снимать светлую действительность советской жизни. А он, пройдя систему лагерей, вероятно, этого не сможет. Но после многочисленных хождений Миши по разным инстанциям его все-таки восстановили во ВГИКе. Вот такая история. Несмотря на то что ему пришлось пройти через ад сталинских лагерей, Михаил Калик остался удивительно светлым и добрым человеком.
Если «Разгром» был достаточно традиционной картиной, то новая работа [«Человек идет за солнцем»] оказалась действительно новой.
Это был первый советский фильм, снятый в достаточно раскованной манере. Ведь тогда все было действительно жестко регламентировано — каким должен быть сценарий, каково соотношение положительных и отрицательных героев. А тут все это начисто отсутствовало. Сама идея чего стоила! Картина, конечно, была сделана под влиянием французской «новой волны», Луи Маля. Здесь отсутствовал сюжет. Просто пятилетний мальчик рано утром отправляется вслед за солнцем. По пути он встречает разных людей, получаются разные новеллы, жизнь открывается разными сторонами. Фильм был снят просто превосходно оператором Вадимом Дербеневым. Он получился нежным, мягким, светлым. Здесь нужно было много музыки. А я поставил перед собой такую задачу — обойтись без струнных, пойти по пути не лейт-мотивов, а лейт-тембров. Чтобы определенный тембр вызывал определенные ассоциации. Тембр трубы, флейты, клавесина. Впервые попробовал клавесин. В нашем кинематографе его тогда еще никто не использовал. И кстати, клавесинных концертов тогда тоже не было. Первый клавесин появился где-то в году пятьдесят девятом, на радио. Да и камерные оркестры, к каким мы привыкли, стали появляться только тогда.
Чтобы определенный тембр вызывал определенные ассоциации. Тембр трубы, флейты, клавесина. Впервые попробовал клавесин. В нашем кинематографе его тогда еще никто не использовал. И кстати, клавесинных концертов тогда тоже не было. Первый клавесин появился где-то в году пятьдесят девятом, на радио. Да и камерные оркестры, к каким мы привыкли, стали появляться только тогда.
Тембр клавесина был связан в фильме с движением, темпом. Я решил все сделать на сочетании клавесина, деревянных и медных. Сочетание странное. Когда я делал партитуру, мне нужны были струнные. Но я твердо решил их не использовать. Приходилось придумывать. А оттого что приходилось придумывать, что-то было ограничено, возникали какие-то свежие вещи и партитура получилась оригинальная, необычная. Мне просто хотелось пойти совсем по другому пути, чем у меня вышло в «Разгроме». Там я решил продемонстрировать все, что умею, и поэтому прибегнул к огромному составу. Но это был неправильный ход. Все было нормально на записи, но плохо переводилось на оптическую пленку. Масса оркестра стала давиться под шумами, репликами. В фильме музыка часто должна нырнуть под изображение, под реплику. Ведь целое в кино рождается от сочетания музыки, реплик, шумов — это только звуковой ряд. Иногда выходит на первый план только музыка, и она звучит сольно, иногда она обязательно должна уйти под шумы и работать в сочетании с ними. Я понял, что всеми этими вещами удобно оперировать, когда музыка решается в камерном составе. У нас это было впервые. После этой картины к камерным составам стали прибегать многие.
Там я решил продемонстрировать все, что умею, и поэтому прибегнул к огромному составу. Но это был неправильный ход. Все было нормально на записи, но плохо переводилось на оптическую пленку. Масса оркестра стала давиться под шумами, репликами. В фильме музыка часто должна нырнуть под изображение, под реплику. Ведь целое в кино рождается от сочетания музыки, реплик, шумов — это только звуковой ряд. Иногда выходит на первый план только музыка, и она звучит сольно, иногда она обязательно должна уйти под шумы и работать в сочетании с ними. Я понял, что всеми этими вещами удобно оперировать, когда музыка решается в камерном составе. У нас это было впервые. После этой картины к камерным составам стали прибегать многие.
Картина снималась на студии «Молдова-филм». Уже тогда я понял, что если не буду сам сидеть на перезаписи, то получится все не то. С тех пор и осталась у меня эта привычка. Более того, я пошел на курсы звукорежиссеров, которые были открыты тогда при Всесоюзном радио, и закончил их. Когда картина была готова, нас вызвали в ЦК Компартии Молдавии. Второй секретарь ЦК, по-моему Постовой его фамилия, закатил дикий скандал. Он сказал буквально: «Человек идет за солнцем, значит, он идет на Запад». А потом еще добавил, что не понимает, как эта картина поможет повысить урожай кукурузы в Молдавии. Мы попросили разрешения увезти фильм в Москву и показать московскому начальству. Нам было в этом категорически отказано. Тогда мы решились на крайнюю меру. Мы выкрали копию и в багажнике машины тайно переправили в Москву. С этой копией обратились прямо к тогдашнему председателю Союза Ивану Пырьеву, показали ему. Он не увидел в ней ничего особенного, мы получили разрешение на ее показ. Через неделю состоялась премьера в Доме кино (он тогда находился на Воровского). Успех был оглушительный. Так что на другое утро мы с Мишей Каликом проснулись знаменитыми.
Когда картина была готова, нас вызвали в ЦК Компартии Молдавии. Второй секретарь ЦК, по-моему Постовой его фамилия, закатил дикий скандал. Он сказал буквально: «Человек идет за солнцем, значит, он идет на Запад». А потом еще добавил, что не понимает, как эта картина поможет повысить урожай кукурузы в Молдавии. Мы попросили разрешения увезти фильм в Москву и показать московскому начальству. Нам было в этом категорически отказано. Тогда мы решились на крайнюю меру. Мы выкрали копию и в багажнике машины тайно переправили в Москву. С этой копией обратились прямо к тогдашнему председателю Союза Ивану Пырьеву, показали ему. Он не увидел в ней ничего особенного, мы получили разрешение на ее показ. Через неделю состоялась премьера в Доме кино (он тогда находился на Воровского). Успех был оглушительный. Так что на другое утро мы с Мишей Каликом проснулись знаменитыми.
Мир кино был мне всегда ближе [чем театр]. Здесь все существует в раз и навсегда законсервированном виде. Здесь возможны эксперименты по соотнесению звука и изображения. Каждый новый фильм становился для меня новым полигоном для такого экспериментирования. Самая дорогая для меня картина тех лет — «До свидания, мальчики» — очередная работа, сделанная с Каликом. Эта картина вообще показательна во многом. На мой взгляд, это самая поколенческая вещь. Если говорить не о паспортных данных шестидесятников, а об их философии, мировосприятии. Они и тогда были мальчиками, и сейчас в чем-то ими остались. Даже Миша, несмотря на его лагеря. Мальчишками, которые верили, были романтиками, идеалистами. Конечно, тогда мы ни о чем таком не думали. Мы просто работали. Мы не предполагали, что именно эта картина станет для нас воспоминанием о будущем.
Каждый новый фильм становился для меня новым полигоном для такого экспериментирования. Самая дорогая для меня картина тех лет — «До свидания, мальчики» — очередная работа, сделанная с Каликом. Эта картина вообще показательна во многом. На мой взгляд, это самая поколенческая вещь. Если говорить не о паспортных данных шестидесятников, а об их философии, мировосприятии. Они и тогда были мальчиками, и сейчас в чем-то ими остались. Даже Миша, несмотря на его лагеря. Мальчишками, которые верили, были романтиками, идеалистами. Конечно, тогда мы ни о чем таком не думали. Мы просто работали. Мы не предполагали, что именно эта картина станет для нас воспоминанием о будущем.
Сценарий был написан по одноименной повести Бори Балтера. Он был старше нас, с ним дружили Миша, кажется, Булат Окуджава и Вася Аксенов. Я с ним познакомился уже на картине, на съемках, когда мы все поехали в Коктебель. Он произвел на меня впечатление человека очень чистого, благородного. Повесть его была тонкой, изящной и пронзительной.
Оператором на картине был Леван Паташвили. До сих пор не могу понять, как можно было сделать на нормальной черно-белой пленке фабрики «Шостка» такое вот серебристое изображение. Эта картина — ностальгия по детству, по юности. Самое смешное, что, когда мы это снимали, мы были юными. Это как бы ностальгия вперед. То есть в нее вложены ощущения, которые я вот сейчас испытываю по отношению к тем временам. Как это получилось, не знаю, но фраза, которая проходила через весь фильм: «Впереди, мне казалось, меня ждет только радость», — это было философией нашей жизни очень долго. Мы все время жили этими ощущениями надежды, предстоящей радости. Многие годы я просыпался с этим ощущением — вот сегодня что-то произойдет хорошее. Там было слово «казалось», оно было как бы из будущего. А мы-то просто были уверены, что впереди нас ждет только радость. Тогда впервые снимались Вика Федорова, Наташа Богунова, Аня Родионова, тройка Стеблов, Досталь, Кононов. Все молодые. Калик с них подписку взял, что они девчонок трогать не будут. Как всегда, у Миши была создана какая-то удивительная атмосфера на съемках. Атмосфера постоянного ожидания чего-то необыкновенного. Мы ждали конца съемок, ждали успеха.
Как всегда, у Миши была создана какая-то удивительная атмосфера на съемках. Атмосфера постоянного ожидания чего-то необыкновенного. Мы ждали конца съемок, ждали успеха.
Но началось все с бешеного протеста против картины со стороны Госкино, непонятно почему. Она практически легла на полку, впрочем, как почти все картины Калика. Они либо запрещались, либо выходили крошечным тиражом. Мне смешно, когда говорят, что вот было такое время. Да неправда все это! Параллельно в то же время снимал Гия Данелия свой фильм «Тридцать три». Довольно-таки смелый по тем временам, высмеивающий космонавтов. Почему фильм Данелия прошел с успехом и был разрешен, а, казалось бы, гораздо более светлый и теплый фильм Калика вызвал такое негодование начальства? Да потому что Миша никогда не умел и не хотел разговаривать на их языке. В «Мальчиках» был только один эпизод, соревнование на тачках, где мы как бы высмеивали соцсоревнование. Как бы. С такой дурашливой музыкой. Рабочие глупо бежали с тачками, а глупый человек из профкома или парткома подсчитывал, кто больше перетащит.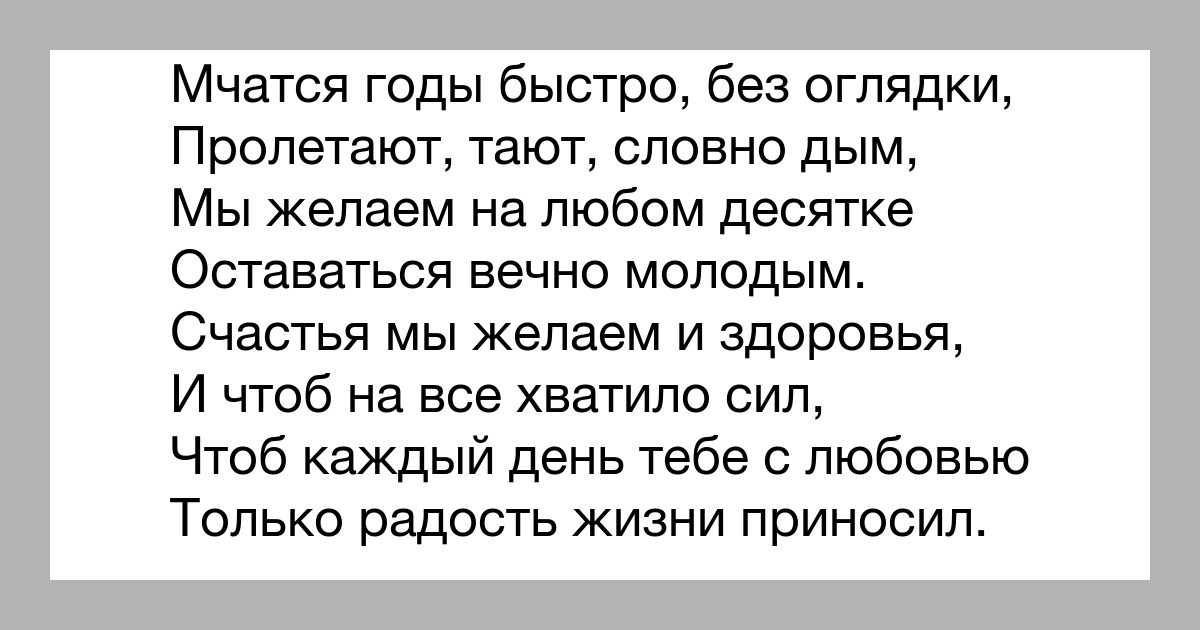 Ничего особенного. Мишу просили этот эпизод вырезать. Все остальное проходило. Миша не просто отказался. Он отказался резко, зло, принципиально. Он мог найти общий язык. Как многие, которые договаривались, спасали всю работу, выбрасывая какой-нибудь один эпизод. Знаете, по тому анекдоту, когда режиссер снимает обязательно собачку, просто так, ни к селу ни к городу. И начальство задает вопрос: «А собачка еще зачем?». «Ладно, — отвечает режиссер, — собачку вырежу».
Ничего особенного. Мишу просили этот эпизод вырезать. Все остальное проходило. Миша не просто отказался. Он отказался резко, зло, принципиально. Он мог найти общий язык. Как многие, которые договаривались, спасали всю работу, выбрасывая какой-нибудь один эпизод. Знаете, по тому анекдоту, когда режиссер снимает обязательно собачку, просто так, ни к селу ни к городу. И начальство задает вопрос: «А собачка еще зачем?». «Ладно, — отвечает режиссер, — собачку вырежу».
Госкино должно было отрабатывать свой хлеб. Чем те времена непросты? Когда-то дубовое начальство можно было легко обманывать, травить какие-то байки, и что-то проходило. А в шестидесятые годы в Госкино пришли умные, интеллигентные, беспринципные люди, которые все понимали. Их обманывать уже было нельзя. Невозможно. В отличие от какого-то партийца, безграмотного выдвиженца двадцатых годов, которого легко обвести вокруг пальца. С этими нужно было договариваться. А Калик договариваться не хотел.
Как всегда в работе с Мишей, музыка писалась не заранее, а параллельно съемкам. Часто он, услышав музыку, делал эпизод, рассчитывая на нее. Или ставил ее во главу угла, или отталкивался от нее. То есть мы работали параллельно. И как всегда, я приезжал на съемки и участвовал во всем процессе. Я долго думал, как делать музыку к этому фильму о трех мальчишках, об их последних днях на гражданке. Они уезжают в военное училище, а потом, мы знаем, будет война. Это то самое поколение, которое с фронта домой не вернулось. В фильме войны еще нет, это примерно сороковой год. А мальчишки только начинали пробовать себя, только-только начинали жить. Пробовали жить. И поэтому я решил, что музыка появляется как бы еще не оформленной. Как бы говоря о том, что вот я не знаю, какая она должна быть, жизнь. Я знаю только одно — впереди меня ждет только радость. А какая она будет — непонятно. Я просто пробовал, даже не думал, что это будет началом фильма. Мы записали как бы эскиз. Я показывал Мише Калику — вот какую ноту можно взять, а вот еще какую, вот так можно сыграть, а вот можно попробовать все это сыграть вместе, а вот я играю и напеваю — не то.
Часто он, услышав музыку, делал эпизод, рассчитывая на нее. Или ставил ее во главу угла, или отталкивался от нее. То есть мы работали параллельно. И как всегда, я приезжал на съемки и участвовал во всем процессе. Я долго думал, как делать музыку к этому фильму о трех мальчишках, об их последних днях на гражданке. Они уезжают в военное училище, а потом, мы знаем, будет война. Это то самое поколение, которое с фронта домой не вернулось. В фильме войны еще нет, это примерно сороковой год. А мальчишки только начинали пробовать себя, только-только начинали жить. Пробовали жить. И поэтому я решил, что музыка появляется как бы еще не оформленной. Как бы говоря о том, что вот я не знаю, какая она должна быть, жизнь. Я знаю только одно — впереди меня ждет только радость. А какая она будет — непонятно. Я просто пробовал, даже не думал, что это будет началом фильма. Мы записали как бы эскиз. Я показывал Мише Калику — вот какую ноту можно взять, а вот еще какую, вот так можно сыграть, а вот можно попробовать все это сыграть вместе, а вот я играю и напеваю — не то. Снова играю, ошибаюсь, останавливаюсь, снова ищу. Вот так и была сделана вся увертюра. В ней не было слов. Только мотив, в котором была скрыта фраза: «До свидания, мальчики!» — па-па-рам-парарарам. Она как бы не пропета, а просвистана, промурлыкана. Слова есть в ритме фразы, они закодированы и появляются в самом конце фильма, когда я снова напеваю этот мотив. Колеса стучат, девочка бежит берегом моря и кричит: «До свидания, мальчики!» И колеса, колеса, колеса… И это конец.
Снова играю, ошибаюсь, останавливаюсь, снова ищу. Вот так и была сделана вся увертюра. В ней не было слов. Только мотив, в котором была скрыта фраза: «До свидания, мальчики!» — па-па-рам-парарарам. Она как бы не пропета, а просвистана, промурлыкана. Слова есть в ритме фразы, они закодированы и появляются в самом конце фильма, когда я снова напеваю этот мотив. Колеса стучат, девочка бежит берегом моря и кричит: «До свидания, мальчики!» И колеса, колеса, колеса… И это конец.
Еще одним фарсом стало совещание в ЦК у тогдашнего главы идеологической комиссии Ильичева. Нас вызвали туда, как говорится, каждой твари по паре. Я помню, от литераторов в качестве «левых» (то есть плохих) пригласили Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину, Аксенова. В противовес им в качестве «хороших» — поэтов Владимира Фирсова и Егора Исаева и еще двоих-троих, имен которых не помню. От Союза кинематографистов — «плохих» Михаила Калика, Андрея Тарковского и, кажется, Игоря Таланкина, а от Союза композиторов — Родиона Щедрина и меня. Кто был от «хороших», не помню. К нам обратились с требованием выступить и покаяться. При мне с этим предложением к Тарковскому обратилась Фурцева. Он категорически отказался. Тогда она подступила ко мне, сказав, что я должен выступить, что я должен признать критику, что я, армянин, должен писать музыку национальную, а я увлекся «чуждым влиянием Запада».
Кто был от «хороших», не помню. К нам обратились с требованием выступить и покаяться. При мне с этим предложением к Тарковскому обратилась Фурцева. Он категорически отказался. Тогда она подступила ко мне, сказав, что я должен выступить, что я должен признать критику, что я, армянин, должен писать музыку национальную, а я увлекся «чуждым влиянием Запада».
Я выступать отказался. Фурцева спросила почему.
— Да я не русский, говорю с акцентом и боюсь перепутать слова, — откручивался я.
— Вы со мной говорите на чистом русском, — изумилась она.
— А когда волнуюсь, появляется акцент.
В общем, я настаивал на своем, она — на своем. Перерыв закончился, она вынуждена была оставить меня в покое. Никто из «наших» не каялся в том смысле, в котором хотелось власти, кроме Евтушенко. Никого не посадили, никого не преследовали. Времена все-таки изменились. При Сталине такое было бы немыслимым. Просто было бы исключено. Счет за подобное нахальство был бы выставлен немедленно.
Последнее, что я помню об этом совещании в ЦК, так это эпизод, когда мы уже спускались по лестнице вниз после его окончания. Шли Ахмадулина, Вознесенский, Калик и я. Двумя ступеньками ниже шли Фирсов и Исаев. Я помню фразу, сказанную вполне громко, без всякого стеснения:
— Ну что ж, наступили наши времена.
Да, действительно, наступили их времена. И нам дали это почувствовать: прекратилось печатание наших нот, стихов, книг, появились трудности у Тарковского, которые нарастали как снежный ком. Каждая картина, которую он начинал снимать, вызывала все большее сопротивление. И это продолжалось вплоть до его отъезда из страны. Каждую картину Калика или ставили на полку, или выпускали минимальным тиражом, или и вовсе уничтожали, как получилось с его картиной «Любить». Казалось бы, невинные четыре новеллы о любви. Правда, снятые в непривычной манере, абсолютно раскованные не в кадре, а духовно, прослоенные документальными съемками, сделанными прямо на улицах. Кстати, в этой картине впервые снят молодой Александр Мень. Картина частично была смыта, частично сохранилась только благодаря Инессе Туманян, режиссеру документальных съемок, у которой коробки с пленкой почти двадцать лет пролежали под диваном. Мишу активно выживали из страны.
Картина частично была смыта, частично сохранилась только благодаря Инессе Туманян, режиссеру документальных съемок, у которой коробки с пленкой почти двадцать лет пролежали под диваном. Мишу активно выживали из страны.
Вообще особенно остро новая ситуация коснулась писателей и кинематографистов, тех, кто работал со словом. А в 1964-м, после партийного «дворцового» переворота, был смещен Хрущев. И мы, обиженные, недовольные им, в своих обидах забыли, что при всем его невежестве, порой переходящем в откровенное хамство, при всей его необузданности и поразительном ощущении, что он может судить обо всем, он сделал четыре важные вещи. Он впервые начал процесс десталинизации страны, хотя не сумел или не захотел довести его до конца. Он открыл ворота политических лагерей, и миллионы невинных уцелевших людей, пусть поздно, но обрели свободу. Он приоткрыл железный занавес между цивилизованным миром и нашей страной. И наконец, он построил, пусть примитивные, пятиэтажки, которые до сего дня называются «хрущобами», вывел людей из подвалов, коммунальных квартир, и они обрели пусть крохотное, но свое жилье. Тогда мы радовались его падению. Наверное, зря. Последующая эпоха, эпоха Брежнева, была, может быть, внешне более спокойной. А на самом деле пришло правительство казнокрадов и уголовников. Но тогда мы еще этого не знали. Интересно, что предстоит нам узнать в будущем о сегодняшнем правительстве? Ведь кто-то правильно заметил: «Прошлое нашей страны непредсказуемо».
Тогда мы радовались его падению. Наверное, зря. Последующая эпоха, эпоха Брежнева, была, может быть, внешне более спокойной. А на самом деле пришло правительство казнокрадов и уголовников. Но тогда мы еще этого не знали. Интересно, что предстоит нам узнать в будущем о сегодняшнем правительстве? Ведь кто-то правильно заметил: «Прошлое нашей страны непредсказуемо».
Атмосфера менялась постепенно. Не вдруг, не сразу. И мы постепенно менялись. Кто-то больше, кто-то меньше. Скандал в Манеже и последовавшие за ним события стали первым испытанием. И тогда стало ясно, кто куда пойдет. Кто-то из нашего поколения выбрал компромисс, стал находить возможность для диалога с властями. Кто-то не захотел. А может быть, и не было возможности? Кто-то стал разделять — что-то делать для себя, а что-то для властей. Кто-то питал иллюзии, общаясь с властями, что им можно что-то объяснить, повлиять на них, но при этом незаметно менялся сам. Неправда, что сильно нас примучивали. Вопрос заключался в другом — какой кусок пирога можно получить. И многие бежали, протягивая руки. Неправда, что кого-то заставляли. И страха у нас не было. Во всяком случае у меня. Кстати, мне никогда ничего не предлагали.
И многие бежали, протягивая руки. Неправда, что кого-то заставляли. И страха у нас не было. Во всяком случае у меня. Кстати, мне никогда ничего не предлагали.
Меня никогда не искушали возможностью предать свои позиции. И мне никогда ничего не обещали. Меня не приглашали вступить в партию, не предлагали ответственных постов. Когда предъявляют сегодня шестидесятникам претензии, что они, мол, общались с властями, это часто справедливо. Но правда и то, что далеко не все. Никогда на «переговоры с властью» не ходила Белла Ахмадулина. Никаких отношений с властями не имели Вася Аксенов, Булат Окуджава. И таких людей много. Да, были и те, что получали какие-то зарубежные поездки в награду за общение с державой. Но это был способ заявить о себе в мире. И тот, кто уезжал туда, возвращался с именем, осененным признанием на Западе. А потом, гораздо позже, произошло еще одно разделение: кто-то ходил в ЦК, поддерживая контакты, и это была определенная игра. А другие стали играть в противоположные ворота: ходить в посольства, исполняя роль несчастных и гонимых, на этом зарабатывая свой капитал.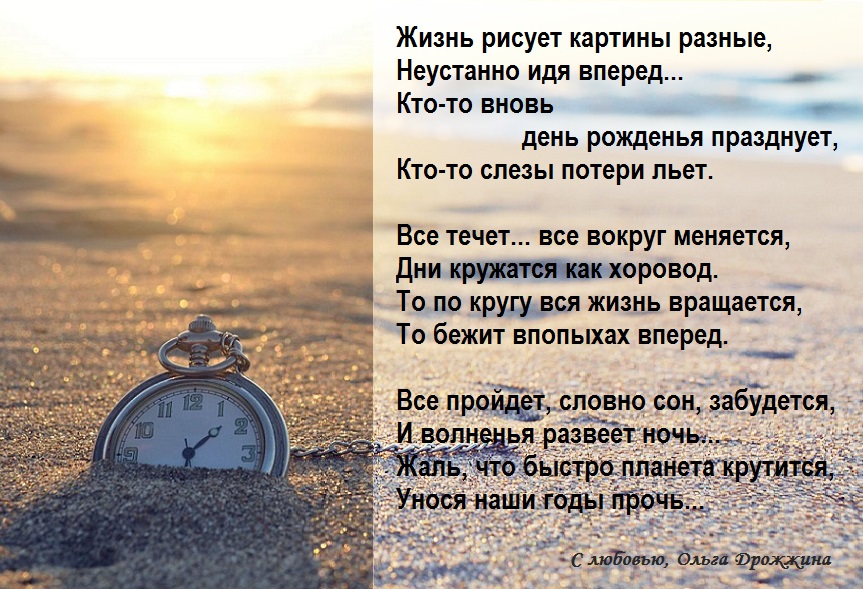 Что касается меня, то мне были противны обе эти партии.
Что касается меня, то мне были противны обе эти партии.
Так что судьбы растиньяков шестидесятых сложились по-разному. Сегодня их называют шестидесятниками. Но ничего объединяющего в этом понятии нет, кроме того, что это было поколение, родившееся — не в буквальном смысле, а заявившее о себе — в шестидесятые годы. Ну, что общего, скажем, у Искандера и Тарковского, которые всегда дистанцировались от власти, причем это была позиция, и позиция жесткая. Но ничего общего у них нет и с диссидентами. Это ведь совершенно другое. Или Тарковский и Родион Щедрин, который контактировал с властью на своих условиях. Как бы на своих. Но не всегда. Надо было — писал ораторию о Ленине, чего никогда не делала Белла Ахмадулина. Или, скажем, Александра Пахмутова, которая практически создала свою эпоху — и очень интересную эпоху — в песне и в то же время находилась в полном контакте с властями, как бы обслуживая, выполняя социальный заказ комсомола, партии. Нужно было писать бамовские песни — и она писала их. Калик, например, категорически отрицает свою причастность к шестидесятничеству. Общее? Просто нам всем одинаковое количество лет. И то, что у нас было общее, — это компании. Веселые компании и романтизм, полный надежд. Мы не доверяли этой власти.
Калик, например, категорически отрицает свою причастность к шестидесятничеству. Общее? Просто нам всем одинаковое количество лет. И то, что у нас было общее, — это компании. Веселые компании и романтизм, полный надежд. Мы не доверяли этой власти.
И все же у нас было ощущение — что-то кончилось страшное. И наступили новые времена. И что-то обязательно произойдет хорошее. Может быть, это было связано с возрастом, может быть, совпали возраст и вход в культуру, в известность и, конечно, повышенный интерес нашего поколения к нам. Это был не обычный, а ненормальный интерес. Нас любили, наши имена знали. А мы все были совершенно разными. Конечно, была в нас доля эпатажа — в ком-то меньше, в ком-то больше, это был тоже своего рода протест против общепризнанной прилизанности. Но мы не эпатировали наших сверстников, мы эпатировали партийных дедуль. И мы были очень разными. Очень. И судьбы у растиньяков шестидесятых совсем разные. Просто тогда нам все еще казалось, что впереди нас ждет одна только радость. ..
..
Из книги: Таривердиев М. Л. Я просто живу. М.: Вагриус, 1997.
Михаил Калик, кинорежиссер – Архив
- Вы живете в Израиле с 1971-го, покинув СССР в 43 года. Когда у вас началось расхождение с советским строем?
- Я открывал это в себе постепенно. Детство я провел в центре Москвы — в доме на улице Горького, 24, между Пушкинской площадью и площадью Маяковского. Комната на шестерых — 26 метров, с двумя угловыми окнами. Из них я видел все официальные события: встречу челюскинцев, экипажа Чкалова, демонстрации. В 1937 году, десятилетним, я уже чувствовал атмосферу тотального страха. Страх висел в воздухе! Люди боялись сказать лишнее слово. Тетка моя покончила с собой. Иногда папа приходил и говорил маме, что кого-то забрали. И она восклицала: «Боже мой, он же был у нас в гостях, нас тоже арестуют!» Потом была война, эвакуация. Там я увидел очень многое и начал понимать советскую специфику: бесконечное вранье! Никто не стоит ничего! И, конечно, антисемитизм.
 Это все повторилось после войны, в 1948 году, когда началась борьба с «безродными космополитами». Через это уже прошел я сам. Я три года проучился в ГИТИСе, а затем решил поступать на кинорежиссуру во ВГИК. А это 1949 год, самый расцвет антисемитизма! В каждом вузе была мандатная комиссия по анкетным данным. Меня не хотели брать: «Столько достойной молодежи хочет учиться, а тут какой-то еврей». Поступил я только благодаря Михаилу Ромму. Он стукнул по столу: «Калик будет учиться!» И они испугались. Знали, что Сталин его уважает.
Это все повторилось после войны, в 1948 году, когда началась борьба с «безродными космополитами». Через это уже прошел я сам. Я три года проучился в ГИТИСе, а затем решил поступать на кинорежиссуру во ВГИК. А это 1949 год, самый расцвет антисемитизма! В каждом вузе была мандатная комиссия по анкетным данным. Меня не хотели брать: «Столько достойной молодежи хочет учиться, а тут какой-то еврей». Поступил я только благодаря Михаилу Ромму. Он стукнул по столу: «Калик будет учиться!» И они испугались. Знали, что Сталин его уважает.
- Чем вы его так к себе расположили?
- Ну все-таки я довольно много знал. И я с ним так на равных разговаривал: о Еврипиде, древних греках. У нас были уникальные преподаватели в ГИТИСе, еще царского времени: Мокульский, Бояджиев, Всеволодский-Гернгросс. Или профессор Тарабукин. У меня есть фотография, где мы с курсом в Третьяковке — часть лекций проходила прямо там. Он научил меня понимать живопись. Ему нужно было хвалить передвижников, а он иносказательно давал нам понять, что это ерунда.
 Подводил к картине и говорил: «Что вы видите? Назовете живописью? Да нет, я, пожалуй, назову литературой. Cюжет, сюжет…» Или останавливался у скульптуры: «Подлинник! Подлинник! Чувствуете? Здесь все дышит!» А потом вдруг добавлял: «Вот почему я не слушаю музыку по радио!» И через паузу: «Не чувствую фактуру звука!» Еще был красавец-армянин Дживилегов. Я ему благодарен на всю жизнь. У него на экзамене выяснилось, что я не читал Библию. Так он говорит: «Вы хотите заниматься театроведением и не читали Библию? Пока не прочтете, не приходите ко мне сдавать. Без Библии вы не поймете ни живописных картин, ни сюжетов, ничего. Саму суть не ухватите». Он был ужасно прав! Вот у таких людей я учился. И доучился до того, что они сидели как подсудимые на сцене актового зала ГИТИСа. В «Правде» вышла маленькая такая заметочка с названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», с которой началась антисемитская кампания.
Подводил к картине и говорил: «Что вы видите? Назовете живописью? Да нет, я, пожалуй, назову литературой. Cюжет, сюжет…» Или останавливался у скульптуры: «Подлинник! Подлинник! Чувствуете? Здесь все дышит!» А потом вдруг добавлял: «Вот почему я не слушаю музыку по радио!» И через паузу: «Не чувствую фактуру звука!» Еще был красавец-армянин Дживилегов. Я ему благодарен на всю жизнь. У него на экзамене выяснилось, что я не читал Библию. Так он говорит: «Вы хотите заниматься театроведением и не читали Библию? Пока не прочтете, не приходите ко мне сдавать. Без Библии вы не поймете ни живописных картин, ни сюжетов, ничего. Саму суть не ухватите». Он был ужасно прав! Вот у таких людей я учился. И доучился до того, что они сидели как подсудимые на сцене актового зала ГИТИСа. В «Правде» вышла маленькая такая заметочка с названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», с которой началась антисемитская кампания.
- Вы тоже под нее попали: вас и четырех ваших товарищей арестовали.
 Сколько вам было лет?
Сколько вам было лет?
- 24 года. Я учился на третьем курсе ВГИКа. Но дело завели еще за два года до того, в 1949-м, когда взяли одного из нашей компании. Завели дело — значит, рано или поздно арестуют, когда найдут конкретную причину. Для этого они ввели к нам в компанию своего человека: Леву Головчинера. Такой умненький, хороший еврейский мальчик. Не помню, как он возник, но у него была квартира! Он якобы жил в ней с тетей, которая уехала на несколько месяцев. Боже мой, какое счастье! Нам было куда привести своих девочек. Не торчать в подъездах, подвалах, на чердаках. Мы же забирались на самый верх, где одни кошки, и ложились на пол. Некуда было пойти. Только вдумайтесь, какое издевательство над молодыми людьми, которым предстоит жизнь. И толкать их на такое начало любви! Я это внес позже в «Любить». Так оказалось, что Лева нас записывал! Маму и папу у него арестовали. Сам он хотел учиться на юрфаке МГУ. Они ему помогли. В обмен на определенные услуги. Конечно, он купился.
 А кто не купится? Какая нужна была сила, чтобы противостоять такой махине? Он же мальчишка был.
А кто не купится? Какая нужна была сила, чтобы противостоять такой махине? Он же мальчишка был.
«Любить», 1968 год
Фотография: «Мосфильм»1/3
«Человек идет за солнцем», 1961 год
Фотография: «Мосфильм»2/3
«До свидания, мальчики!», 1964 год
Фотография: «Мосфильм»3/3
- В чем вас обвинили?
- Нас судил военный трибунал войск МГБ Московского военного округа. Почему? Потому что по делу мы проходили как «молодежная антисоветская террористическая группа». Если сперва нам вменяли «антисоветскую агитацию» и «подготовку контрреволюционного преступления», то затем добавили статью 17–58–8: «Подстрекательство к совершению террористического акта». Вины я не признал, но всем дали по 25 лет. С приговором ознакомили, мы подписались. И еще благодарили судьбу, что никого не расстреляли. И вдруг через пару дней в мою камеру приходит офицер и снова дает приговор на подпись.
 Я читаю и вижу, что статью 17–58–8 сняли и вместо 25 лет дали 10. Все-таки лучше!
Я читаю и вижу, что статью 17–58–8 сняли и вместо 25 лет дали 10. Все-таки лучше!
- Что с вами было в тюрьме?
- Меня не били, меня мучили сном. Допрашивали ночью, а днем запрещали спать. Нельзя было ложиться на кровать. Сиди себе на стуле, пока близко к полуночи не закричат: «Отбой!» Тогда разрешалось лечь. Но верхний свет не выключали. А вскоре будили и вели на допрос к розовенькому выспавшемуся следователю. И до утра! Поначалу я в камере просто падал со стула. Затем научился спать сидя. Хотя иногда они это замечали и стучали в железную дверь: «Спать нельзя!»
- Как вы это все переносили?
- Поначалу я был абсолютно опустошен. Первые полгода допросов я провел в одиночке Бутырской тюрьмы. Я запретил себе сидеть с поникшей головой, или обхватив ее руками. Сказал себе: «Не смей так сидеть! Только ровно!» Главное было — не сломаться. А как это сделать? Надо играть. В то, что меня сюда послали как молодого режиссера, который должен изучить жизнь.
 Не у мамы с папой за спиной, а по-настоящему. И это спасло меня дальше в лагере, где я и людей хоронил голыми руками и по трое суток в карцере под мерзлой землей сидел. Такой диапазон людей я бы в жизни не увидел и не вырос в то, во что вырос! Кого хотите вы там могли увидеть — от дворян и князей до бандеровцев, до последних жуликов. Весь народ русский и не русский. И я копил все, что видел. Характеры, персонажей, их высказывания. Я себя убедил, что мне нужно все это узнать до конца, а через пару лет меня выпустят. И случилось точно, как я играл. Это не моя выдумка, клянусь! Меня освободили в апреле 1954-го, одним из первых. Два с половиной года я провел в лагере.
Не у мамы с папой за спиной, а по-настоящему. И это спасло меня дальше в лагере, где я и людей хоронил голыми руками и по трое суток в карцере под мерзлой землей сидел. Такой диапазон людей я бы в жизни не увидел и не вырос в то, во что вырос! Кого хотите вы там могли увидеть — от дворян и князей до бандеровцев, до последних жуликов. Весь народ русский и не русский. И я копил все, что видел. Характеры, персонажей, их высказывания. Я себя убедил, что мне нужно все это узнать до конца, а через пару лет меня выпустят. И случилось точно, как я играл. Это не моя выдумка, клянусь! Меня освободили в апреле 1954-го, одним из первых. Два с половиной года я провел в лагере.
- Что вас там больше всего потрясло?
- Ничтожная ценность человеческой жизни. В России человеческая жизнь не стоит ни-че-го. Это глубоко поражает, когда ты это осознаешь. Первые предпосылки были у меня еще во время войны. Я до сих пор не могу слышать, когда говорят, что войну выиграли.
 Войну не выиграли, ее завалили трупами. Ни в одной стране это не будут считать победой. Люди в России — пыль. Так в лагере и говорили вертухаи: «Мы тебя в пыль сотрем! Кто ты такой? Пыль!» А я знал, что я не пыль. Я с самого начала это знал. У меня был такой характер. Я рос другим. Я родился свободным человеком. И всю степень своей свободы я постиг именно в лагере. Я был выше их. Я был внутренне свободным.
Войну не выиграли, ее завалили трупами. Ни в одной стране это не будут считать победой. Люди в России — пыль. Так в лагере и говорили вертухаи: «Мы тебя в пыль сотрем! Кто ты такой? Пыль!» А я знал, что я не пыль. Я с самого начала это знал. У меня был такой характер. Я рос другим. Я родился свободным человеком. И всю степень своей свободы я постиг именно в лагере. Я был выше их. Я был внутренне свободным.
- То есть вы не ожесточились?
- Наоборот. Я пришел к тому, что не нужно осуждать людей. Их надо жалеть, даже самых паршивых. Поэтому когда ребята после освобождения пошли Леву бить, я не мог идти с ними. А они его побили. И когда я узнал об этом, мне стало не по себе. Людей надо жалеть — вот и все. Весь вывод от лагеря, от всех теорий.
- Вы сожалеете, что он вам так дорого обошелся?
- Нет, не жалею. У меня было три университета: два института и лагерь. Все по три года. Девять лет я учился. И вот этот последний университет сделал меня непохожим на остальных.
 Сыграл выдающуюся роль в формировании моей личности. Я сформировался в одиночке, она давала мне фантазию. Сейчас я тоже живу почти как в одиночке — один в своей квартире. Там же думаешь об очень важном, не о ерунде.
Сыграл выдающуюся роль в формировании моей личности. Я сформировался в одиночке, она давала мне фантазию. Сейчас я тоже живу почти как в одиночке — один в своей квартире. Там же думаешь об очень важном, не о ерунде.
- Какой вы восприняли жизнь после освобождения?
- Меня просто ударило, что никто ничего не знает. Я шел по центральным улицам Москвы, и вокруг была светлая советская действительность. Ты вышел буквально из ада, а никому нет до этого дела. Половина страны сидит, а этого не видят. Или не хотят видеть. Так уж советских людей взрастили. Такого отношения к людям не было нигде, кроме империи зла. Первое время я хотел сбежать от всего этого — устроиться продавать папиросы в будку: сидишь один, тебя никто не видит, ты никого не видишь и можешь читать любимые книги. Но потихоньку как-то вернулся к жизни.
- Когда вы поняли, что окружающие ничего не знают, вам не хотелось им об этом сообщить?
- А как же! Только второй раз я уже не хотел идти.
 На рожон я не лез и до ареста. Но заставить себя молчать я не мог. Я хотел говорить фильмами. Не в смысле «Я борюсь с советской властью!» Этой глупости у меня не было ни в одном фильме. Я просто хотел передать то, что мне близко, дорого, что меня волнует.
На рожон я не лез и до ареста. Но заставить себя молчать я не мог. Я хотел говорить фильмами. Не в смысле «Я борюсь с советской властью!» Этой глупости у меня не было ни в одном фильме. Я просто хотел передать то, что мне близко, дорого, что меня волнует.
Фрагмент фильма «Любить»
- Для многих вашим главным фильмом стал «До свидания, мальчики!» о послевоенном поколении 1960-х.
- Это мой лучший фильм. Он мне был очень дорог. Много могил осталось в нем! Там же герои — родные братья моей тещи. Автор повести — Борис Балтер из Евпатории. Он и написал про своих друзей. Они прошли фронт. Один погиб, второго посмертно реабилитировали. Я влюбился в повесть, она лиричная и очень правдивая. Обычно бывает одно из двух. Так уже после первых показов фильма для коллег меня вызвали в ЦК на разговор. Больше всего их взбесил эпизод соревнования бригад — бег с тачками.
 «Ни в коем случае! — говорили. — Это издевательство над стахановским движением!» А я и вправду показал, как я с такой тачкой, нагруженной кирпичами, бегал в лагере. Мы строили городки-поселения для евреев, куда их должны были ссылать по итогам «Дела врачей». А там это было обязательно под музыку. Ставили между двойными входными воротами, перекличка по номерам, лай овчарок и среди этого: «Утро красит нежным светом…» Это же правда! Как я мог такой эпизод вырезать? И вот эти соревнования бригад — это же были настоящие формулы лагеря в мирной жизни. И те, кто умел мыслить, видели это в моих фильмах. Но это не было целью. Я не был антисоветским. Я был асоветским. Я просто хотел, чтобы фильмы соответствовали моим представлениям о жизни во всей ее сложности.
«Ни в коем случае! — говорили. — Это издевательство над стахановским движением!» А я и вправду показал, как я с такой тачкой, нагруженной кирпичами, бегал в лагере. Мы строили городки-поселения для евреев, куда их должны были ссылать по итогам «Дела врачей». А там это было обязательно под музыку. Ставили между двойными входными воротами, перекличка по номерам, лай овчарок и среди этого: «Утро красит нежным светом…» Это же правда! Как я мог такой эпизод вырезать? И вот эти соревнования бригад — это же были настоящие формулы лагеря в мирной жизни. И те, кто умел мыслить, видели это в моих фильмах. Но это не было целью. Я не был антисоветским. Я был асоветским. Я просто хотел, чтобы фильмы соответствовали моим представлениям о жизни во всей ее сложности.
- И метафорой этого восприятия жизни молодыми людьми стала фраза «Впереди, мне казалось, меня ждет только радость».
- Да, я взял это у Балтера. Но у него это была фраза, а я сделал ее рефреном всего фильма.
 И еще сделал не просто стык игрового и документального кино, а перспекцию. Показал хроникой то, что этих мальчишек ждет впереди. Потом директор Каннского кинофестивался Фавр Лебре говорил мне: «Вы сделали это первым». И под эту фразу я показал, что ждет этих несчастных парней, которые были такие хорошие, такие живые, такие настоящие! Они были уверены, что их ждет только радость. Как же иначе? Жизнь-то моя! А что она им готовила? Но виноваты были не они, а строй. Такой можно было сделать вывод. Но снова — не впрямую. Я всегда говорил, как мои любимые импрессионисты — эмоционально, образами, которые входят в сердце, не в голову. Наверху это понимали и не могли мне этого простить.
И еще сделал не просто стык игрового и документального кино, а перспекцию. Показал хроникой то, что этих мальчишек ждет впереди. Потом директор Каннского кинофестивался Фавр Лебре говорил мне: «Вы сделали это первым». И под эту фразу я показал, что ждет этих несчастных парней, которые были такие хорошие, такие живые, такие настоящие! Они были уверены, что их ждет только радость. Как же иначе? Жизнь-то моя! А что она им готовила? Но виноваты были не они, а строй. Такой можно было сделать вывод. Но снова — не впрямую. Я всегда говорил, как мои любимые импрессионисты — эмоционально, образами, которые входят в сердце, не в голову. Наверху это понимали и не могли мне этого простить.
- От цензуры пострадал ваш фильм «Любить». Что побудило вас в 1968 году показать на экране Александра Меня? И разбавить его цитатами из Песни песней?
- Я понимал, что показать раввина невозможно. А со священником можно было попытаться. Сталин же во время войны обращался к духовенству за помощью.
 Да и Мень был православным, то есть как бы наш, русский. В «Любить» я тоже сталкивал игровые новеллы и хронику под особым углом. Высокие мысли Меня о любви контрастировали с земными представлениями о ней интеллектуалов из «Литературной газеты». Они выпивали, дым коромыслом стоял, очень умно говорили. И рядом с Менем выглядели интересно. Появлялся контекст, смысл. Это и есть режиссура: как одно подтверждает или опровергает другое. А к Ветхому завету я обратился потому, что если уж говорить красиво о любви, то лучше, чем в Песне песней, не скажешь. Но все равно этого никто не увидел: в 1968 году вышла абсолютно искалеченная версия. Песнь песней вырезали, Меня тоже, еще что-то… Мало того, им пришлось внутрь вставлять куски, которые я при монтаже выкинул! У них другого выхода не было — в плане стоял полнометражный фильм. И когда я это увидел, мне стало просто стыдно. Я написал, чтобы они сняли мое имя с титров. Они этого, конечно, не сделали. Выпустили 12 копий, показали их у черта на куличках, вернули потраченные на производство деньги и положили фильм на полку.
Да и Мень был православным, то есть как бы наш, русский. В «Любить» я тоже сталкивал игровые новеллы и хронику под особым углом. Высокие мысли Меня о любви контрастировали с земными представлениями о ней интеллектуалов из «Литературной газеты». Они выпивали, дым коромыслом стоял, очень умно говорили. И рядом с Менем выглядели интересно. Появлялся контекст, смысл. Это и есть режиссура: как одно подтверждает или опровергает другое. А к Ветхому завету я обратился потому, что если уж говорить красиво о любви, то лучше, чем в Песне песней, не скажешь. Но все равно этого никто не увидел: в 1968 году вышла абсолютно искалеченная версия. Песнь песней вырезали, Меня тоже, еще что-то… Мало того, им пришлось внутрь вставлять куски, которые я при монтаже выкинул! У них другого выхода не было — в плане стоял полнометражный фильм. И когда я это увидел, мне стало просто стыдно. Я написал, чтобы они сняли мое имя с титров. Они этого, конечно, не сделали. Выпустили 12 копий, показали их у черта на куличках, вернули потраченные на производство деньги и положили фильм на полку. Через Управление по охране авторских прав я подал на них в суд. Долго они со мной морочились, а потом дотянули до того, что я уехал в Израиль.
Через Управление по охране авторских прав я подал на них в суд. Долго они со мной морочились, а потом дотянули до того, что я уехал в Израиль.
- Вы размышляли, почему вам довелось пережить все, что только может предложить жизнь человеку?
- Это правда. Самое главное — не только выжить физически, но и не сломаться внутренне. Остаться самим собой — вот тяжелая вещь. Раньше казалось: все идет своим чередом, а я, конечно, остаюсь собой. Черта с два! Столько жизнь посылает искусов, испытаний. И все самое низкое в ней начинается с маленьких таких компромиссиков. А вместе с тем — короткая. Давно было только детство. А после войны — все рядом. Очень быстро проходит жизнь. И все-таки она стоит того, даже со всеми нашими бедами. Что же ты хочешь, надо каждый день говорить спасибо! Мир так устроен, что даже в плохом есть хорошее. Никого осуждать не надо. Жалеть надо людей. В массе своей люди несчастны. И от этого все беды. Люди рождаются несчастными. Их ждет смерть.
 И когда они начинают это понимать, это портит жизнь. Нужно набраться мужества, чтобы осознать это и идти вперед, не помогая себе бирюльками и всякими отвлекающими факторами. И не идя на сделку с совестью. Это очень трудно, когда знаешь, что все временно. Что ты гость на этой земле. Я понял это с годами, став мудрым. Хотя ну ее в задницу, эту мудрость, лучше молодость верните!
И когда они начинают это понимать, это портит жизнь. Нужно набраться мужества, чтобы осознать это и идти вперед, не помогая себе бирюльками и всякими отвлекающими факторами. И не идя на сделку с совестью. Это очень трудно, когда знаешь, что все временно. Что ты гость на этой земле. Я понял это с годами, став мудрым. Хотя ну ее в задницу, эту мудрость, лучше молодость верните!
Интервью
- Артур Юркевич
Незнакомец и мир природы
Незнакомец и мир природы | ШмупМагазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Человек и мир природы
- Часть 1, Глава 1
Она сказала: «Если едешь медленно, рискуешь получить солнечный удар. Но если едешь слишком быстро, вспотеешь, а потом простудишься в церкви». Она была права. Выхода не было. (1.1.27)
Медсестра говорит как о погоде, так и о состоянии человека. Солнечный жар неизбежен, как неизбежна смерть. Выхода не было, кроме принятия. Довольно интересно, что Мерсо не единственный, кто связывает важные человеческие реакции с погодой.
[…] Свидетель в комнате казался еще ярче, чем раньше. Нигде передо мной не было тени, и каждый предмет, каждый угол и изгиб выделялись так резко, что у меня болели глаза. (1.1.15)
Кажется, что яркость отрицательно влияет на настроение Мерсо. Иногда яркость даже причиняет Мерсо боль.

Было приятно; кофе меня согрел, а запах цветов в ночном воздухе доносился через открытую дверь. Думаю, я задремал на некоторое время. (1.1.14)
Мерсо в своей пассивности позволяет погоде и окружающей среде диктовать свои действия.
Вокруг меня все та же сияющая сельская местность, залитая солнечным светом. Свет с неба был невыносим. В какой-то момент мы проехали участок дороги, который только что отремонтировали. Смола раскрылась на солнце. […] Я чувствовал себя немного потерянным между бело-голубым небом и однообразием цветов вокруг меня — липкой чернотой смолы, тускло-черной одеждой и блестящей чернотой катафалка. Все это — солнце, запах кожи и конского навоза из катафалка, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи — мешало мне ясно видеть и мыслить. […] Я чувствовал, как кровь стучит в моих висках. (1.1.26)
Мерсо утверждает, что погода затуманивает его чувства и суждения. Главное предзнаменование.

Небо уже было наполнено светом. Солнце начало палить на землю, и с каждой минутой становилось все жарче. Не знаю, почему мы так долго ждали, прежде чем отправиться в путь. Мне было жарко в моей темной одежде […] это было бесчеловечно и угнетающе. (1.1.24)
Мерсо плохо переносит летнюю жару — она моментально портит ему настроение.
- Часть 1, Глава 2
Затем внезапно зажглись уличные фонари, и первые звезды, появившиеся на ночном небе, померкли. Я почувствовал, как мои глаза устают. (1.2.11)
Скажем прямо: Мерсо устает от жаркого солнца; ночное небо утомляет Мерсо; цветы утомляют Мерсо… этот парень только и делает, что спит?
Вскоре после этого небо потемнело, и я подумал, что нас ждет летняя гроза. Но постепенно все снова прояснилось. Но из-за проплывающих облаков над улицей висела тень дождя, из-за чего она казалась темнее. Я долго сидел и смотрел на небо.
 (1.2.8-10)
(1.2.8-10)[…]
Небо снова изменилось. Небо над крышами приобрело красноватый оттенок, а с наступлением вечера улицы ожили.
Мерсо проводит расслабленный, но задумчивый день, наблюдая за уличной сценой из своей квартиры наверху. Изменения в небе отражают его меняющееся настроение.
У меня перед глазами было все небо, и оно было голубым и золотым. На затылке я чувствовал, как тихо бьется сердце Мари. Мы долго лежали на поплавке в полусне. Когда солнце стало слишком жарким, она нырнула, а я последовал за ней. Я догнал ее, обнял за талию, и мы поплыли вместе. Она все время смеялась. (1.2.2)
Сравните эту сцену на пляже, на солнце, со сценой с арабом, которую мы увидим позже. Почему солнце здесь делает Мерсо счастливым, а потом оказывает совершенно иное воздействие? Может ли быть так, что вся его защита от непогоды — чепуха?
- Часть 1, Глава 3
Небо было зеленым; Я чувствовал себя хорошо.
 (1.3.3)
(1.3.3)Здесь ищем цветовой мотив… раньше небо было голубым и золотым, а теперь зеленое. Идите «хм» на это некоторое время.
- Часть 1, глава 4
Четырехчасовое солнце было не слишком жарким, но вода была теплой, с медленными, мягко плещущимися волнами. Мари научила меня игре. (1.4.1)
Тепло — не тепло — поднимает настроение Мерсо. Мы пытаемся установить здесь какую-то систему, но может случиться так, что ассоциации лишены логики и рассуждений — очень похоже на абсурдистский мир. Оооо.
Я оставил окно открытым, и летний ночной воздух, струящийся по нашим коричневым телам, показался мне приятным. (1.4.2)
Для Мерсо счастье — это результат физических удовольствий. Просто как тот.
- Часть 1, Глава 6
[…] ореол смешения света и морских брызг. Я думал о прохладном источнике за скалой. Я хотел снова услышать журчание его воды, сбежать от солнца и напряжения […] и наконец снова найти тень и отдохнуть.
 (1.6.21)
(1.6.21)Природа настолько жестока, что Мерсо думает только о побеге и покое.
Солнце начало жечь мне щеки, и я чувствовал, как на бровях собираются капли пота. Это солнце было такое же, как и в день, когда я похоронил maman, и, как тогда, особенно болел мой лоб, все вены на нем пульсировали под солнцем. Именно это жжение, которое я больше не мог выносить, заставляло меня двигаться вперед. Я знал, что это глупо, что я не избавлюсь от солнца, шагнув вперед. (1.6.24)
Мерсо отмечает, что солнце похоже на солнце в тот день, когда он похоронил Maman — интересно, имеет ли его подавленный гнев/грусть/эмоции вообще после ее смерти какое-то отношение к его внезапному нападению здесь .
Но большую часть времени он был просто формой, мерцающей перед моими глазами в огненном воздухе. Шум волн был еще ленивее, протяжнее, чем в полдень. Это было то же солнце, тот же свет, все еще сияющий на том же песке, что и раньше.
 Мне пришло в голову, что все, что я ненавижу делать, это поворачиваться, и это будет конец. Но весь пляж, пульсирующий на солнце, давил мне на спину. (1.6.23-24)
Мне пришло в голову, что все, что я ненавижу делать, это поворачиваться, и это будет конец. Но весь пляж, пульсирующий на солнце, давил мне на спину. (1.6.23-24)Описание Камю залитых солнцем условий дополняет спутанные мысли Мерсо, пока мы приближаемся к кульминации.
Солнце отражалось от пистолета Рэймонда, когда он вручал его мне. (1.6.18)
Здесь мы непосредственно видим солнце и пушку, связанные друг с другом. Позже Мерсо обвинит оба эти предмета в смерти араба.
Однажды на улице, потому что я так устал, а также потому, что мы не открыли жалюзи, день, уже яркий от солнца, ударил меня, как пощечина. (1.6.2)
Это очень похоже на сцену, где солнце «режет» глаза Мерсо (как раз перед тем, как он убивает араба).
Солнце светило почти прямо над головой на песок, и блики на воде были невыносимы. […] Было трудно дышать в поднимающемся от земли каменном зное. (1.6.
 11)
11)Жара злит Мерсо. Нравится , действительно злится.
[…] в голове звенело от солнца […] жара была такая сильная, что было так же плохо стоять на месте в слепящем потоке, падающем с неба. Остаться или уйти — одно и то же. Через минуту я повернулся к берегу и пошел. То же ослепительно-красное сияние. Море хватало ртом воздух с каждой мелкой, придушенной волной, разбивавшейся о песок. Я медленно шел к скалам и чувствовал, как мой лоб распухает на солнце. Весь этот жар давил на меня и мешал мне продолжать. И каждый раз, когда я чувствовал, как порывы его горячего дыхания ударяли мне в лицо, я сжимал зубы, сжимал кулаки в карманах брюк и напрягал все силы, чтобы побороть солнце и густое опьянение, которое оно разливалось на меня. С каждым лучом света, вспыхнувшим на песке, на выбеленной раковине или осколке разбитого стекла, мои челюсти сжались. (1.6.19-20)
Описание жары прекрасно сопровождает нарастающее раздражение Мерсо, прекрасно предвещает надвигающийся конфликт и правильно иллюстрирует, насколько абсурдными и иррациональными будут его предстоящие действия.

[…] Араб вытащил свой нож и поднес его ко мне на солнце. Свет выстрелил из стали, и это было похоже на длинное сверкающее лезвие, вонзившееся мне в лоб. В то же мгновение пот с моих бровей разом стекал на веки и покрывал их теплой толстой пленкой. Мои глаза были ослеплены за занавесом из слез и соли. Все, что я мог чувствовать, — это солнечные лучи, падающие на мой лоб, и смутно ослепительное копье, вылетающее из ножа передо мной. Обжигающее лезвие полоснуло мои ресницы и вонзилось в горящие глаза. Вот тогда все и начало шататься. Море несло густое огненное дыхание. Мне казалось, что небо раскололось от одного конца до другого, чтобы пролиться огненным дождем. Все мое существо напряглось, и я сжимаю револьвер в руке. Спусковой крючок дал. (1.6.24)
Описание Мерсо о небе, раскалывающемся, чтобы «пролиться огненным дождем», странно религиозно. Может быть, он чувствует, что должен быть наказан (за то, что не оплакивал смерть своей матери), и что это самоуничтожение является причиной того, что он нажимает на курок?
Мы долго гуляли по пляжу.
 К настоящему времени солнце было подавляющим. Он разлетелся на мелкие осколки о песок и воду. (1.6.16)
К настоящему времени солнце было подавляющим. Он разлетелся на мелкие осколки о песок и воду. (1.6.16)Взгляните на выбор слов Камю — такие глаголы, как «разбить», вызывают у нас ажиотаж перед предстоящей сценой.
- Часть 2, Глава 1
По правде говоря, мне было очень трудно понять его рассуждения, во-первых, потому что мне было жарко, а в его офисе были большие мухи, которые то и дело садились мне на лицо. […]. (2.1.10)
Мерсо теряет концентрацию и другие когнитивные способности, когда становится жарко. Мы чувствуем тебя, Мерсо. Вроде, как бы, что-то вроде.
Затем он сказал: «Почему вы сделали паузу между первым и вторым выстрелом?» Я снова мог видеть красный песок и чувствовать жжение солнца на моем лбу. (2.1.9)
Это еще один пример веры Мерсо в то, что его действия продиктованы его физическим окружением.
Однако я объяснил ему, что моя натура такова, что мои физические потребности часто мешают моим чувствам.
 (2.1.4)
(2.1.4)Это настолько явно, насколько это возможно. Вы можете применить эту строку ко всем словам и действиям Мерсо в The Stranger .
Было два часа дня, и на этот раз его кабинет был наполнен солнечным светом, едва приглушенным тонкой занавеской. Было очень жарко. (2.1.7)
К этому моменту мы уже знаем, что жаркая погода никогда не бывает хорошим знаком для Мерсо. Напряжение в этой сцене строится просто из-за наших предыдущих ассоциаций между солнцем и настроением Мерсо.
- Часть 2, Глава 3
Несмотря на жалюзи, солнце местами просачивалось, и воздух был уже душным. Они не открывали окна. (2.3.3)
Еще больше комментариев по поводу жаркого солнца и душного воздуха, да еще и еще предвестие надвигающейся гибели.
Судебный процесс начался, когда снаружи ярко светило солнце. (2.3.1)
То, что солнце «ярко светит снаружи», не сулит ничего хорошего для суда над Мерсо.
 Это предвещает некоторую форму агитации с его стороны или, возможно, его приговор к гильотине. Выбирайте.
Это предвещает некоторую форму агитации с его стороны или, возможно, его приговор к гильотине. Выбирайте.
- Часть 2, Глава 4
Тем временем на улице садилось солнце, и было уже не так жарко. Судя по уличному шуму, я почувствовал сладость приближающегося вечера. Там мы все были, ждали. И то, чего мы все ждали, действительно касалось только меня. (2.4.9)
По мере того, как мы приближаемся к развязке и падению действия, солнце становится ниже в небе. Отлично!
Немного повозившись со своими словами и поняв, как нелепо я прозвучала, я выпалила, что это из-за солнца. Люди смеялись. Мой адвокат развёл руками […]. (2.4.6)
Подумайте о защите Мерсо («солнце заставило меня сделать это!») в контексте последней главы романа, когда он приходит к выводу, что чувствует родство с землей, что мир на самом деле его брат.
Подробнее о Незнакомце Навигация
Это продукт премиум-класса
Разблокировать эти функции
Устали от рекламы?
Присоединяйтесь сегодня и никогда больше их не увидите.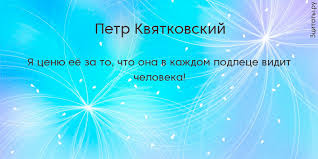
Начало работы
Пожалуйста, подождите…
Радость перед Иисусом!
Взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса; Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
— Евреям 12:2
Когда человек приступает к новому крупному начинанию, его страсть к успеху в этом начинании укрепляет его, позволяя не спускать глаз с цели, стоящей перед ним. Например, когда спортсмен начинает гонку, его желание победить в этой гонке помогает ему не сводить глаз с финишной черты. При строительстве здания рабочие, которые следят за завершенным рендерингом архитектора, поощряются к тому, чтобы поддерживать темп строительного процесса. Пока я писал эту книгу, которую вы держите в руках, я подбадривал себя, удерживая взгляд на 31 декабря — 9 декабря.0150 last Sparkling Gem Я знал, что буду писать для этого тома. С каждой новой ежедневной записью я приближался к этой цели, и это придавало мне смелости продолжать писать. Благодаря тому, что я пишу и не сбиваюсь с пути, сегодня вы читаете эту молитву.
Благодаря тому, что я пишу и не сбиваюсь с пути, сегодня вы читаете эту молитву.
Но как вы думаете, на чем сосредоточился Иисус, когда Он висел на Кресте и переносил агонию и позор, которые мы обсуждали в последние три дня Sparkling Gems ? Вы можете себе представить, что у Него должны были быть моменты, когда Он думал: Мне не нужно этого делать! Я мог бы призвать легионы ангелов, чтобы они освободили меня! Я мог бы сойти с этого Креста! Как вы думаете, что побудило Его остаться там, пока работа не была сделана?
*[Если вы начали читать это из своей электронной почты, начните читать здесь.]
В Евреям 12:2 очень ясно сказано: «…Кто вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлен и воссел одесную престола Божия».
В этом стихе говорится, что Иисус сосредоточился на «радости», которая предстала перед Ним, когда Он претерпел Крест. Точно так же, как бегун сосредотачивается на финишной черте, как строитель продвигается вперед, чтобы увидеть завершенный проект, а автор предвкушает последнюю написанную страницу книги, Иисус с нетерпением ждал «радости» завершения. Я уверен, что когда Иисус висел на Кресте, Он смотрел сквозь эпохи и видел лица людей, которые будут спасены благодаря тому, что Он делал. Он видел вас, Он видел меня — но что еще Он видел, что побудило Его оставаться верным до конца?
Я уверен, что когда Иисус висел на Кресте, Он смотрел сквозь эпохи и видел лица людей, которые будут спасены благодаря тому, что Он делал. Он видел вас, Он видел меня — но что еще Он видел, что побудило Его оставаться верным до конца?
Слово «радость» в греческом языке имеет определенный артикль, что означает, что это была не просто радость вообще, а конкретная радость . Что это было? Стих продолжает описывать радостную «конечную черту», к которой Иисус обратил Своё лицо, как кремень: «…Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престол Божий». Иисус устремил Свои глаза веры на пустой престол по правую руку Отца, который был сохранен для Него, когда Его победа была завершена. На этом престоле все враги будут Его подножием для ног, и Он начнет следующую часть Своего первосвященнического служения, чтобы ходатайствовать за каждого, кто когда-либо придет к Нему в трудную минуту (9).0150 см. Евреям 4:16).
Иисус сосредоточил Свои глаза, Свое сердце, Свой разум — Его все существо — на этом высоко возвышенном месте. Это была радость, поставленная перед Ним. Когда грех и ад были побеждены и Иисус воскрес, , что стало местом власти, которое Он вознесся на Небеса, чтобы занять. И с тех пор, с этого высоко возвышенного положения, Иисус служит Господом Церкви и Первосвященником и Ходатаем за каждого верующего.
Какая цель стоит перед вами, что мотивирует вас двигаться вперед даже в трудные времена? Если у вас нет цели, скорее всего, вы сдадитесь. Вот почему так важно точно знать, куда вы направляетесь, что произойдет, когда вы туда доберетесь, и какую победу вы ощутите, достигнув этого долгожданного положения. Точно так же, как Иисус нуждался в радостном исходе, который должен был быть представлен Ему, я гарантирую, что он нужен и вам.
- Что вы строите в своей жизни?
- Что мотивирует вас оставаться на правильном пути?
- Как это будет выглядеть, когда вы закончите?
- Что ты «пишешь» своей верой?
- Как будет выглядеть последняя глава вашей жизни, потому что вы сделали то, что Иисус просил вас сделать?
- Какая конкретная радость вам предстоит?
Иногда, когда вы усердно трудитесь, чтобы сделать то, что Бог попросил вас сделать, это может показаться непосильным, но прогресс достигается шаг за шагом. Приращения движения вперед могут показаться крошечными, но независимо от того, насколько велики или малы эти шаги, вы можете знать, что вы неизбежно продвигаетесь к цели, которую Бог поставил для вашей жизни.
Приращения движения вперед могут показаться крошечными, но независимо от того, насколько велики или малы эти шаги, вы можете знать, что вы неизбежно продвигаетесь к цели, которую Бог поставил для вашей жизни.
Когда я был молодым человеком, Бог показал мне цель моей жизни, и с тех пор эта цель стоит передо мной. В трудные времена я не сводил глаз с этой цели, потому что выполнение этой божественной цели и есть смысл всей моей жизни. Иногда казалось, что все, что я мог сделать, это делать маленькие шажки, но каждый шаг был шагом в правильном направлении. Именно так я прожил всю свою жизнь, сосредоточившись и двигаясь в направлении цели, которую открыл мне Бог.
Если вы оторветесь от цели и начнете сосредотачиваться на том, насколько малы ваши шаги на этом пути, вполне вероятно, что вы разочаруетесь и сдадитесь еще до того, как достигнете ее. Итак, сегодня я хочу призвать вас поднять глаза и посмотреть дальше, на радость, победу и исполнение того, что Бог запланировал для вашей жизни. Даже Иисусу нужна была цель, чтобы помочь Ему оставаться сосредоточенным, когда Он претерпевал сильные страдания и висел на кресте.
Даже Иисусу нужна была цель, чтобы помочь Ему оставаться сосредоточенным, когда Он претерпевал сильные страдания и висел на кресте.
Итак, сегодня я призываю вас совершить новое посвящение перед Господом, чтобы подчиниться Его воле для вашей жизни. Тогда используйте свою власть во имя Иисуса и противостаньте дьяволу ( см. Иакова 4:7)! И когда вы продвигаетесь вперед в послушании голосу Господа, устремите свои взоры веры на приз, который Иисус поставил перед вами. Это то, что поддержит вашу решимость оставаться на месте , а оставаться на пути , пока вы, наконец, не сможете кричать, что достигли поставленной Богом цели!
МОЯ МОЛИТВА НА СЕГОДНЯ
F Еще, я благодарю Тебя за пример верного терпения, который проявил Иисус, когда Он претерпел боль и позор на Кресте за меня. Иисус не сводил глаз с представшей перед Ним радости, зная, что Он займет Свое место по правую руку от Отца, предназначенное для Него, как только Его победа будет завершена. Когда Ты воскресил Иисуса из мертвых, Отец, Ты воскресил и меня, чтобы сесть в Нем. Господи Иисусе, я поклоняюсь Тебе и устремляю на Тебя твердый взор, чтобы с радостью окончить свой путь во славу Божию!
Когда Ты воскресил Иисуса из мертвых, Отец, Ты воскресил и меня, чтобы сесть в Нем. Господи Иисусе, я поклоняюсь Тебе и устремляю на Тебя твердый взор, чтобы с радостью окончить свой путь во славу Божию!
Я молюсь об этом во имя Иисуса!
МОЯ ИСПОВЕДЬ НА СЕГОДНЯ
Я признаюсь, что сосредоточен на цели выполнения Божьего плана для моей жизни. Я понимаю, что я не свой, но я принадлежу Богу. Поэтому я черпаю могучую силу, доступную мне во Христе, и с помощью Его Духа внутри меня я ежедневно с непоколебимой преданностью двигаюсь в направлении к награде за исполнение моего божественного замысла, как Бог открыл его мне. .
Я заявляю об этом верой во имя Иисуса!
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
- Что Бог поставил перед вами в качестве основного проекта или цели вашей жизни?
- Если вы не знаете цели своей жизни, просили ли вы когда-нибудь Бога показать ее вам? Согласно Иакова 1:5 ( см.


 Это все повторилось после войны, в 1948 году, когда началась борьба с «безродными космополитами». Через это уже прошел я сам. Я три года проучился в ГИТИСе, а затем решил поступать на кинорежиссуру во ВГИК. А это 1949 год, самый расцвет антисемитизма! В каждом вузе была мандатная комиссия по анкетным данным. Меня не хотели брать: «Столько достойной молодежи хочет учиться, а тут какой-то еврей». Поступил я только благодаря Михаилу Ромму. Он стукнул по столу: «Калик будет учиться!» И они испугались. Знали, что Сталин его уважает.
Это все повторилось после войны, в 1948 году, когда началась борьба с «безродными космополитами». Через это уже прошел я сам. Я три года проучился в ГИТИСе, а затем решил поступать на кинорежиссуру во ВГИК. А это 1949 год, самый расцвет антисемитизма! В каждом вузе была мандатная комиссия по анкетным данным. Меня не хотели брать: «Столько достойной молодежи хочет учиться, а тут какой-то еврей». Поступил я только благодаря Михаилу Ромму. Он стукнул по столу: «Калик будет учиться!» И они испугались. Знали, что Сталин его уважает.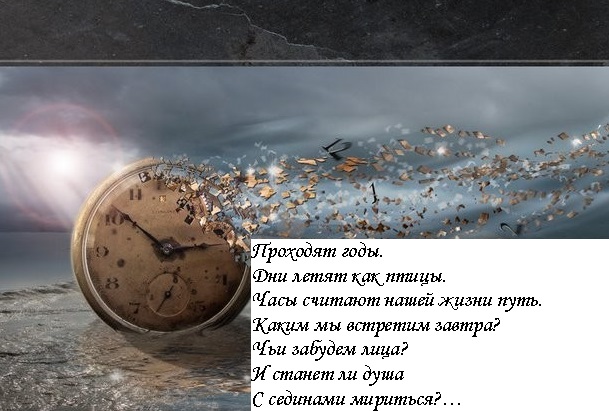 Подводил к картине и говорил: «Что вы видите? Назовете живописью? Да нет, я, пожалуй, назову литературой. Cюжет, сюжет…» Или останавливался у скульптуры: «Подлинник! Подлинник! Чувствуете? Здесь все дышит!» А потом вдруг добавлял: «Вот почему я не слушаю музыку по радио!» И через паузу: «Не чувствую фактуру звука!» Еще был красавец-армянин Дживилегов. Я ему благодарен на всю жизнь. У него на экзамене выяснилось, что я не читал Библию. Так он говорит: «Вы хотите заниматься театроведением и не читали Библию? Пока не прочтете, не приходите ко мне сдавать. Без Библии вы не поймете ни живописных картин, ни сюжетов, ничего. Саму суть не ухватите». Он был ужасно прав! Вот у таких людей я учился. И доучился до того, что они сидели как подсудимые на сцене актового зала ГИТИСа. В «Правде» вышла маленькая такая заметочка с названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», с которой началась антисемитская кампания.
Подводил к картине и говорил: «Что вы видите? Назовете живописью? Да нет, я, пожалуй, назову литературой. Cюжет, сюжет…» Или останавливался у скульптуры: «Подлинник! Подлинник! Чувствуете? Здесь все дышит!» А потом вдруг добавлял: «Вот почему я не слушаю музыку по радио!» И через паузу: «Не чувствую фактуру звука!» Еще был красавец-армянин Дживилегов. Я ему благодарен на всю жизнь. У него на экзамене выяснилось, что я не читал Библию. Так он говорит: «Вы хотите заниматься театроведением и не читали Библию? Пока не прочтете, не приходите ко мне сдавать. Без Библии вы не поймете ни живописных картин, ни сюжетов, ничего. Саму суть не ухватите». Он был ужасно прав! Вот у таких людей я учился. И доучился до того, что они сидели как подсудимые на сцене актового зала ГИТИСа. В «Правде» вышла маленькая такая заметочка с названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», с которой началась антисемитская кампания. Сколько вам было лет?
Сколько вам было лет? А кто не купится? Какая нужна была сила, чтобы противостоять такой махине? Он же мальчишка был.
А кто не купится? Какая нужна была сила, чтобы противостоять такой махине? Он же мальчишка был. Я читаю и вижу, что статью 17–58–8 сняли и вместо 25 лет дали 10. Все-таки лучше!
Я читаю и вижу, что статью 17–58–8 сняли и вместо 25 лет дали 10. Все-таки лучше! Не у мамы с папой за спиной, а по-настоящему. И это спасло меня дальше в лагере, где я и людей хоронил голыми руками и по трое суток в карцере под мерзлой землей сидел. Такой диапазон людей я бы в жизни не увидел и не вырос в то, во что вырос! Кого хотите вы там могли увидеть — от дворян и князей до бандеровцев, до последних жуликов. Весь народ русский и не русский. И я копил все, что видел. Характеры, персонажей, их высказывания. Я себя убедил, что мне нужно все это узнать до конца, а через пару лет меня выпустят. И случилось точно, как я играл. Это не моя выдумка, клянусь! Меня освободили в апреле 1954-го, одним из первых. Два с половиной года я провел в лагере.
Не у мамы с папой за спиной, а по-настоящему. И это спасло меня дальше в лагере, где я и людей хоронил голыми руками и по трое суток в карцере под мерзлой землей сидел. Такой диапазон людей я бы в жизни не увидел и не вырос в то, во что вырос! Кого хотите вы там могли увидеть — от дворян и князей до бандеровцев, до последних жуликов. Весь народ русский и не русский. И я копил все, что видел. Характеры, персонажей, их высказывания. Я себя убедил, что мне нужно все это узнать до конца, а через пару лет меня выпустят. И случилось точно, как я играл. Это не моя выдумка, клянусь! Меня освободили в апреле 1954-го, одним из первых. Два с половиной года я провел в лагере. Войну не выиграли, ее завалили трупами. Ни в одной стране это не будут считать победой. Люди в России — пыль. Так в лагере и говорили вертухаи: «Мы тебя в пыль сотрем! Кто ты такой? Пыль!» А я знал, что я не пыль. Я с самого начала это знал. У меня был такой характер. Я рос другим. Я родился свободным человеком. И всю степень своей свободы я постиг именно в лагере. Я был выше их. Я был внутренне свободным.
Войну не выиграли, ее завалили трупами. Ни в одной стране это не будут считать победой. Люди в России — пыль. Так в лагере и говорили вертухаи: «Мы тебя в пыль сотрем! Кто ты такой? Пыль!» А я знал, что я не пыль. Я с самого начала это знал. У меня был такой характер. Я рос другим. Я родился свободным человеком. И всю степень своей свободы я постиг именно в лагере. Я был выше их. Я был внутренне свободным. На рожон я не лез и до ареста. Но заставить себя молчать я не мог. Я хотел говорить фильмами. Не в смысле «Я борюсь с советской властью!» Этой глупости у меня не было ни в одном фильме. Я просто хотел передать то, что мне близко, дорого, что меня волнует.
На рожон я не лез и до ареста. Но заставить себя молчать я не мог. Я хотел говорить фильмами. Не в смысле «Я борюсь с советской властью!» Этой глупости у меня не было ни в одном фильме. Я просто хотел передать то, что мне близко, дорого, что меня волнует. «Ни в коем случае! — говорили. — Это издевательство над стахановским движением!» А я и вправду показал, как я с такой тачкой, нагруженной кирпичами, бегал в лагере. Мы строили городки-поселения для евреев, куда их должны были ссылать по итогам «Дела врачей». А там это было обязательно под музыку. Ставили между двойными входными воротами, перекличка по номерам, лай овчарок и среди этого: «Утро красит нежным светом…» Это же правда! Как я мог такой эпизод вырезать? И вот эти соревнования бригад — это же были настоящие формулы лагеря в мирной жизни. И те, кто умел мыслить, видели это в моих фильмах. Но это не было целью. Я не был антисоветским. Я был асоветским. Я просто хотел, чтобы фильмы соответствовали моим представлениям о жизни во всей ее сложности.
«Ни в коем случае! — говорили. — Это издевательство над стахановским движением!» А я и вправду показал, как я с такой тачкой, нагруженной кирпичами, бегал в лагере. Мы строили городки-поселения для евреев, куда их должны были ссылать по итогам «Дела врачей». А там это было обязательно под музыку. Ставили между двойными входными воротами, перекличка по номерам, лай овчарок и среди этого: «Утро красит нежным светом…» Это же правда! Как я мог такой эпизод вырезать? И вот эти соревнования бригад — это же были настоящие формулы лагеря в мирной жизни. И те, кто умел мыслить, видели это в моих фильмах. Но это не было целью. Я не был антисоветским. Я был асоветским. Я просто хотел, чтобы фильмы соответствовали моим представлениям о жизни во всей ее сложности. И еще сделал не просто стык игрового и документального кино, а перспекцию. Показал хроникой то, что этих мальчишек ждет впереди. Потом директор Каннского кинофестивался Фавр Лебре говорил мне: «Вы сделали это первым». И под эту фразу я показал, что ждет этих несчастных парней, которые были такие хорошие, такие живые, такие настоящие! Они были уверены, что их ждет только радость. Как же иначе? Жизнь-то моя! А что она им готовила? Но виноваты были не они, а строй. Такой можно было сделать вывод. Но снова — не впрямую. Я всегда говорил, как мои любимые импрессионисты — эмоционально, образами, которые входят в сердце, не в голову. Наверху это понимали и не могли мне этого простить.
И еще сделал не просто стык игрового и документального кино, а перспекцию. Показал хроникой то, что этих мальчишек ждет впереди. Потом директор Каннского кинофестивался Фавр Лебре говорил мне: «Вы сделали это первым». И под эту фразу я показал, что ждет этих несчастных парней, которые были такие хорошие, такие живые, такие настоящие! Они были уверены, что их ждет только радость. Как же иначе? Жизнь-то моя! А что она им готовила? Но виноваты были не они, а строй. Такой можно было сделать вывод. Но снова — не впрямую. Я всегда говорил, как мои любимые импрессионисты — эмоционально, образами, которые входят в сердце, не в голову. Наверху это понимали и не могли мне этого простить.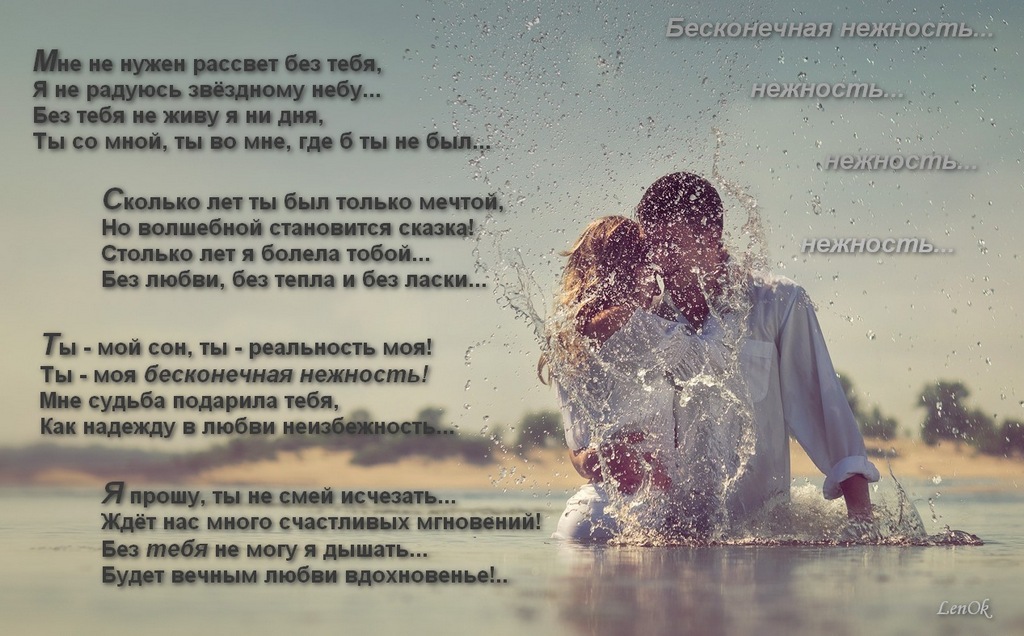 Да и Мень был православным, то есть как бы наш, русский. В «Любить» я тоже сталкивал игровые новеллы и хронику под особым углом. Высокие мысли Меня о любви контрастировали с земными представлениями о ней интеллектуалов из «Литературной газеты». Они выпивали, дым коромыслом стоял, очень умно говорили. И рядом с Менем выглядели интересно. Появлялся контекст, смысл. Это и есть режиссура: как одно подтверждает или опровергает другое. А к Ветхому завету я обратился потому, что если уж говорить красиво о любви, то лучше, чем в Песне песней, не скажешь. Но все равно этого никто не увидел: в 1968 году вышла абсолютно искалеченная версия. Песнь песней вырезали, Меня тоже, еще что-то… Мало того, им пришлось внутрь вставлять куски, которые я при монтаже выкинул! У них другого выхода не было — в плане стоял полнометражный фильм. И когда я это увидел, мне стало просто стыдно. Я написал, чтобы они сняли мое имя с титров. Они этого, конечно, не сделали. Выпустили 12 копий, показали их у черта на куличках, вернули потраченные на производство деньги и положили фильм на полку.
Да и Мень был православным, то есть как бы наш, русский. В «Любить» я тоже сталкивал игровые новеллы и хронику под особым углом. Высокие мысли Меня о любви контрастировали с земными представлениями о ней интеллектуалов из «Литературной газеты». Они выпивали, дым коромыслом стоял, очень умно говорили. И рядом с Менем выглядели интересно. Появлялся контекст, смысл. Это и есть режиссура: как одно подтверждает или опровергает другое. А к Ветхому завету я обратился потому, что если уж говорить красиво о любви, то лучше, чем в Песне песней, не скажешь. Но все равно этого никто не увидел: в 1968 году вышла абсолютно искалеченная версия. Песнь песней вырезали, Меня тоже, еще что-то… Мало того, им пришлось внутрь вставлять куски, которые я при монтаже выкинул! У них другого выхода не было — в плане стоял полнометражный фильм. И когда я это увидел, мне стало просто стыдно. Я написал, чтобы они сняли мое имя с титров. Они этого, конечно, не сделали. Выпустили 12 копий, показали их у черта на куличках, вернули потраченные на производство деньги и положили фильм на полку. Через Управление по охране авторских прав я подал на них в суд. Долго они со мной морочились, а потом дотянули до того, что я уехал в Израиль.
Через Управление по охране авторских прав я подал на них в суд. Долго они со мной морочились, а потом дотянули до того, что я уехал в Израиль. И когда они начинают это понимать, это портит жизнь. Нужно набраться мужества, чтобы осознать это и идти вперед, не помогая себе бирюльками и всякими отвлекающими факторами. И не идя на сделку с совестью. Это очень трудно, когда знаешь, что все временно. Что ты гость на этой земле. Я понял это с годами, став мудрым. Хотя ну ее в задницу, эту мудрость, лучше молодость верните!
И когда они начинают это понимать, это портит жизнь. Нужно набраться мужества, чтобы осознать это и идти вперед, не помогая себе бирюльками и всякими отвлекающими факторами. И не идя на сделку с совестью. Это очень трудно, когда знаешь, что все временно. Что ты гость на этой земле. Я понял это с годами, став мудрым. Хотя ну ее в задницу, эту мудрость, лучше молодость верните!
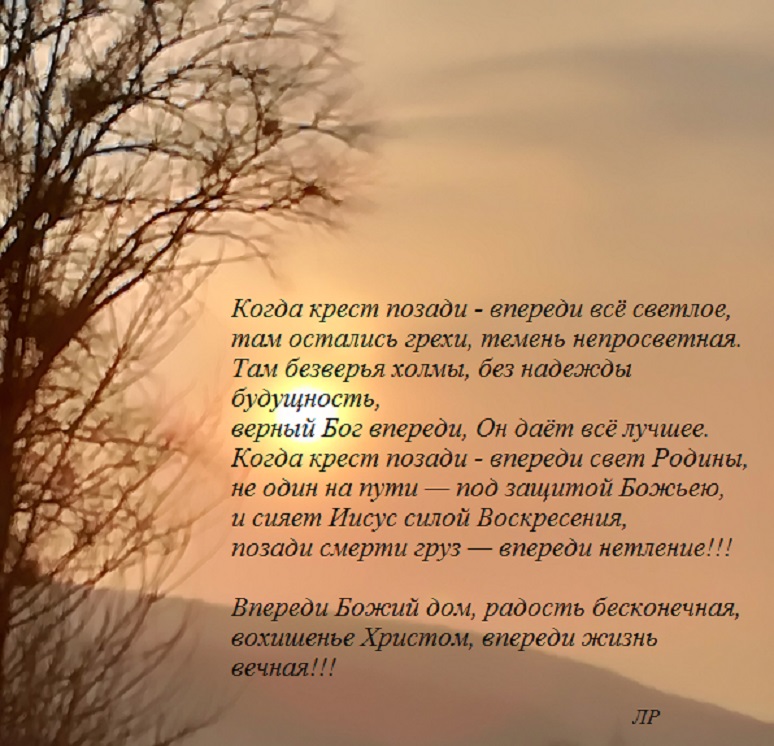
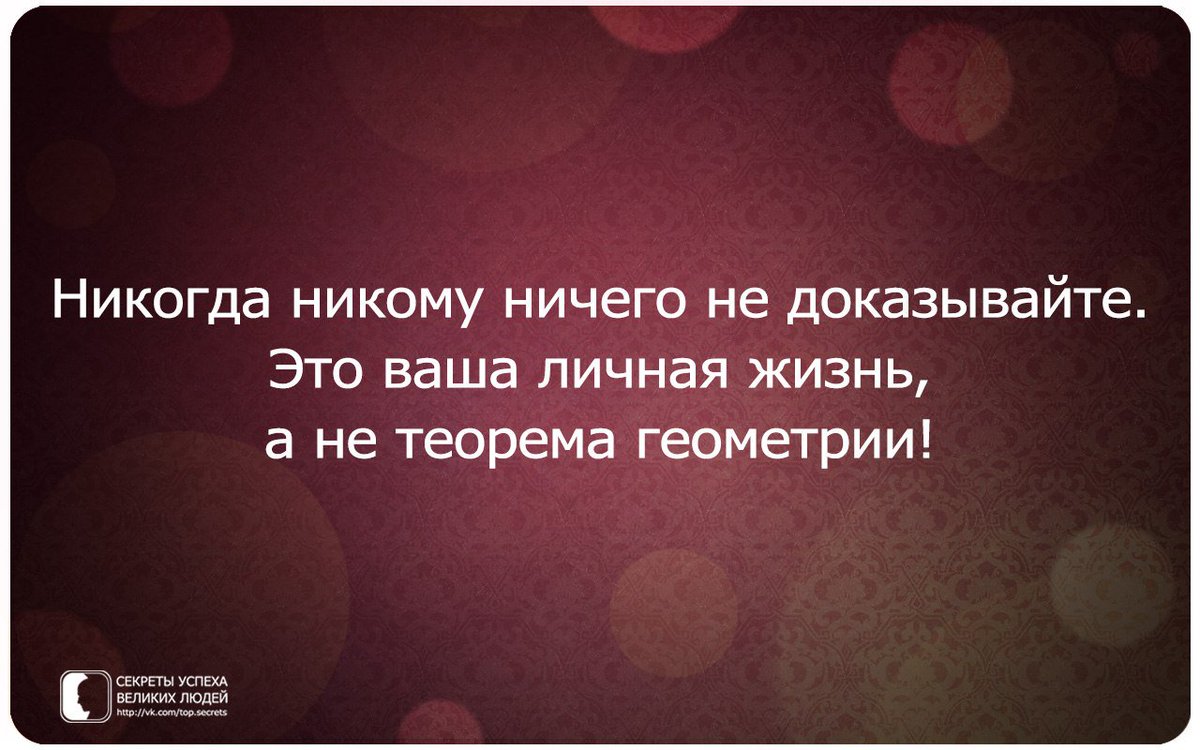 (1.2.8-10)
(1.2.8-10) (1.3.3)
(1.3.3) (1.6.21)
(1.6.21) Мне пришло в голову, что все, что я ненавижу делать, это поворачиваться, и это будет конец. Но весь пляж, пульсирующий на солнце, давил мне на спину. (1.6.23-24)
Мне пришло в голову, что все, что я ненавижу делать, это поворачиваться, и это будет конец. Но весь пляж, пульсирующий на солнце, давил мне на спину. (1.6.23-24) 11)
11)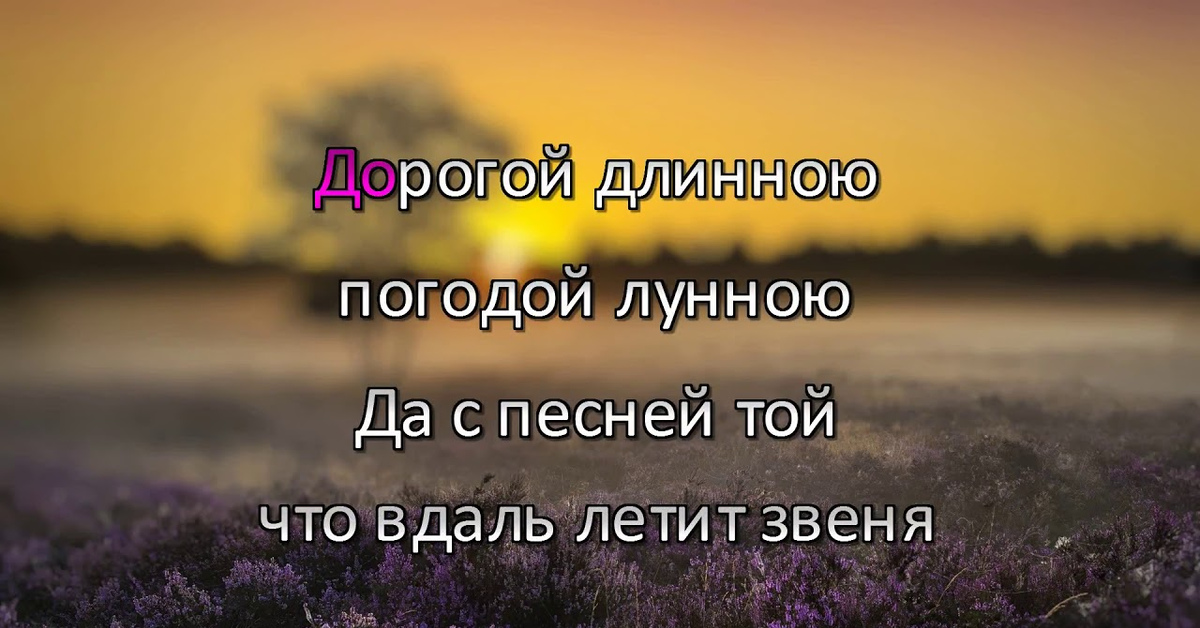
 К настоящему времени солнце было подавляющим. Он разлетелся на мелкие осколки о песок и воду. (1.6.16)
К настоящему времени солнце было подавляющим. Он разлетелся на мелкие осколки о песок и воду. (1.6.16) (2.1.4)
(2.1.4) Это предвещает некоторую форму агитации с его стороны или, возможно, его приговор к гильотине. Выбирайте.
Это предвещает некоторую форму агитации с его стороны или, возможно, его приговор к гильотине. Выбирайте.