Только верить не спеши то что лето будет вечным скоро осень за окном: Подарки на новый год — Старость в радость
Читать онлайн «Моя Душа», Олег Ульянович Ершов – Литрес, страница 2
Памяти солдат
Я закрою руками лицо.
И по памяти вновь пролечу.
Я увижу родное крыльцо.
И глотая слезу, промолчу!
На заплаканных лицах вуаль,
Где по два раздаются цветы.
Не сверкает на солнце медаль!
И холмы возвышают кресты!
Сквозь века и туманы дорог,
Через подвиги новых имен.
Ни откуда, да и в никуда,
Пробивается наш батальон.
За страну! За свободу! За честь!
За любимую, брата, за мать!
Сколько в том батальоне, не счесть…
Уходило бойцов воевать!
Поднимаю на солнце глаза,
Ослепленные вспышкой души.
Так за что же ты нас наказал?
И за что, наказать поспешил?
Я закрою руками лицо.
И по памяти вновь пролечу.
Подниму я сто грамм за бойцов.
И глотая слезу, прошепчу:
Наливай! Наливай! Наливай!
Чтоб солдаты уснули!
Уголками платков матерей,
Много вытерто слёз.
Наливай ещё раз пополней,
Чтобы всех помянули.
Чтобы души убитых взлетели,
До самых, до звезд!
Закружила листва
Разорваны все цепи на куски!
И грудь в крестах, но сердце уж не бьётся!
Завяли розы алой лепестки
И только память битвы остаётся!
Закружила листва, мою прошлую юность.
И обрывками снов, постучалась ко мне.
Заплетая лады, сердце жалили струны.
Киноленту судьбы я храню о тебе!
Золотая пора, нас с тобой обручила.
Неподкупный мотив, нежно в вальсе звучал.
Но злодейка судьба, острый нож наточила.
И на двадцать годков приговор прозвучал!
Бабье лето дождем, застучало по крышам.
Журавлей острый клин потянулся на юг.
Что поделать раз так, по судьбе у нас вышло.
Ты осталась в Москве. Я на северный круг!
Двадцать лет, как стрела. Пролетело с тех пор.
Как старуха судьба, нам расставила точки.
Ты писала о том, как тебе тяжело.
И на выданьи уж, две красавицы дочки.
На последний пошел! Собирай сидорок!
Телеграмму в «УБ», принесли адресату.
На казённом листе, шрифт наклеенный был.
«На подземке в метро, подорвали гранату»!
Как же Господи так? Я все отдал сполна!
День за днем, как один, пролетели денечки!Я молился тебе! Но взрывная волна!!!
И теперь у тебя, и жена и две дочки!
Я старался не верить, в эту глупую правду.
И в закрытые двери я напрасно стучал!
А за окнами падал, первый снег, белый – белый!
И в далекой квартире, вальс прощальный звучал!
Замело первым снегом, и поля и овраги.
И вески затянуло, глубоко серебром.
Только в памяти где-то, я опять возвращаюсь,
В ту далёкую юность… и стучу в старый дом!
Залепило лобовое
Залепило! Залепило лобовое.
Залепило мокрым снегом, не смахнуть.
Мы с напарником в машине едем двое.
Впереди у нас еще далекий путь.
А метель метет без устали – подруга!
И глазами я сверлю ночную даль.
Мой напарник ставит снова «Мишу Круга»!
И уверенней нога жмет на педаль!
Впереди Москва, Казань, Уфа, Урал!
А потом Тюмень и долгая Сибирь!
Лишь в ушах звучит: «Владимирский Централ»!
Как тяжкий груз, этапом из Твери.
От границы до границы километры.
А по времени глядишь, денек другой.
По Сибири замелькают снова Кедры!
И в обратную торопимся домой!
Встречных нет, сегодня праздничные дни.
И попутных, хватит пальцев сощитать.
«Слышь дружок, вон там Кафе, давай сверни»!!!«Кофе —Чай», да и тебе пора поспать!
Залепило! Залепило лобовое!
Залепило мокрым снегом, не смахнуть.
Мы с напарником доехали до места.
Впереди у нас теперь обратный путь!
Зима – Зима! Туман – Туман! Дожди – Дожди!
Стучат в стекло, а ты родная подожди!
И в знойный день и в гололед,
Мы мчимся вдаль – мотор поет!
Но точно заем, что нас дома кто-то ждет,
Кто – то ждет!!!
«Люблю весной ландшафт природы…»
Люблю весной ландшафт природы.
Прощанье с грешницей – зимой!
Когда ликуют все народы,
И пьют ее, как чай густой.
Цветет земля в минуты эти.
И в предрассветные часы,
Как будто на живом портрете,
Дурманят запахом цветы.
Шумят ветра, ветвями ивы,
Когда на ней уже листва.
И ей она шуршит лениво,
Сказав, что к нам пришла весна.
И я бессилен пред собою.
Не в силах, что-либо сказать.
В мечты бросаюсь с головою,
И не хочу при этом лгать.
Она так девственна, невинна,
Дрожит росою на листах.
И все же в чем-то примитивна,
В доступных для нее местах.
Любой, в кого ни ткнете пальцем,
Вам может это подтвердить.
Готов я к ней проехать «зайцем»,
Когда билет не раздобыть.
Мои мечты, как звуки горна.В скончании матушки зимы,
Весна за ней идет покорно,
За ней идем покорно мы.
Весна, весна! Что за забвенье?
Кружиться как-то голова!
И хоть кричите, не кричите,
Весной приемлемы слова!
Еще зима зализывает раны
Еще Зима зализывает раны.
По всей Земле, Весенний «Бодиарт»!
А женщины скрывая тел изъяны…
Дают нам знать, что в сердце входит Март!
Сплетенье слов в Восьмерке бесконечной.
Поток любви, желание лететь,
И первоцветом слыть, лазурью подвенечной,
Букетом роз, и в той любви гореть!Скажи, о Боже! Это ли не диво?
Что может быть прекрасней и теплей?
Чем поздравленье с Женским днем тех милых,
Любимых Женщин, что всего милей!
Я жгу слова, Земного Бодиарта.
Они горят, течет любви река.
Желаю я тебе Восьмого Марта,
Большой любви и счастья на века!
Дочери Евгении
Светило Солнце, снег лукаво таял.
Кончался март ручьями бытия.
В деревне пёс соседский громко лаял.
И в нашу жизнь пришла Евгения.
Комочек плоти, маленькое чудо.
Желанный отрок матушки земли.
Ты родилась не от пустого блуда,
А от большой и искренней любви.
Тянулись реки к северным просторам.Летели дни, сплетая жизнь в года. 
А ты росла по маминым узорам,
И вот теперь стройна и молода.
Уходит март с весенними лучами.
Как много лет, земля в пути кружит!
Свой День рождения, ты празднуешь с друзьями!
А жизнь всё так – же, бешено бежит.
И я тебе, на этой остановке,
Хочу сказать, большую кучу слов.
Желаю счастья, радости, сноровки.
Большой любви и нежных ангелков.
«Заискрились, засверкали…»
Заискрились, засверкали
По-весеннему лучи.
Очень быстро исчезают,С гор бегущие ручьи.
На полях, в лугах, в овраге,
У дороги полевой.
Пробивает землю к небу,
Стебель жизни молодой.
Он совсем еще младенец,
Как про это не сказать.
И по этому, так скоро
Хочет зелень показать.
А природа не балует
Этакого сорванца.
То с небес задует бурю,
То морозам нет конца.
Кто же власть оставит сразу,
Кто отдаст свои права?
Покорится кто приказу,
Если есть в руках права?
Но в природе всё же ясно,
За зимой спешит весна.
Как бы трудно не пришлось ей,
Всё равно придет она.
Сразу радостней живется,
Настроение бодрей.
Когда солнце улыбнется
И трава растет быстрей.
Как в природе, так в народе,
Кто отдаст свои права?
И закон прописан вроде,
Только власть всегда права.
И бунтуют и бастуют,
И дерутся до крови.
А потом кресты целуют,
Просят Бога: «Помоги»!
Не один ещё, заметьте,
Вечным на земле не стал.
Не поставлен человеку
Богом в Мире пьедестал.
Гражданин – Остановись!
За народ свой помолись!
За страну, за мать, за брата,
Богу в пояс поклонись!
«Весенних звуков сладкий плен…»
Весенних звуков сладкий плен,
Он как мираж в моем сознании.
И страсть желанных перемен,Слились в одно переживанье.
Любовных дел в мерцании свеч,
Грядет волна. И в ожидании,
Сползает ткань с дрожащих плеч,
Влюбленных тел с мечтой слияние.
И сладость, бешенная вновь,
Стучит в душе, как твердый молот.
И стынет в жилах быстро кровь,
И в теле наступает – голод…
И после сладостных минут,
Душа ликует как в полете,
И снова губы в губы льнут,
Как книга в старом переплете.
Любовь не знает, здесь границ.
И Вы с весной ее крадете…
Скользят по телу руки в низ,В любви как в сказке вы плывете.
Весна, весна, что за забвенье,
Кружится как-то голова.
Любви прекрасное влеченье,
Весной приемлемы слова!
Напиши мне письмо
Напиши ты мне письмо красивое,
Расскажи в нем, как живешь ты там.
Напиши мне пару строк, о милая,
Как тоскуешь ты по вечерам?
Ветер распахнет окно нечаянно,
И тебя немного освежит.
Шторы покачнет и распрощается.
И слеза украдкой пробежит.
Ты смахнешь слезу рукою нежною,
И быть может, вспомнишь обо мне.
Помакнешь перо в чернила свежие,
Обо всем напишешь мне в письме.
Про обиды горькие и страшные,
Про разлуку слезы и любовь.
И про сны, что кажутся вчерашними.
И про то, как встретимся мы вновь.
Напиши ты мне письмо красивое,
Я его прочту и помолчу.
Напиши мне пару строк, о милая!
Я тебе во времени кричу!
Позволь мне лишь приблизиться к тебе
Позволь мне лишь приблизиться к тебе.
И капелькой дождя, волос твоих коснуться.
И небом отразиться в синеве,
В просторах глаз, с любовью окунуться.
Я нежностью дотронусь губ твоих.
Молчанием души, на струнах век играя.
Сольются ароматы нас двоих,
Весну с любовью в косы заплетая.
Теплом июля, лепестками роз,
Нечаянно укрою твои плечи.
Укутывая шелестом берез,
Лаская грудь, глаза закроет вечер.
Огнем желаний, пробежит озноб.
Волну запретов для меня снимая.
Желанный поцелуй у основанья ног,
Откроет главный вход, в твои просторы рая.
Сорвется шторм, торнадо, ураган!
Потоки страсти, лавы раскаленной.
Отдав все силы, упаду к твоим ногам,
Ковром цветов, навек в тебя влюбленный!
Так и хочется снять с тебя платье
Так и хочется снять с тебя платье!
И тонуть в глубине синих глаз.
Заковать твое тело в объятие.
Ну и пусть, что уже седовлас!
Сердце будет в неровности биться.
И дыханье совсем невпопад.
Я хочу твоим телом напиться.
И тебя осчастливить я рад.
Я вдохну твои запахи тела.
И косы переплёт распущу.
Я все сделаю, как ты хотела,
И тебя до утра не пущу.
Пусть лукавит Луна до рассвета,
К нам в окошко бросая свой лик.
Нам не нужно чужого совета,
Мы на вечность продлим этот миг!
Так и хочется снять с тебя платье!
Целовать тебя тысячи раз!
Я готов за тебя на распятье!
Ну и пусть, что уже седовлас!
Пусть любовь тебе приснится
Там за лесом, за горой.
Где берет река начало.
Как-то раз ночной порой,
Вдруг Любовь заночевала!
Из цветочных лепестков,
Взбила легкую перину.
Одеялом мотыльков,
Разукрасила картину.
Купол звездной тишины,
С фонарем Луны небесной,
Для Любви они важны.
Им всегда найдется место.
Чистой девственной росой,
Перед сном лицо умыла.
И с распущенной косой,
Глазки радости закрыла.
Аромат волшебных трав,
Шелест ласковой волны.
Колдовством запеленав,
Погрузили её в сны!
От усталости она,
В Райском ложе растворится.
И под утро в ярких снах,
Пусть Любовь тебе приснится!!!
«Эх, да как бы пролететь…»
Эх, да как бы пролететь,
Мне душой по небу?
Да босым… по облакам,
Досыта побегать!
И вдохнуть во все меха,
Этакую волю.
И лететь, стрелой когда,
Расцветает поле.
Улыбнуться, закричать!
Под раскаты грома.
И затихнуть, помолчать…
Вспомнить всех знакомых.
И еще раз в небеса…
К Солнцу, да в объятья!
Да чтоб смертушки коса,
Не достала братья!
И почувствовать крылом,
Счастье до забвенья!
И парить, парить Орлом,
В Царстве озаренья!
Только где ж их братцы взять,
Мне такие крылья.
Чтобы сказку хоть на миг,
Сделать дивной былью?
Сладкий плен
Я в твоем плену!
В твоих глазах тону.
И понимаю, что теперь,
Люблю тебя одну.
Мне не хватает слов.
Мой Ангел нежных снов.
Тебе одной весь мир,
Отдать готов.
Я принимаю сладкий плен!
Я у Божественных колен.
Я брошу мир к твоим ногам.
И ни кому, тебя я не отдам!
С тобой по небесам.
По сказочным мирам.
Плывем на нашем корабле,
К далёким берегам!
Два Ангела в пути!
Звезда любви свети!
Храни её Господь!
Любовь лети!
«Стихи как мысли, а мысли как женщины…»
Стихи как мысли, а мысли как женщины.
Одни раскисли, другие блаженственны!
Одни срываются, другие милуются.
Одни сплетаются, другие волнуются.
На грани ярости, бывает мыслей рой!
Бывают радости, у женщины порой.
Одни взывают страх, другие в пляс идут.
Одни вздыхают «Ах»! Другие в бой ведут!
С годами вкус вина, дороже ценится.
Который год одна! Другие женится!
Одни стараются, другие невпопад.
Одни цепляются, другие сразу в «Ад»!
Отрезок времени, минута сладости.
Баулы бремени, любовь и слабости.
Одни о вечности, другие в жар огня.
Одни в беспечности, другим вся жизнь фигня!
«Ты думаешь, что ты такой один?»
Ты думаешь, что ты такой один?
Да брось ты. Посмотри по сторонам.
Вон, видишь там угрюмый гражданин.
Он душу рвет по памятным местам.
А там, в углу, за столиком в кафе,
Присела женщина, ей чуть за пятьдесят.
И хоть она немного под шафе,
Но все равно глаза её грустят.
А вот старушка входит в магазин,
Стараясь дверь тяжелую открыть.
Опять подняли цены на бензин,
Ей молока сегодня не купить!
Сиреной неотложка пронеслась,
Не замечая красный светофор.
Быть может, где то жизнь оборвалась,
Остановилась, всем наперекор.
Вот в парке девушка присела под навес.
Она сидит и тихо грустно плачет.
Звонит и отправляет СМС,
«Прости меня» – а это много значит!
Промчал мальчишка лихо на доске…
Перед девчонками. Он думал это круто.
Разбил коленку, он теперь в тоске.
А девочки сказали… это глупо!
А ты твердишь, что всё тебе не так.
Что нет удачи. Радости. Успеха.
Что ты не можешь с этой жизнью в такт,
В одном вагоне вместе дружно ехать.
Остановись и в душу загляни.
Быть может с ней тебе договориться?
Ты доброту свою, для всех людей дари…
Тогда взлетишь на небо белой птицей!
«Устало женщина смотрела…»
Устало женщина смотрела,
Сквозь тушь ресниц на потолок.
Одной рукой совсем не смело,
Себя лаская между ног.
Другой – сжимала грудь до боли,
Пытаясь в памяти найти,
Фрагмент из жизни дяди Коли,
Когда вступала с ним в интим.
Лазурью красок бороздила,
Гоняя мысли в голове.
И все быстрее теребила,
Места запретные себе.
И вот, казалось бы местечко…
Любви давно минувших дней.
Еще чуть-чуть… и вновь осечка!
Сыграла злую шутку с ней.
Поймать пытаясь сцену снова,
Со стоном выдохнув «давай»!
Уже примерно полвторого,
Взорвалось имя «Николай»!
И распластавшись на постели,
Закрыв уставшие глаза,
Не чуя запахов «Шанели»,
Пред ней предстали «Образа»!
В углу, во всей красе духовной,
В мундире царствия небес,
Царь «Николай» стоял безмолвный,
С «Державою» наперевес.
И сдвинув брови самодержец,
Свой «Скипетр» подняв на миг…
Пронзил ее, как громовержец…
И женщина зашлась на крик!
Что было сил, она крестилась…
Рукою той, что только что,
Минуты радости добилась,
Лаская в теле кое-что!
Кресты раскладывала точно,
Со лба до низа живота.
Но Бог ее лишил досрочно,
Инсультом в Рай закрыв «Врата»!
«Я сегодня целовал женщину, без совести…»
Я сегодня целовал женщину, без совести.
Без запретов для себя, получая хмель.
Я сегодня целовал женщину из повести,
Мирозданной красоты, с запахом «шанель».
Разбивало сердце в дробь, такт не выразительный.
Надвигая на лицо, первозданный стыд.
Перешагивая грань жизни разделительной,
Я её поцеловал, нарушая быт.
Все запреты позади, лишь глаза туманные.
И оковы без ключа, канули в лета.
Я сегодня целовал женщину желанную.
А вчера ещё во мне, лишь была мечта.
Параллельные миры, все ж пересекаются.
И течет поток любви – времени река.
Строки нежности в стихи медленно сплетаются.
Помнит чести поцелуй, женская рука!
До восьмых петухов
Я тебя за милую, зацелую до страсти.
Силу тела былую, подниму твоей властью.
И с тобой до рассвета, до восьмых петухов,
Нас закружит планета, в вальсе нежных грехов!
Без стыда твои губы, будут радость искать.
А я трепетно буду, их любить и ласкать.
Нас укроет прохлада, покрывалом любви.
Тайна райского сада, и весь мир на двоих.
Полетит незабвенность, покачнётся луна.
Пробежит откровенность, а вокруг тишина.
И блеснёт отраженье, в глубине твоих глаз.
Ты и я, в притяжении…! Как Рубин и Алмаз!
Неподкупность природы, близость двух полюсов.
Бесконечность свободы, и «нельзя» на засов!
Я тебя зацелую, не нажав тормоза.
Ты шепнешь: «Аллилуйя»! И закроешь глаза!
Там, где с неба льются тучи
Еще вчера, была зима. А нынче глянь… Весна ликует!
А завтра лето и за ним, нас осень вечностью чарует!
Там, где с неба льются тучи,
Собирая капли в реки,
Там поток воды могучий,
Жизнь уносит на рассвете.
Мирный, жизненный уклад,
Превращая в страшный ад!
Унося куда-то вдаль…
И дома и магистраль!
И деревья вековые,
И машины легковые!
Все, что встанет на пути…
Тут с природой не шути!
Человек ни царь природы!
Не подвластны ему воды!
Не подвластен и огонь,
Он сильней! Его не тронь!
А еще сильнее ветер,
Он сметает все на свете!
Разрывая в пух и прах
Все, что создано в веках!
Лишь один мороз трескучий!
Сильный! Властный! Хитрый! Жгучий!
Он оставит все как есть.
Он мороз! Ни встать, ни сесть!
Он оставит, не разрушит…
Заморозит наши души!
Их сожмет в своих руках…
Бороздя простор в веках,
По вселенной бесконечной…
Оставляя суть беспечной,
До рожденья новых звёзд,
Где не будет горьких слёз!
Старт возьмёт наверняка,
Жизни новая река!
Частичка вселенной
Постой, не спеши отвечать.
Торопиться не стоит, послушай!
Ложь от правды учись отличать,
А не бей понапрасну «баклуши»!
Твоё тело, всего лишь «ларец»,
Для хранения истины ценной.
Это дом, или даже Дворец!
В нём «Душа», как частичка вселенной!
Беззащитна! Ранима! Чиста!
Обречённая жить в твоём теле.
На Земле её жизнь не проста,
Без родителей жить в колыбели!
А Отец, где-то там далеко.
За молитвами, в Царстве девятом.
Ей добраться туда нелегко.
Там, где Рай, за Иисусом распятым!
И дороги тернист этот путь.
Вдаль ведущий её от порога.
Так природы заложена суть.
Непременно добраться до Бога!
Твоё тело, всего лишь печать!
Для хранения Истины бренной.
Ты обязан за всё отвечать,
Сохраняя частичку Вселенной!
Потаскуха судьба
Потаскуха судьба, неуёмная «блядь»,
Моё тело в конец истрепала.
Только телу всё чудится водная гладь,
Чистой совести, жизни начало.
Где душе без причалов, есть вольный разлив.
Без запретов и прочих пороков.
Но твердит мне судьба, что я очень блудлив,
И готовит мне много уроков.
Бесконечные пьянки, позор и разврат.
Ложь, тщеславие, прочие узы.
А душа всё ни как не найдёт Божьих Врат,
И не встретит ни как вечной музы.
Чтобы с ней улететь, далеко-далеко,
Заплетая в разливах сонеты.
Но судьба с придыханьем на ухо легко,
Шепчет мне колдовские советы.
Брось томиться и думать, живи и гуляй.
Жизнь такая красивая штука!
Я иду за судьбой, а душа ищет Рай!
Обречённая вечная мука.
Так и мечется тело, сгорая в огне,
А душа задыхается в муках!
Потаскуха судьба, напророчила мне,
Жить страданием в горьких разлуках!
Расслабляюсь…
Расслабляюсь…
Расслабляюсь…
Расслабляюсь.
Не свалились бы с меня совсем штаны…
Расслабляясь очень сильно – я валяюсь.
Я опять не убежал от сатаны!
Я хотел вчера расслабить душу,
Только помню, что немного перебрав,
На всю улицу кричал: – Я еду к «Бушу»,
Чтоб сказать, что он совсем не прав!
Дальше… правда, ничего не помню,
Чем закончились мои слова?
Жаль пиджак был сильно залит кровью,
Да пробита трижды голова.
Вот теперь лежу и расслабляюсь…
Слава богу, что еще я жив.
На больничной койке я валяюсь,
Без штанов, такое пережив!
Реке «Катунь»
Прости Коварная Катунь!
За то, что седой, как «Лунь»,
Ночной порой из под небес
Лечу с тоской на перевес.
И здесь у глади серебра,
Ищу душе своей добра.
Внимая рокот горных вод,
Встречаю утренний восход.
Прошу прощенья у реки!
Твои целуя родники,
Я пью из них любовь Земли,
Чтобы во мне всегда цвели,
Здоровье, щедрость и любовь.
Чтобы во мне струилась кровь,
Как воды вешние твои.
Тебе шепчу слова свои:
Моя Коварная Катунь,
Не будет золотом латунь
Без этих малых родников,
И я к тебе всегда готов
Лететь стрелой из-под небес,
В бурлящих водах словно бес,
Испить энергию твою.
О, как же я тебя люблю,
Катунь коварная моя,
В каких бы не был я краях,
Мне память лижут родники
Моей красавице реки.
Молюсь во имя Ваших благ
Порыв без умственных желаний,
И жжение сердца в глубине…,
И боль! И счастье ожиданий,
Живут незыблемо во мне.
Глотая реплики – внимаю.
Сквозь опыт главное делю.
Частицы правды выделяю
И ядра на двое колю.
Оставшееся, по не многу
Сжимаю бережно в кулак.
И темной ночью, тихо богу
Молюсь, во имя Ваших благ!
Прости им Отче грех Великий!
Дай им возможности прозреть.
За свой народ молюсь, безликий…
Ему бы зреть ещё и зреть.
Сжимая истину в ладонях,
Как домик карточный – боюсь.
Дрожу и мучаюсь в агониях,
И за людей земных молюсь!
Рождает небо звезд свеченье.
Рожает мать своё дитя,
Рожает в страсти и мучениях,
Согласно правил бытия!
Прошу: Слепой – да пусть узреет!
Глухой, пусть слышит камертон!
Больной пусть встанет и не тлеет!
Здоровый пусть услышит стон!
Я верю в то и точно знаю.
Без веры нам ни как нельзя.
Надежда веру окрыляет!
Любовь рождает жизнь, друзья!
По степи бескрайней
По степи без крайней, по дороге белой.
Еду я на тройке, еду я не смело.
Колокольчик звонкий, душу мне дурманит.
И тоска злодейка, моё сердце ранит.
Мне бы продержаться, под морозом жгучим.
От него укрыться, снегом не колючим.
Только щиплет пальцы, мне мороз жестокий.
И стучится в душу, дьявол одинокий.
Кони вороные, помогите братцы,
До заката солнца, мне домой добраться.
Ой не подведите, иль не будет толку.
Нам бы не замерзнуть, не достаться волку!
По степи без крайней, по дороге белой.
Еду я на тройке, еду я не смело.
Колокольчик звонкий, душу мне дурманит.
И тоска злодейка, моё сердце ранит.
Ах, какая благодать
Я счастлив тем, что неба синева! Колышет ветер Ивы и Березы…
Им радуюсь, не утирая слезы… И тем живет, и сердце и душа!
Ах, какая благодать,
Флаг Российский поднимать!
И от всей души знакомых,
С Первомаем поздравлять!
Солнце светит свысока.
Тычет в телефон рука.
СМСки отправляет,
Только слышен звук гудка.
Ручеёк в траве журчит.
Птичка нам с небес кричит.
На природе с шашлыками,
У пруда народ торчит!
Где-то в воду прыгнул мяч.
Разлетелся детский плач.
Все как в прошлой жизни было,
Когда флагом был «Кумач».
У народа Солидарность.
Богу в небо благодарность.
И не дай ему, чтоб нами…
Управляла бы бездарность!
Нам бы так, чтобы светло.
Нежность, ласка и тепло!
Да чтоб жизни не мешали,
И с доходом ремесло!
А сегодня Первомай!
Где-то слышно «наливай»!
То Весна стучит в окошко…
Эй, народ! Весну встречай!
Карта сайта
|
Великий Гэтсби: Глава 5
Когда я вернулся домой в Уэст-Эгг той ночью, я на мгновение испугался, что мой дом горит. Два часа дня, и весь угол полуострова сиял светом, который нереально падал на кусты и отбрасывал тонкие продолговатые блики на придорожные провода. Свернув за угол, я увидел, что это был дом Гэтсби, освещенный от башни до подвала.
Два часа дня, и весь угол полуострова сиял светом, который нереально падал на кусты и отбрасывал тонкие продолговатые блики на придорожные провода. Свернув за угол, я увидел, что это был дом Гэтсби, освещенный от башни до подвала.
Сначала я подумал, что это очередная вечеринка, дикое бегство, которое превратилось в «прятки» или «сардины в коробке», когда весь дом открыт для игры. Но не было ни звука. Только ветер в деревьях рвал провода и заставлял свет то гаснуть, то снова загораться, как будто дом мигнул в темноте. Когда мое такси застонало, я увидел, что Гэтсби идет ко мне по лужайке.
«Ваше заведение похоже на мировую ярмарку», — сказал я.
«Да?» Он рассеянно посмотрел на него. — Я заглянул в некоторые комнаты. Поедем на Кони-Айленд, старина. На моей машине.
«Слишком поздно.»
«Ну что, окунемся в бассейн? Я им не пользовался все лето.»
«Мне пора спать.»
«Хорошо.»
Он ждал, глядя на меня со скрытым рвением.
«Я говорил с мисс Бейкер», сказал я через мгновение. — Завтра я позвоню Дейзи и приглашу ее сюда на чай.
— Завтра я позвоню Дейзи и приглашу ее сюда на чай.
— О, все в порядке, — небрежно сказал он. — Я не хочу доставлять тебе неприятностей.
«Какой день тебе подходит?»
«Какой день подойдет вам ?» он быстро поправил меня. — Видишь ли, я не хочу доставлять тебе неприятностей.
«Как насчет послезавтра?» Он задумался на мгновение. Затем с неохотой:
«Я хочу подстричь траву», — сказал он.
Мы оба смотрели на траву — там, где кончалась моя рваная лужайка и начиналась более темная, ухоженная его лужайка, была резкая линия. Я подозревал, что он имел в виду мою траву.
«Есть еще одна мелочь», сказал он неуверенно и помедлил.
«Не могли бы вы отложить это на несколько дней?» Я спросил.
— О, дело не в этом. По крайней мере… — Он возился с рядом начал. «Почему, — подумал я, — послушайте, старина, вы мало зарабатываете, не так ли?»
«Не очень.»
Это, казалось, успокоило его, и он продолжил более уверенно.
— А я думал, что нет, простите меня… понимаете, я занимаюсь небольшим бизнесом на стороне, своего рода побочным делом, понимаете. И я подумал, что если вы не будете очень много зарабатывать — Ты ведь торгуешь облигациями, старина?
«Пытаюсь.»
«Ну, это вас заинтересует. Это не займет у вас много времени, и вы можете получить неплохую сумму денег. Дело довольно конфиденциальное».
Теперь я понимаю, что при других обстоятельствах этот разговор мог бы стать одним из кризисов в моей жизни. Но так как предложение было очевидно и бестактно для оказания услуги, у меня не было другого выбора, кроме как прервать его на этом.
«У меня полно дел», — сказал я. «Я очень обязан, но больше не могу браться за работу».
«Вам не нужно иметь никаких дел с Вольфшим.» Очевидно, он подумал, что я уклоняюсь от упомянутого за обедом «gonnegtion», но я заверил его, что он ошибается. Он подождал еще немного, надеясь, что я начну разговор, но я был слишком поглощен, чтобы отвечать, поэтому он неохотно пошел домой.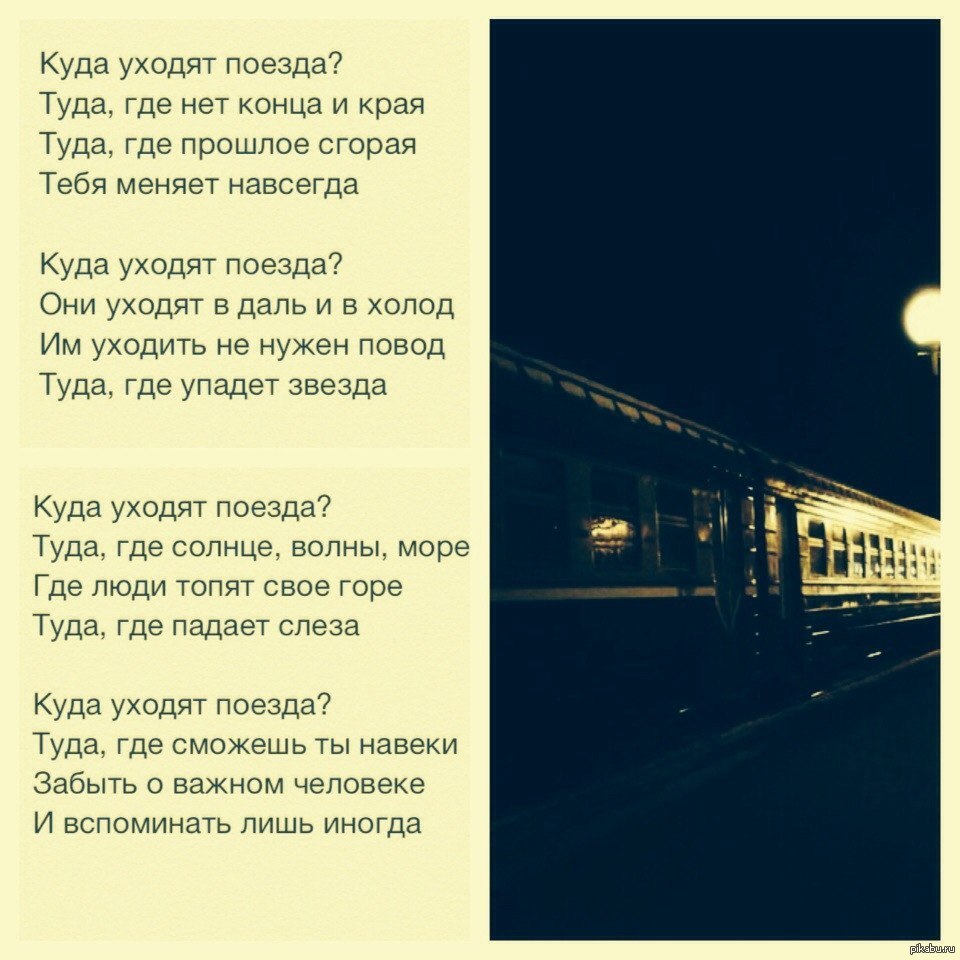
Вечер сделал меня легкомысленным и счастливым; Я думаю, что я погрузился в глубокий сон, когда я вошел в свою парадную дверь. Так что я не знал, был ли Гэтсби на Кони-Айленде или нет, и сколько часов он «заглядывал в комнаты», пока его дом безвкусно пылал. На следующее утро я позвонил Дейзи из офиса и пригласил ее на чай.
«Тома не бери», — предупредил я ее.
«Что?»
«Тома не бери».
«Кто такой «Том»?» — невинно спросила она.
В назначенный день шел проливной дождь. В одиннадцать часов человек в плаще с газонокосилкой постучал в мою дверь и сказал, что мистер Гэтсби послал его подстричь мою траву. Это напомнило мне, что я забыл сказать моей финке, чтобы она вернулась, поэтому я поехал в Уэст-Эгг-Виллидж, чтобы найти ее среди сырых выбеленных улочек и купить несколько чашек, лимонов и цветов.
В цветах не было нужды, потому что в два часа от Гэтсби прибыла оранжерея с бесчисленными сосудами для ее содержания. Через час входная дверь нервно отворилась, и вошел Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебряной рубашке и золотом галстуке. Он был бледен, и под его глазами виднелись темные следы бессонницы.
Он был бледен, и под его глазами виднелись темные следы бессонницы.
«Все в порядке?» — сразу спросил он.
«Трава выглядит прекрасно, если ты это имеешь в виду.»
«Какая трава?» — безразлично спросил он. «Ой, трава во дворе». Он посмотрел на нее в окно, но, судя по выражению его лица, я не верю, что он что-то видел.
— Выглядит очень хорошо, — неопределенно заметил он. «Одна из газет написала, что, по их мнению, дождь прекратится около четырех. Кажется, это была «Журнал». У вас есть все, что вам нужно, в виде… чая?
Я отвел его в кладовку, где он немного укоризненно посмотрел на финна. Вместе мы осмотрели двенадцать лимонных пирожных из магазина деликатесов.
«Подойдут?» Я спросил.
«Конечно, конечно! Они в порядке!» и он добавил глухо, «… старая забава.»
Около половины четвертого дождь остыл до влажного тумана, сквозь который редкие тонкие капли плавали, как роса. Гэтсби смотрел пустыми глазами в экземпляр «Экономики» Клея, начиная с финской поступи, от которой сотрясался кухонный пол, и время от времени поглядывая на запотевшие окна, как будто снаружи происходила череда невидимых, но тревожных событий. Наконец он встал и неуверенным голосом сообщил мне, что идет домой.
Наконец он встал и неуверенным голосом сообщил мне, что идет домой.
«Почему?»
«Никто не придет к чаю. Слишком поздно!» Он посмотрел на часы так, словно его время требовалось где-то в другом месте. «Я не могу ждать весь день».
«Не глупи, сейчас без двух минут четыре.»
Он сел, жалко, как будто я его толкнул, и одновременно раздался звук мотора, выруливающего на мою полосу. Мы оба вскочили, и я, немного ошарашенный, вышел во двор.
Под мокрой голой сиренью подъезжала большая открытая машина. Он остановился. Лицо Дейзи, наклоненное набок под треуголкой бледно-лиловой шляпы, смотрело на меня с яркой восторженной улыбкой.
«Ты точно здесь живешь, мой милый?»
Волнующая рябь ее голоса была диким тоником под дождем. Мне пришлось какое-то время следить за звуком, вверх и вниз, одним ухом, прежде чем до меня донеслись какие-то слова. Влажная прядь волос легла на ее щеку мазком синей краски, а ее рука была мокрой от блестящих капель, когда я взял ее, чтобы помочь ей выйти из машины.
«Ты любишь меня?» сказала она мне на ухо. — Или почему я должен был прийти один?
«Это секрет замка Ракрент. Скажи своему шоферу, чтобы он уехал подальше и провел там час.»
«Приходи через час, Ферди.» Затем серьезным шепотом: «Его зовут Ферди».
«Бензин влияет на его нос?»
«Я так не думаю», сказала она невинно. «Почему?»
Мы вошли. К моему огромному удивлению, в гостиной никого не было.
«Ну, смешно!» — воскликнул я.
«Что смешного?»
Она повернула голову, когда в дверь постучали с достоинством. Я вышел и открыл его. Гэтсби, бледный как смерть, с руками, засунутыми, как гири, в карманы пальто, стоял в луже воды и трагически смотрел мне в глаза.
Все еще с руками в карманах пальто, он прокрался мимо меня в холл, резко повернулся, как на проволоке, и исчез в гостиной. Это было не смешно. Осознавая громкое биение собственного сердца, я закрыла дверь, чтобы защититься от усиливающегося дождя.
Полминуты не было ни звука. Затем из гостиной до меня донесся какой-то сдавленный шепот и часть смеха, за которым последовал голос Дейзи на чистой искусственной ноте.
Затем из гостиной до меня донесся какой-то сдавленный шепот и часть смеха, за которым последовал голос Дейзи на чистой искусственной ноте.
«Конечно, я ужасно рад снова вас видеть.»
Пауза; ужасно терпел. В коридоре мне делать было нечего, и я пошел в комнату.
Гэтсби, все еще засунув руки в карманы, откинулся на спинку камина в натянутой подделке совершенной непринужденности, даже скуки. Голова его была откинута назад так далеко, что прислонилась к циферблату старых каминных часов, и из этого положения его обезумевшие глаза смотрели вниз на Дейзи, которая испуганно, но грациозно сидела на краешке жесткого стула.
— Мы уже встречались раньше, — пробормотал Гэтсби. Его глаза на мгновение взглянули на меня, а губы раскрылись в безуспешной попытке рассмеяться. К счастью, в этот момент часы опасно наклонились под давлением его головы, после чего он повернулся, поймал их дрожащими пальцами и вернул на место. Затем он сел, недвижно, положив локоть на подлокотник дивана и подперев подбородок рукой.
«Извините за часы», сказал он.
Мое собственное лицо приобрело глубокий тропический ожог. Я не мог собрать в голове ни одной банальности из тысячи.
«Это старые часы», — сказал я им по-идиотски.
Думаю, на мгновение мы все поверили, что он разлетелся на куски об пол.
«Мы не встречались много лет,» сказала Дейзи, ее голос был настолько обыденным, насколько это возможно.
«Пять лет в следующем ноябре.»
Автоматическое качество ответа Гэтсби отбросило нас всех как минимум еще на минуту назад. Я заставил их обоих вскочить на ноги с отчаянным предложением помочь мне приготовить чай на кухне, когда бесноватый Финн принес его на подносе.
Среди желанной путаницы чашек и пирожных установилась определенная физическая порядочность. Гэтсби спрятался в тени и, пока мы с Дейзи разговаривали, добросовестно переводил взгляд с одного на другого напряженными несчастными глазами. Однако, поскольку спокойствие не было самоцелью, я при первой же возможности извинился и встал на ноги.
«Куда ты идешь?» — встревоженно спросил Гэтсби.
«Я вернусь.»
«Я должен поговорить с вами кое о чем, прежде чем вы уйдете.»
Он бешено последовал за мной на кухню, закрыл дверь и прошептал: «О, Боже!» жалким образом.
«В чем дело?»
«Это ужасная ошибка, — сказал он, качая головой из стороны в сторону, — ужасная, ужасная ошибка».
«Ты просто смущен, вот и все», и, к счастью, я добавил: «Дейзи тоже смущена».
«Она смущена?» — недоверчиво повторил он.
«Так же, как и вы.»
«Не говори так громко.»
— Ты ведешь себя как маленький мальчик, — нетерпеливо выпалила я. — Мало того, ты еще и грубый. Дейзи сидит там совсем одна.
Он поднял руку, чтобы остановить мои слова, посмотрел на меня с незабываемым упреком и, открыв дверь, осторожно вышел в другую комнату.
Я вышел с черного хода — точно так же, как Гэтсби, когда полчаса назад нервно обошел дом, — и побежал к огромному черному сучковатому дереву, масса листьев которого создавала ткань, защищающую от дождя. Снова лил дождь, и мой неровный газон, тщательно выбритый садовником Гэтсби, изобиловал небольшими топкими болотами и доисторическими топями. Из-под дерева не на что было смотреть, кроме огромного дома Гэтсби, так что я смотрел на него, как Кант на колокольню своей церкви, полчаса. Пивовар построил его в самом начале повального увлечения «периодом», десять лет назад, и ходили слухи, что он согласился платить пятилетние налоги за все соседние коттеджи, если владельцы будут крыть свои крыши соломой. Возможно, их отказ выбил сердце из его плана по созданию семьи — он сразу же пришел в упадок. Его дети продали его дом с черным венком на двери. Американцы, хотя иногда и соглашались быть крепостными, всегда упрямо относились к тому, чтобы быть крестьянами.
Снова лил дождь, и мой неровный газон, тщательно выбритый садовником Гэтсби, изобиловал небольшими топкими болотами и доисторическими топями. Из-под дерева не на что было смотреть, кроме огромного дома Гэтсби, так что я смотрел на него, как Кант на колокольню своей церкви, полчаса. Пивовар построил его в самом начале повального увлечения «периодом», десять лет назад, и ходили слухи, что он согласился платить пятилетние налоги за все соседние коттеджи, если владельцы будут крыть свои крыши соломой. Возможно, их отказ выбил сердце из его плана по созданию семьи — он сразу же пришел в упадок. Его дети продали его дом с черным венком на двери. Американцы, хотя иногда и соглашались быть крепостными, всегда упрямо относились к тому, чтобы быть крестьянами.
Через полчаса снова засияло солнце, и машина бакалейщика объехала подъездную аллею Гэтсби с сырьем для обеда его слуг — я был уверен, что он не съест и ложки. Служанка начала открывать верхние окна его дома, на мгновение появилась в каждом и, высунувшись из большого центрального проема, задумчиво сплюнула в сад. Мне пора было вернуться. Пока шел дождь, казалось, что их голоса то и дело нарастают и набухают от порывов эмоций. Но в новой тишине я почувствовал, что тишина наступила и в доме.
Мне пора было вернуться. Пока шел дождь, казалось, что их голоса то и дело нарастают и набухают от порывов эмоций. Но в новой тишине я почувствовал, что тишина наступила и в доме.
Я вошел — после того, как наделал на кухне все возможные звуки, за исключением того, что толкнул плиту, — но я не верю, что они услышали звук. Они сидели по обе стороны дивана и смотрели друг на друга, как будто кто-то задал какой-то вопрос или витал в воздухе, и все следы смущения исчезли. Лицо Дейзи было перемазано слезами, и когда я вошел, она вскочила и стала вытирать его платком перед зеркалом. Но в Гэтсби произошла перемена, которая просто сбивала с толку. Он буквально светился; без слов и жестов ликования новое благополучие исходило от него и наполняло маленькую комнату.
— О, привет, старина, — сказал он так, как будто не видел меня много лет. На мгновение я подумал, что он собирается пожать руку.
«Дождь прекратился.»
«Есть?» Когда он понял, о чем я говорю, что в комнате мерцают солнечные колокольчики, он улыбнулся, как синоптик, как восторженный покровитель возвращающегося света, и пересказал эту новость Дейзи. «Что вы об этом думаете? Дождь прекратился».
«Что вы об этом думаете? Дождь прекратился».
«Я рад, Джей.» Ее горло, полное ноющей, скорбящей красоты, говорило только о ее неожиданной радости.
«Я хочу, чтобы вы с Дейзи пришли ко мне домой, — сказал он, — я хотел бы показать ей окрестности».
«Ты уверен, что хочешь, чтобы я пришел?»
«Абсолютно, старина».
Дейзи поднялась наверх, чтобы умыться — слишком поздно, подумал я с унижением своих полотенец, — пока мы с Гэтсби ждали на лужайке.
«Мой дом выглядит хорошо, не так ли?» — спросил он. «Посмотрите, как вся передняя часть ловит свет».
Я согласился, что это было великолепно.
«Да». Его взгляд прошелся по ней, по каждой арочной двери и квадратной башне. «Мне потребовалось всего три года, чтобы заработать деньги, на которые он был куплен».
«Я думал, ты унаследовал свои деньги.»
— Да, старина, — машинально сказал он, — но большую часть я потерял в большой панике — панике войны.
Думаю, он едва ли понимал, что говорит, потому что, когда я спросил его, чем он занимается, он ответил: «Это мое дело», прежде чем понял, что это был неподходящий ответ.
«О, я был в нескольких вещах,» поправился он. «Я был в наркобизнесе, а потом в нефтяном бизнесе. Но сейчас я не участвую ни в том, ни в другом». Он посмотрел на меня с большим вниманием. — Ты имеешь в виду, что обдумывал то, что я предложил прошлой ночью?
Прежде чем я успел ответить, Дейзи вышла из дома, и два ряда медных пуговиц на ее платье заблестели на солнце.
«Это огромное место там ?» — воскликнула она, указывая.
«Вам нравится?»
«Мне это нравится, но я не понимаю, как ты живешь там совсем один.»
«Я держу его всегда полным интересных людей днем и ночью. Люди, которые делают интересные вещи. Знаменитые люди.»
Вместо того, чтобы срезать путь вдоль пролива, мы пошли по дороге и вошли через большой задний двор. С чарующим шепотом Дейзи любовалась то одним, то другим видом феодального силуэта на фоне неба, восхищалась садами, сверкающим ароматом жонкилей, пенистым ароматом боярышника и цветков сливы, бледно-золотым ароматом «поцелуй меня у ворот». . Странно было дойти до мраморных ступеней и не обнаружить в дверях и за дверью шелеста ярких платьев и не слышать ни звука, кроме птичьего голоса в кронах деревьев.
. Странно было дойти до мраморных ступеней и не обнаружить в дверях и за дверью шелеста ярких платьев и не слышать ни звука, кроме птичьего голоса в кронах деревьев.
А внутри, когда мы бродили по музыкальным залам Марии-Антуанетты и салонам Реставрации, я чувствовал, что за каждым диваном и столом прячутся гости, которым приказали молчать, затаив дыхание, пока мы не пройдем. Когда Гэтсби закрыл дверь «Библиотеки Мертон-колледжа», я мог бы поклясться, что услышал, как человек с совиными глазами разразился призрачным смехом.
Мы поднялись наверх, через старинные спальни, обтянутые шелком розового и бледно-лилового цвета и украшенные новыми цветами, через раздевалки, бильярдные и ванные с утопленными в пол ваннами — вторглись в одну из комнат, где растрепанный мужчина в пижаме делал на полу упражнения для печени. . Это был мистер Клипспрингер, «постоялец». В то утро я видел, как он голодно бродил по пляжу. Наконец мы пришли в собственную квартиру Гэтсби, спальню, ванную и кабинет Адама, где сели и выпили по стакану шартреза, который он достал из шкафа в стене.
Он ни разу не переставал смотреть на Дейзи и, думаю, переоценивал все в своем доме в соответствии с той мерой отклика, которую он вызывал в ее любимых глазах. Иногда он также ошеломленно оглядывал свои вещи, как будто в ее реальном и поразительном присутствии все это уже не было реальным. Однажды он чуть не свалился с лестницы.
Его спальня была самой простой комнатой из всех, за исключением того места, где комод был украшен туалетным набором из чистого матового золота. Дейзи с удовольствием взяла расческу и пригладила волосы, после чего Гэтсби сел, прикрыл глаза и расхохотался.
«Самое смешное, старина», весело сказал он. «Я не могу… когда я пытаюсь…»
Он явно прошел через два состояния и вступал в третье. После своего смущения и беспричинной радости он был поглощен ее присутствием. Он так долго был полон этой идеи, продумывал ее до конца, ждал, так сказать, стиснув зубы, с невообразимым напряжением. Теперь, в ответ, он бежал, как заведенные часы.
Придя в себя через минуту, он открыл для нас два неуклюжих лакированных шкафа, в которых лежали его многочисленные костюмы, халаты, галстуки и рубашки, сложенные, как кирпичи, штабелями по дюжине.
«У меня есть человек в Англии, который покупает мне одежду. В начале каждого сезона, весной и осенью, он присылает мне разные вещи.»
Он вытащил груду рубашек и начал бросать их одну за другой перед нами, рубашки из прозрачного льна, толстого шелка и тонкой фланели, которые потеряли свои складки при падении и покрыли стол разноцветным беспорядком. Пока мы восхищались, он принес еще, и мягкая богатая куча поднялась выше: рубашки в полоску, с завитками и в шотландскую клетку кораллового, яблочно-зеленого, лавандового и бледно-оранжевого цвета с монограммами индийской лазури. Внезапно с натужным звуком Дейзи сунула голову в рубашки и начала бурно плакать.
— Какие красивые рубашки, — всхлипнула она, ее голос заглушался густыми складками. «Мне грустно, потому что я никогда раньше не видела таких… таких красивых рубашек».
После дома мы должны были осмотреть территорию и бассейн, и гидросамолет, и летние цветы — но за окном Гэтсби снова пошел дождь, поэтому мы стояли в ряд, глядя на волнистую поверхность Саунда. .
.
«Если бы не туман, мы могли бы увидеть ваш дом через залив», — сказал Гэтсби. «У вас всегда есть зеленый свет, который горит всю ночь в конце вашего причала».
Дейзи резко взяла его под руку, но он, казалось, был поглощен тем, что только что сказал. Возможно, ему пришло в голову, что колоссальное значение этого света теперь исчезло навсегда. По сравнению с огромным расстоянием, отделявшим его от Дэзи, оно казалось ей очень близким, почти касаясь ее. Он казался таким же близким, как звезда к луне. Теперь снова загорелся зеленый свет на пристани. Его количество зачарованных предметов уменьшилось на один.
Я стал ходить по комнате, разглядывая в полумраке разные неопределенные предметы. Меня привлекла большая фотография пожилого мужчины в костюме яхтсмена, висевшая на стене над его столом.
«Кто это?»
«Это? Это мистер Дэн Коди, старина».
Имя показалось слегка знакомым.
«Теперь он мертв. Много лет назад он был моим лучшим другом. »
»
На комоде висела маленькая фотография Гэтсби, тоже в костюме яхтсмена — Гэтсби с вызывающе запрокинутой головой — сделанная, очевидно, когда ему было около восемнадцати.
«Обожаю!» — воскликнула Дейзи. — Помпадур! Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть помпадур или яхта.
«Посмотрите на это,» быстро сказал Гэтсби. «Здесь много вырезок — о вас».
Они стояли рядом, рассматривая его. Я собирался попросить показать рубины, когда зазвонил телефон, и Гэтсби взял трубку.
«Да… Ну, я не могу сейчас говорить… Я не могу сейчас говорить, старина… Я сказал маленький городок… Он должен знать, какой маленький город… Ну, он нам ни к чему, если Детройт — это его представление о маленьком городке…
Он повесил трубку.
«Иди сюда быстро !» крикнула Дейзи в окно.
Дождь еще шел, но тьма на западе рассеялась, и над морем поднялся розово-золотой вал пенистых облаков.
«Посмотри на это», — прошептала она, а затем через мгновение: «Я бы хотела взять одно из этих розовых облаков, поместить тебя в него и толкать».
Я тогда пытался уйти, но они и слышать не хотели; возможно, мое присутствие заставило их чувствовать себя более комфортно в одиночестве.
«Я знаю, что мы будем делать, — сказал Гэтсби, — мы заставим Клипспрингера играть на пианино».
Он вышел из комнаты с криком «Юинг!» и вернулся через несколько минут в сопровождении смущенного, слегка потрепанного молодого человека в очках в ракушечной оправе и с редкими светлыми волосами. Теперь он был прилично одет в расстегнутую у шеи «спортивную рубашку», кроссовки и утиные брюки туманного оттенка.
«Мы прервали ваши упражнения?» вежливо спросила Дейзи.
«Я спал,» воскликнул г-н Клипспрингер, в судороге смущения. — То есть я бы спал . Потом встал…
— Клипспрингер играет на пианино, — перебил его Гэтсби. «Не так ли, Юинг, старина?»
«Я плохо играю. Я не… я почти не играю. Я совсем не умею…»
«Мы спустимся вниз», прервал его Гэтсби. Он щелкнул выключателем. Серые окна исчезли, когда дом засиял ярким светом.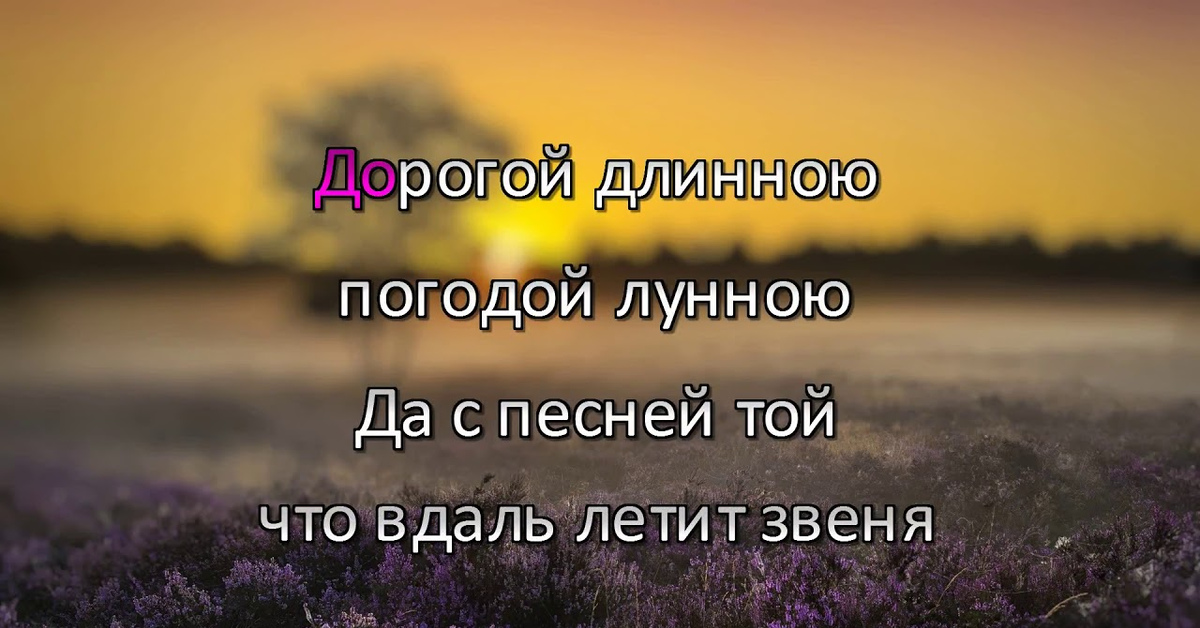
В музыкальной комнате Гэтсби зажег единственную лампу рядом с пианино. Он зажег сигарету Дейзи от дрожащей спички и сел с ней на кушетку в конце комнаты, где не было света, кроме того, что отражался от блестящего пола из холла.
Когда Клипспрингер сыграл «Гнездо любви», он повернулся на скамейке и с несчастным видом стал искать Гэтсби во мраке.
«Понимаешь, у меня совсем нет практики. Я говорил тебе, что не могу играть. У меня совсем нет практики…»
«Не болтай так много, старина», — скомандовал Гэтсби. «Играть!»
Утром,
Вечером,
Разве нам не весело —
Снаружи дул сильный ветер, и по Зунду доносились слабые раскаты грома. Теперь в Вест-Эгге горели все огни; электрички с людьми мчались домой под дождем из Нью-Йорка. Это был час глубокой человеческой перемены, и в эфире рождалось волнение.
Одно можно сказать наверняка, и нет ничего более надежного
Богатые становятся еще богаче, а бедные — детьми.
Тем временем,
Между —
Когда я подошел попрощаться, я увидел, что выражение недоумения вернулось на лицо Гэтсби, как будто у него появилось легкое сомнение относительно качества его подарка счастье. Почти пять лет! Должно быть, даже в тот день были моменты, когда Дейзи не сбылась в его мечтах — не по своей вине, а из-за колоссальной живучести его иллюзии. Он вышел за ее пределы, за пределы всего. Он бросился в нее с творческой страстью, все время добавляя к ней, украшая ее каждым ярким перышком, падавшим на его пути. Никакое количество огня или свежести не может бросить вызов тому, что человек хранит в своем призрачном сердце.
Пока я наблюдал за ним, он заметно поправился. Его рука взяла ее за руку, и когда она сказала что-то тихо ему на ухо, он повернулся к ней с приливом эмоций. Я думаю, что этот голос больше всего пленил его своей изменчивой, лихорадочной теплотой, потому что его нельзя было переубедить — этот голос был бессмертной песней.
Они забыли меня, но Дейзи подняла глаза и протянула руку; Гэтсби совсем меня не знал. Я еще раз взглянул на них, и они отстраненно посмотрели на меня, одержимые напряженной жизнью. Затем я вышел из комнаты и спустился по мраморным ступеням под дождь, оставив их там вдвоем.
Я еще раз взглянул на них, и они отстраненно посмотрели на меня, одержимые напряженной жизнью. Затем я вышел из комнаты и спустился по мраморным ступеням под дождь, оставив их там вдвоем.
Великий Гэтсби. Глава 8
Я не мог спать всю ночь; туманный рожок беспрестанно стонал на Звуке, и я, полубольной, метался между гротескной реальностью и дикими пугающими снами. Ближе к рассвету я услышал, как по подъездной аллее Гэтсби подъехало такси, и тут же вскочил с постели и начал одеваться — я чувствовал, что мне есть что ему сказать, о чем его предупредить, а утром будет поздно.
Пересекая лужайку, я увидел, что его входная дверь все еще открыта, а он стоит, прислонившись к столу в холле, отяжелевший от уныния или сна.
«Ничего не произошло», — сказал он вяло. «Я ждал, и около четырех часов она подошла к окну и постояла там с минуту, а затем выключила свет».
Его дом никогда не казался мне таким огромным, как в ту ночь, когда мы рыскали по большим комнатам в поисках сигарет. Мы отодвинули занавески, похожие на павильоны, и ощупали бесчисленные футы темной стены в поисках электрических выключателей — однажды я с плеском упал на клавиши призрачного рояля. Повсюду было необъяснимое количество пыли, а комнаты были затхлые, как будто их не проветривали много дней. Я нашел хьюмидор на незнакомом столе с двумя засохшими сигаретами внутри. Распахнув французские окна гостиной, мы сидели и курили в темноте.
Мы отодвинули занавески, похожие на павильоны, и ощупали бесчисленные футы темной стены в поисках электрических выключателей — однажды я с плеском упал на клавиши призрачного рояля. Повсюду было необъяснимое количество пыли, а комнаты были затхлые, как будто их не проветривали много дней. Я нашел хьюмидор на незнакомом столе с двумя засохшими сигаретами внутри. Распахнув французские окна гостиной, мы сидели и курили в темноте.
«Ты должен уйти», сказал я. — Почти наверняка они выследят вашу машину.
«Уходи теперь , старина?»
«Съездить на неделю в Атлантик-Сити или до Монреаля.»
Он бы не подумал. Он не мог оставить Дейзи, пока не узнал, что она собирается делать. Он цеплялся за какую-то последнюю надежду, и я не мог высвободить его.
Именно этой ночью он рассказал мне странную историю своей юности с Дэном Коди — рассказал мне ее, потому что «Джей Гэтсби» разбился, как стекло, от жесткой злобы Тома, и долгая тайная феерия была разыграна. Я думаю, что сейчас он безоговорочно признал бы все, что угодно, но ему хотелось поговорить о Дейзи.
Я думаю, что сейчас он безоговорочно признал бы все, что угодно, но ему хотелось поговорить о Дейзи.
Она была первой «хорошей» девушкой, которую он когда-либо знал. В различных нераскрытых качествах он вступал в контакт с такими людьми, но всегда с неразличимой колючей проволокой между ними. Он нашел ее возбуждающе желанной. Он пошел к ней домой, сначала с другими офицерами из лагеря Тейлор, а затем один. Это поразило его — он никогда раньше не был в таком красивом доме. Но то, что придавало ему затаившую дыхание напряженность, заключалось в том, что здесь жила Дейзи — для нее это было так же обыденно, как для него его палатка в лагере. В нем была зрелая тайна, намек на спальни наверху, более красивые и прохладные, чем другие спальни, на веселые и лучезарные занятия, происходящие в его коридорах, и на романы, которые не были заплесневелыми и ушли уже в лаванду, а были свежими, дышащими и благоухающими. о сияющих автомобилях этого года и о танцах, цветы которых едва увяли. Его взволновало и то, что многие мужчины уже полюбили Дейзи — это повысило ее ценность в его глазах. Он чувствовал их присутствие повсюду в доме, наполняя воздух тенями и отголосками все еще живых эмоций.
Он чувствовал их присутствие повсюду в доме, наполняя воздух тенями и отголосками все еще живых эмоций.
Но он знал, что оказался в доме Дейзи по колоссальной случайности. Каким бы славным ни было его будущее в роли Джея Гэтсби, в настоящее время он был нищим молодым человеком без прошлого, и в любой момент невидимый плащ его мундира мог соскользнуть с его плеч. Поэтому он максимально использовал свое время. Он брал все, что мог, жадно и беспринципно — в конце концов он взял Дейзи одной тихой октябрьской ночью, взял ее, потому что не имел настоящего права прикасаться к ее руке.
Он мог бы презирать себя, потому что он определенно взял ее под ложным предлогом. Я не имею в виду, что он торговал своими фантомными миллионами, но он намеренно дал Дейзи чувство безопасности; он позволил ей поверить, что он человек почти из того же слоя, что и она сама, что он вполне способен позаботиться о ней. На самом деле у него не было таких возможностей — у него не было удобной семьи, стоящей за ним, и он мог по прихоти безличного правительства быть унесенным в любую точку мира.
Но он не презирал себя и получилось не так, как он себе представлял. Вероятно, он собирался взять все, что можно, и уйти, но теперь обнаружил, что посвятил себя следованию за Граалем. Он знал, что Дейзи была экстраординарной, но не осознавал, насколько экстраординарной может быть «хорошая» девушка. Она исчезла в своем богатом доме, в своей богатой, полной жизни, оставив Гэтсби — ничего. Он чувствовал себя женатым на ней, вот и все.
Когда они снова встретились через два дня, это был Гэтсби, который задыхался, которого каким-то образом предали. Ее крыльцо сияло покупной роскошью звездного сияния; плетение дивана модно заскрипело, когда она повернулась к нему, и он поцеловал ее любопытный и прекрасный рот. Она простудилась, и от этого ее голос стал еще более хриплым и чарующим, чем когда-либо, и Гэтсби всецело осознавал юность и тайну, которую богатство заключает в тюрьму и оберегает, свежесть многих одежд и Дейзи, сияющую, как серебро, безопасная и гордая наверху. горячая борьба бедняков.
«Я не могу описать тебе, как я был удивлен, узнав, что люблю ее, старина. Я даже надеялся какое-то время, что она меня бросит, но она не бросила, потому что была влюблена Она думала, что я много знаю, потому что я знаю от нее разные вещи… Ну, вот я, вдали от своих амбиций, с каждой минутой все больше влюбляюсь, и вдруг мне все равно. Какой смысл делать великие дела, если я мог лучше рассказать ей, что я собираюсь сделать?»
В последний день перед отъездом за границу он долго и молча сидел с Дейзи на руках. Это был холодный осенний день с огнем в комнате, и ее щеки раскраснелись. Время от времени она шевелилась, и он немного менял руку, а однажды поцеловал ее темные блестящие волосы. После полудня они ненадолго успокоились, словно дав им глубокое воспоминание о долгой разлуке, обещанной на следующий день. Они никогда не были так близки за месяц своей любви и никогда не общались так глубоко друг с другом, как когда она безмолвно коснулась губами плеча его пальто или когда он коснулся кончиков ее пальцев нежно, как будто она спала.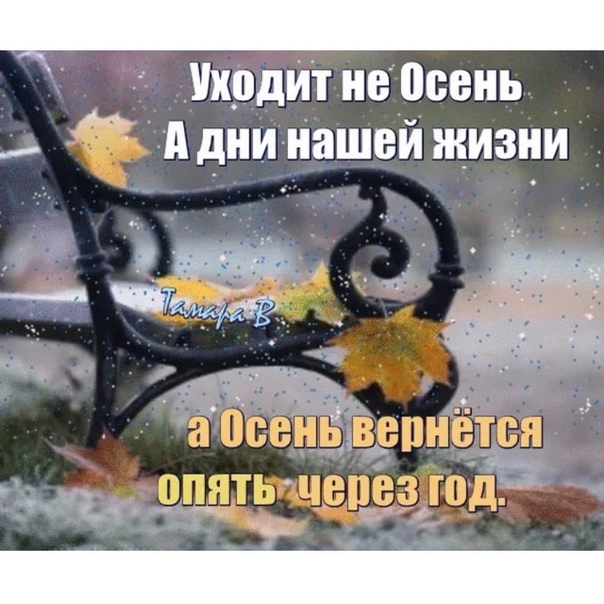
Он отлично проявил себя на войне. Он был капитаном до того, как ушел на фронт, а после аргоннских сражений получил совершеннолетие и командование дивизионными пулеметами. После перемирия он отчаянно пытался вернуться домой, но какое-то осложнение или недоразумение отправили его вместо этого в Оксфорд. Теперь он был встревожен — в письмах Дейзи сквозило нервное отчаяние. Она не понимала, почему он не мог прийти. Она чувствовала давление внешнего мира, и ей хотелось увидеть его, почувствовать его присутствие рядом с собой и убедиться, что она все-таки поступает правильно.
Потому что Дейзи была молода, и ее искусственный мир благоухал орхидеями и приятным, веселым снобизмом и оркестрами, которые задавали ритм года, резюмируя грусть и многозначительность жизни в новых мелодиях. Всю ночь саксофоны выли безнадежный комментарий «Блюз Бил-Стрит», а сотни пар золотых и серебряных тапочек шаркали по блестящей пыли. В серый час чаепития всегда были комнаты, которые непрерывно пульсировали этой низкой сладкой лихорадкой, в то время как свежие лица носились то здесь, то там, как лепестки роз, развеваемые по полу печальными рожками.
Через эту сумеречную вселенную Дейзи снова начала двигаться вместе с сезоном; внезапно она снова устраивала полдюжины свиданий в день с полдюжиной мужчин и засыпала на рассвете, когда бусы и шифон вечернего платья спутались среди умирающих орхидей на полу возле ее кровати. И все это время что-то внутри нее требовало решения. Она хотела, чтобы ее жизнь сложилась сейчас, немедленно — и решение должно было быть принято какой-то силой — любви, денег, бесспорной практичности, — которая была под рукой.
Эта сила сформировалась в середине весны с прибытием Тома Бьюкенена. В его фигуре и в его положении была здоровая громоздкость, и Дейзи была польщена. Несомненно, была определенная борьба и определенное облегчение. Письмо дошло до Гэтсби, когда он еще учился в Оксфорде.
На Лонг-Айленде рассвело, и мы открыли остальные окна внизу, заливая дом серым, золотым мерцающим светом. Тень дерева резко упала на росу, и среди голубых листьев запели призрачные птицы. В воздухе было медленное приятное движение, почти не было ветра, обещавшего прохладный прекрасный день.
«Я не думаю, что она когда-либо любила его.» Гэтсби отвернулся от окна и с вызовом посмотрел на меня. — Ты должен помнить, старина, сегодня днем она была очень взволнована. Он сказал ей все это таким тоном, что она напугала ее, и она выглядела так, будто я какой-то дешевый шулер. говорил.»
Он мрачно сел.
«Конечно, она могла полюбить его, хотя бы на минуту, когда они только поженились, и даже тогда полюбила меня больше, понимаете?»
Внезапно он сделал любопытное замечание:
«В любом случае, — сказал он, — это было просто личное».
Что вы можете сделать из этого, кроме как заподозрить в его концепции дела какую-то интенсивность, которую невозможно измерить?
Он вернулся из Франции, когда Том и Дейзи все еще были в свадебном путешествии, и на последние армейские деньги совершил жалкое, но непреодолимое путешествие в Луисвилл. Он пробыл там неделю, прогуливаясь по улицам, где их шаги стучали вместе в ноябрьскую ночь, и снова посещая отдаленные места, куда они ездили на ее белой машине. Как дом Дэзи всегда казался ему более загадочным и веселым, чем другие дома, так и его представление о самом городе, хотя она и уехала из него, было проникнуто меланхолической красотой.
Как дом Дэзи всегда казался ему более загадочным и веселым, чем другие дома, так и его представление о самом городе, хотя она и уехала из него, было проникнуто меланхолической красотой.
Он ушел с чувством, что, если бы он искал усерднее, он мог бы найти ее — что он оставил ее позади. В дневном экипаже — теперь он был без гроша в кармане — было жарко. Он вышел в открытый вестибюль и сел на складной стул, а станция ускользнула, и задворки незнакомых зданий пронеслись мимо. Потом вышли на весенние поля, где их на минуту промчала желтая тележка с людьми, которые когда-то могли видеть бледное волшебство ее лица на обычной улице.
Тропа изгибалась и теперь удалялась от солнца, которое, опускаясь ниже, казалось, благословляло исчезающий город, где она дышала. Он отчаянно протянул руку, словно желая схватить только глоток воздуха, чтобы сохранить кусочек того места, которое она сделала для него прелестным. Но теперь все это происходило слишком быстро для его затуманенных глаз, и он знал, что потерял эту часть, самую свежую и лучшую, навсегда.
Было девять часов, когда мы позавтракали и вышли на крыльцо. Ночь резко изменила погоду, и в воздухе витал осенний аромат. Садовник, последний из бывших слуг Гэтсби, подошел к подножию лестницы.
«Сегодня я осушу бассейн, мистер Гэтсби. Листья скоро начнут падать, а потом всегда проблемы с трубами.»
— Не делай этого сегодня, — ответил Гэтсби. Он повернулся ко мне извиняющимся тоном. «Знаешь, старина, я ни разу не пользовался этим бассейном все лето?»
Я посмотрел на часы и встал.
«Двенадцать минут до моего поезда.»
Я не хотел идти в город. Я не стоил приличной работы, но дело было не только в том, что я не хотел покидать Гэтсби. Я опоздал на этот поезд, потом на другой, прежде чем успел уйти.
«Я позвоню тебе», сказал я наконец.
«Сделай, старина».
«Я позвоню тебе около полудня.»
Мы медленно спускались по ступенькам.
«Полагаю, Дейзи тоже позвонит.» Он взглянул на меня с тревогой, словно надеялся, что я это подтвержу.
«Полагаю, да.»
«Ну… до свидания».
Мы пожали друг другу руки, и я отправился прочь. Не дойдя до живой изгороди, я кое-что вспомнил и обернулся.
«Они гнилая толпа», крикнул я через лужайку. «Ты стоишь всей этой проклятой кучи вместе взятых».
Я всегда был рад, что сказал это. Это был единственный комплимент, который я когда-либо ему делал, потому что я не одобрял его от начала до конца. Сначала он вежливо кивнул, а потом его лицо расплылось в той лучезарной и понимающей улыбке, как будто мы все время были в экстатическом сговоре по этому поводу. Его великолепный розовый лоскут костюма выделялся ярким пятном на белых ступенях, и я вспомнил ту ночь, когда три месяца назад впервые попал в дом его предков. Лужайка и подъездная дорога были запружены лицами тех, кто догадывался о его испорченности, — и он стоял на этих ступенях, скрывая свою нетленную мечту, махая им на прощание.
Я поблагодарил его за гостеприимство. Мы всегда благодарили его за это — я и другие.
«До свидания», я позвонил. «Я наслаждался завтраком, Гэтсби».
В городе я какое-то время пытался перечислить котировки бесконечного количества акций, потом заснул в своем вертящемся кресле. Незадолго до полудня меня разбудил телефон, и я вздрогнул от пота на лбу. Это был Джордан Бейкер; она часто звонила мне в это время, потому что из-за неопределенности своих собственных перемещений между отелями, клубами и частными домами ее было трудно найти каким-либо другим способом. Обычно ее голос звучал по проводу как что-то свежее и прохладное, как будто в окно кабинета влетела дырка от зеленого гольфа, но сегодня утром он казался резким и сухим.
«Я ушла из дома Дейзи», — сказала она. «Я в Хемпстеде и сегодня днем еду в Саутгемптон».
Вероятно, покинуть дом Дейзи было тактично, но этот поступок меня разозлил, а ее следующее замечание заставило меня напрячься.
«Ты не был так добр ко мне прошлой ночью.»
«Какое это могло иметь значение?»
Мгновение тишины. Затем —
Затем —
«Однако — я хочу тебя видеть».
«Я тоже хочу тебя видеть.»
«А что, если я не поеду в Саутгемптон, а приеду сегодня днем в город?»
«Нет, сегодня днем не думаю.»
«Очень хорошо.»
«Сегодня днем это невозможно. Разное…»
Мы говорили так какое-то время, а потом внезапно замолчали. Я не знаю, кто из нас повесил трубку с резким щелчком, но я знаю, что мне было все равно. Я не смог бы поговорить с ней за чайным столом в тот день, если бы никогда больше не заговорил с ней в этом мире.
Несколько минут спустя я позвонил Гэтсби домой, но линия была занята. Я пытался четыре раза; наконец, раздраженный центральный сказал мне, что провод держится открытым на большом расстоянии от Детройта. Достав расписание, я нарисовал небольшой кружок вокруг поезда в три пятьдесят. Затем я откинулся на спинку стула и попытался подумать. Был только полдень.
Когда я тем утром в поезде проезжал мимо кучи пепла, я намеренно перешел на другую сторону вагона. Я полагаю, что там весь день будет толпа любопытных с маленькими мальчиками, выискивающими темные пятна в пыли, и какой-нибудь болтливый мужчина, снова и снова рассказывающий о том, что произошло, пока это не становилось все менее и менее реальным даже для него, и он не мог сказать, что нет. дольше, и трагическое достижение Миртл Уилсон было забыто. Теперь я хочу вернуться немного назад и рассказать, что произошло в гараже после того, как мы уехали оттуда накануне вечером.
Я полагаю, что там весь день будет толпа любопытных с маленькими мальчиками, выискивающими темные пятна в пыли, и какой-нибудь болтливый мужчина, снова и снова рассказывающий о том, что произошло, пока это не становилось все менее и менее реальным даже для него, и он не мог сказать, что нет. дольше, и трагическое достижение Миртл Уилсон было забыто. Теперь я хочу вернуться немного назад и рассказать, что произошло в гараже после того, как мы уехали оттуда накануне вечером.
Им было трудно найти сестру Кэтрин. Должно быть, в ту ночь она нарушила запрет на выпивку, потому что, когда приехала, была пьяна от спиртного и не могла понять, что скорая помощь уже уехала во Флашинг. Когда они убедили ее в этом, она тут же упала в обморок, как будто это была невыносимая часть дела. Кто-то добрый или любопытный взял ее в свою машину и повез вслед за телом ее сестры.
Вплоть до полуночи меняющаяся толпа лакала перед входом в гараж, в то время как Джордж Уилсон раскачивался взад и вперед на диване внутри. Некоторое время дверь конторы была открыта, и все, кто входил в гараж, неотразимо заглядывали в нее. Наконец кто-то сказал, что это позор, и закрыл дверь. С ним были Михаэлис и еще несколько человек — сначала четверо или пятеро, потом двое или трое. Еще позже Михаэлису пришлось попросить последнего незнакомца подождать еще пятнадцать минут, пока он вернется к себе домой и сварит себе кофе. После этого он оставался там наедине с Уилсоном до рассвета.
Некоторое время дверь конторы была открыта, и все, кто входил в гараж, неотразимо заглядывали в нее. Наконец кто-то сказал, что это позор, и закрыл дверь. С ним были Михаэлис и еще несколько человек — сначала четверо или пятеро, потом двое или трое. Еще позже Михаэлису пришлось попросить последнего незнакомца подождать еще пятнадцать минут, пока он вернется к себе домой и сварит себе кофе. После этого он оставался там наедине с Уилсоном до рассвета.
Около трех часов качество бессвязного бормотания Уилсона изменилось — он стал тише и начал говорить о желтой машине. Он объявил, что у него есть способ узнать, кому принадлежит желтая машина, а потом выпалил, что пару месяцев назад его жена приехала из города с синяками на лице и распухшим носом.
Но когда он услышал свои слова, он вздрогнул и закричал: «О, Боже мой!» снова своим стонущим голосом. Михаэлис сделал неуклюжую попытку отвлечь его.
«Как давно ты женат, Джордж? Подойди сюда, посиди спокойно и ответь на мой вопрос. Как давно ты женат?»
Как давно ты женат?»
«Двенадцать лет».
«Были ли когда-нибудь дети? Да ладно, Джордж, посиди смирно — я задал тебе вопрос. У тебя когда-нибудь были дети?»
Твердые коричневые жуки продолжали стучать в тусклом свете, и всякий раз, когда Михаэлис слышал, как машина неслась по дороге снаружи, это звучало так, будто машина не остановилась несколько часов назад. Ему не нравилось заходить в гараж, потому что верстак на том месте, где лежало тело, был в пятнах, так что ему было некомфортно передвигаться по офису — он знал в нем каждый предмет еще до утра — и время от времени садился рядом с Уилсоном, пытаясь заставь его потише.
«У тебя есть церковь, в которую ты иногда ходишь, Джордж? Может быть, даже если ты давно там не был? Может быть, я могу позвонить в церковь и вызвать священника, и он сможет поговорить с тобой, видеть?»
«Не принадлежит никому.»
«Тебе нужна церковь, Джордж, в такие времена. Ты, должно быть, когда-то ходил в церковь. Разве ты не венчался в церкви? Послушай, Джордж, послушай меня. Разве ты не венчался в Церковь?»
Разве ты не венчался в Церковь?»
«Это было давно.»
Попытка ответить нарушила ритм его качания — на мгновение он замолчал. Потом в его потускневшие глаза вернулось то же полузнающее, полурастерянное выражение.
«Посмотри вон там в ящике», сказал он, указывая на стол.
«Какой ящик?»
«Вот ящик… вон тот.»
Михаэлис открыл ближайший к его руке ящик. В нем не было ничего, кроме маленького дорогого собачьего поводка из кожи и серебряного плетения. Он был видимо новым.
«Это?» — спросил он, поднимая его.
Уилсон уставился на него и кивнул.
«Я нашел его вчера днем. Она пыталась мне об этом рассказать, но я знал, что это что-то смешное.»
«Вы имеете в виду, что это купила ваша жена?»
«Она положила его в папиросную бумагу на бюро.»
Михаэлис не увидел в этом ничего странного и привел Уилсону дюжину причин, по которым его жена могла купить собачий поводок. Но, возможно, Уилсон слышал некоторые из этих объяснений раньше от Миртл, потому что он начал говорить: «О, Боже мой!» опять шепотом — его одеяло оставило в воздухе несколько объяснений.
«Потом он убил ее», сказал Уилсон. Его рот внезапно открылся.
«Кто это сделал?»
«У меня есть способ это выяснить.»
«Ты болезненный, Джордж,» сказал его друг. «Это было для вас напряжением, и вы не знаете, что говорите. Лучше попробуйте посидеть тихо до утра».
«Он убил ее.»
«Это был несчастный случай, Джордж.»
Уилсон покачал головой. Его глаза сузились, а рот слегка приоткрылся от призрачного высокомерного «Хм!»
— Я знаю, — сказал он определенно, — я один из этих доверчивых парней и не думаю, что нет тела причинит вред, но когда я что-то узнаю, я это узнаю. в той машине. Она выбежала, чтобы поговорить с ним, и он не останавливался».
Михаэлис тоже это видел, но ему не приходило в голову, что в этом есть какой-то особый смысл. Он считал, что миссис Уилсон убегала от своего мужа, а не пыталась остановить какую-то конкретную машину.
«Как она могла быть такой?»
«Она глубокая», сказал Уилсон, как будто это ответило на вопрос. «А-а-а-а…»
«А-а-а-а…»
Он снова начал раскачиваться, и Михаэлис стоял, крутя поводок в руке.
«Может, у тебя есть друг, которому я мог бы позвонить, Джордж?»
Это была безнадежная надежда — он был почти уверен, что у Уилсона нет друга: его недостаточно для жены. Он обрадовался чуть позже, когда заметил перемену в комнате, оживление синевы у окна и понял, что рассвет не за горами. Около пяти часов снаружи было достаточно темно, чтобы выключить свет.
Остекленевшие глаза Уилсона обратились к кучам пепла, где маленькие серые облачка принимали фантастические очертания и носились то здесь, то там на слабом утреннем ветру.
«Я говорил с ней», пробормотал он после долгого молчания. — Я сказал ей, что она может обмануть меня, но ей не удастся обмануть Бога. Я подвел ее к окну… — Он с усилием встал, подошел к заднему окну и прислонился к нему лицом, — и я сказал: «Бог знает, что вы делали, все, что вы делали. Вы можете одурачить меня, но вы не можете одурачить Бога!»
Стоявший позади него Михаэлис с потрясением увидел, что он смотрит в глаза доктора Т. Дж. Экльбурга, которые только что появились бледными и огромными из растворяющейся ночи.
Дж. Экльбурга, которые только что появились бледными и огромными из растворяющейся ночи.
— Бог все видит, — повторил Уилсон.
— Это реклама, — заверил его Михаэлис. Что-то заставило его отвернуться от окна и снова заглянуть в комнату. Но Уилсон долго стоял, прижавшись лицом к оконному стеклу, и кивал в полумраке.
К шести часам Михаэлис устал и был благодарен за звук остановившейся снаружи машины. Это был один из наблюдателей прошлой ночи, который пообещал вернуться, поэтому он приготовил завтрак на троих, который они с другим мужчиной съели вместе. Уилсон стал спокойнее, и Михаэлис пошел домой спать; Когда через четыре часа он проснулся и поспешил обратно в гараж, Уилсона уже не было.
Его передвижения — он все время ходил пешком — впоследствии проследили до Порт-Рузвельта, а затем до Гадс-Хилла, где он купил бутерброд, который не ел, и чашку кофе. Должно быть, он устал и шел медленно, потому что добрался до Гэдс-Хилл только к полудню. До сих пор не было никаких трудностей в подсчете его времени — были мальчики, которые видели, как человек «ведет себя как сумасшедший», и автомобилисты, на которых он странно смотрел со стороны дороги. Затем на три часа он исчез из поля зрения. Полиция, основываясь на том, что он сказал Михаэлису, что у него «есть способ выяснить это», предположила, что он провел это время, ходя от гаража к гаражу, спрашивая о желтой машине. С другой стороны, никто из тех, кто видел его в гараже, так и не вышел вперед — и, возможно, у него был более простой и надежный способ узнать то, что он хотел узнать. К половине третьего он был в Уэст-Эгге, где спросил у кого-то дорогу к дому Гэтсби. Так что к тому времени он уже знал имя Гэтсби.
Затем на три часа он исчез из поля зрения. Полиция, основываясь на том, что он сказал Михаэлису, что у него «есть способ выяснить это», предположила, что он провел это время, ходя от гаража к гаражу, спрашивая о желтой машине. С другой стороны, никто из тех, кто видел его в гараже, так и не вышел вперед — и, возможно, у него был более простой и надежный способ узнать то, что он хотел узнать. К половине третьего он был в Уэст-Эгге, где спросил у кого-то дорогу к дому Гэтсби. Так что к тому времени он уже знал имя Гэтсби.
В два часа Гэтсби надел купальный костюм и сообщил дворецкому, что, если кто-нибудь позвонит, ему должны сообщить в бассейне. Он остановился в гараже за надувным матрасом, который забавлял его гостей летом, и шофер помог ему его накачать. Потом дал указание, что открытую машину ни в коем случае нельзя вывозить — и это было странно, потому что требовалось ремонтировать переднее правое крыло.
Гэтсби взвалил на плечи матрас и направился к бассейну. Однажды он остановился и немного передвинул его, и шофер спросил его, не нужна ли ему помощь, но он покачал головой и через мгновение скрылся среди желтеющих деревьев.
Однажды он остановился и немного передвинул его, и шофер спросил его, не нужна ли ему помощь, но он покачал головой и через мгновение скрылся среди желтеющих деревьев.
Телефонного сообщения не поступало, но дворецкий не спал и ждал его до четырех часов, пока не нашлось, кому передать его, если оно придет. У меня есть идея, что сам Гэтсби не верил, что это произойдет, и, возможно, ему было все равно. Если это правда, он, должно быть, чувствовал, что потерял старый теплый мир, заплатил высокую цену за то, что слишком долго жил одной мечтой. Должно быть, он взглянул на незнакомое небо сквозь пугающие листья и вздрогнул, когда увидел, какой гротескной является роза и как сыро солнце падает на едва созревшую траву. Новый мир, материальный, но не реальный, где несчастные призраки, дышащие мечтами, как воздухом, случайно дрейфовали. . . как та пепельная, фантастическая фигура, скользящая к нему сквозь аморфные деревья.
Шофер — он был одним из протеже Вольфшима — слышал выстрелы — после этого он мог только сказать, что не особо о них думал.

















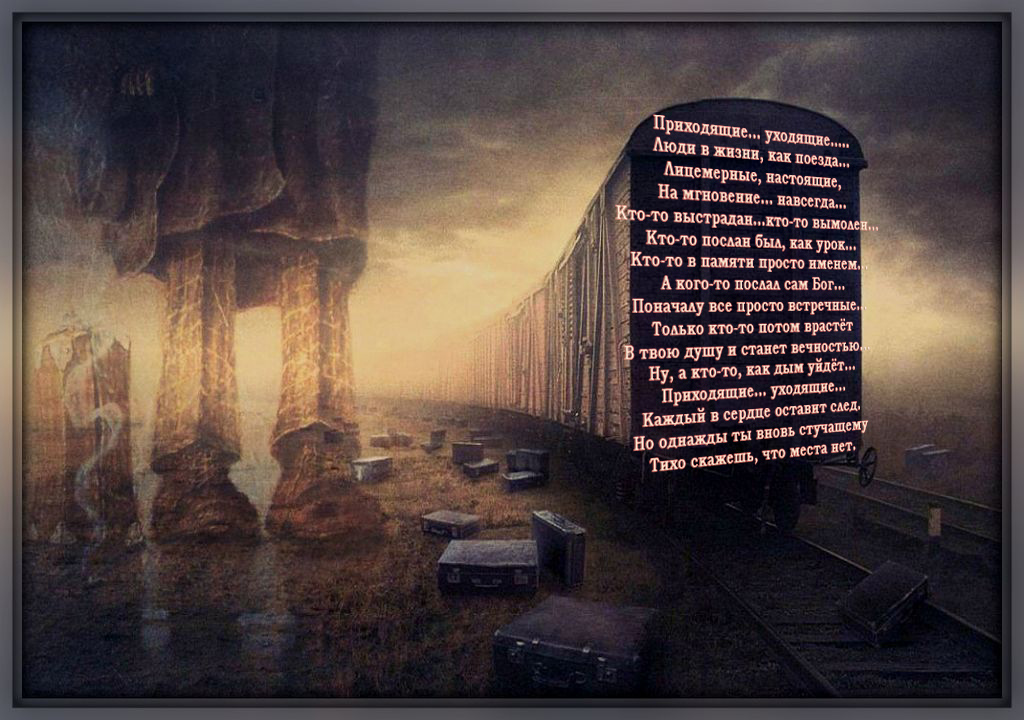


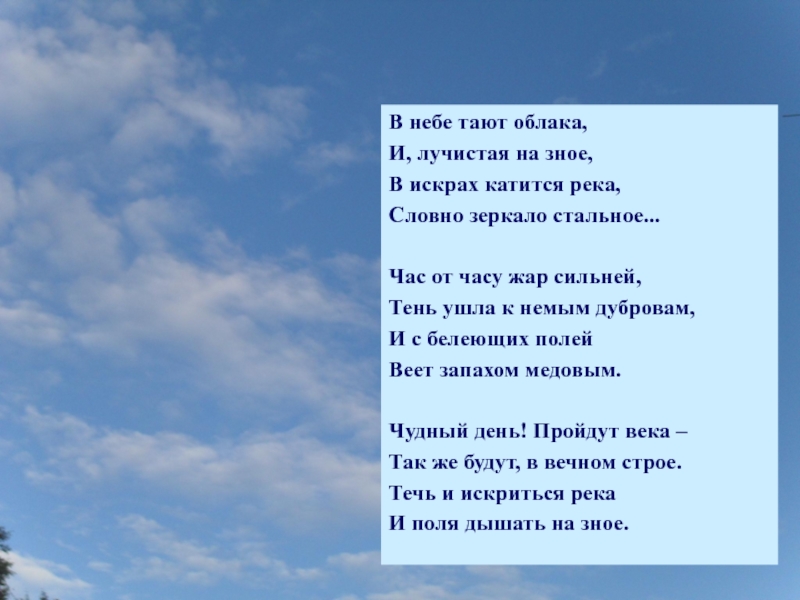
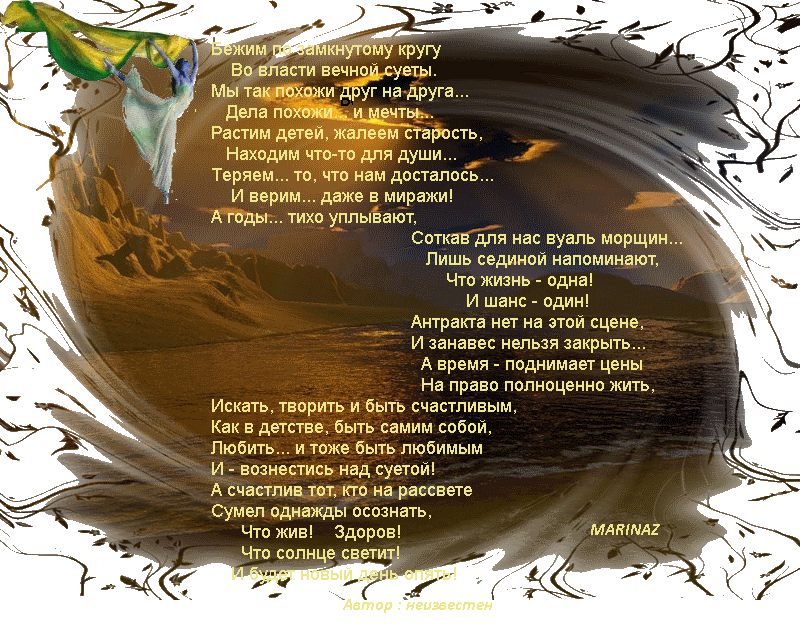



 Персиановский)
Персиановский) 2.014.01
2.014.01