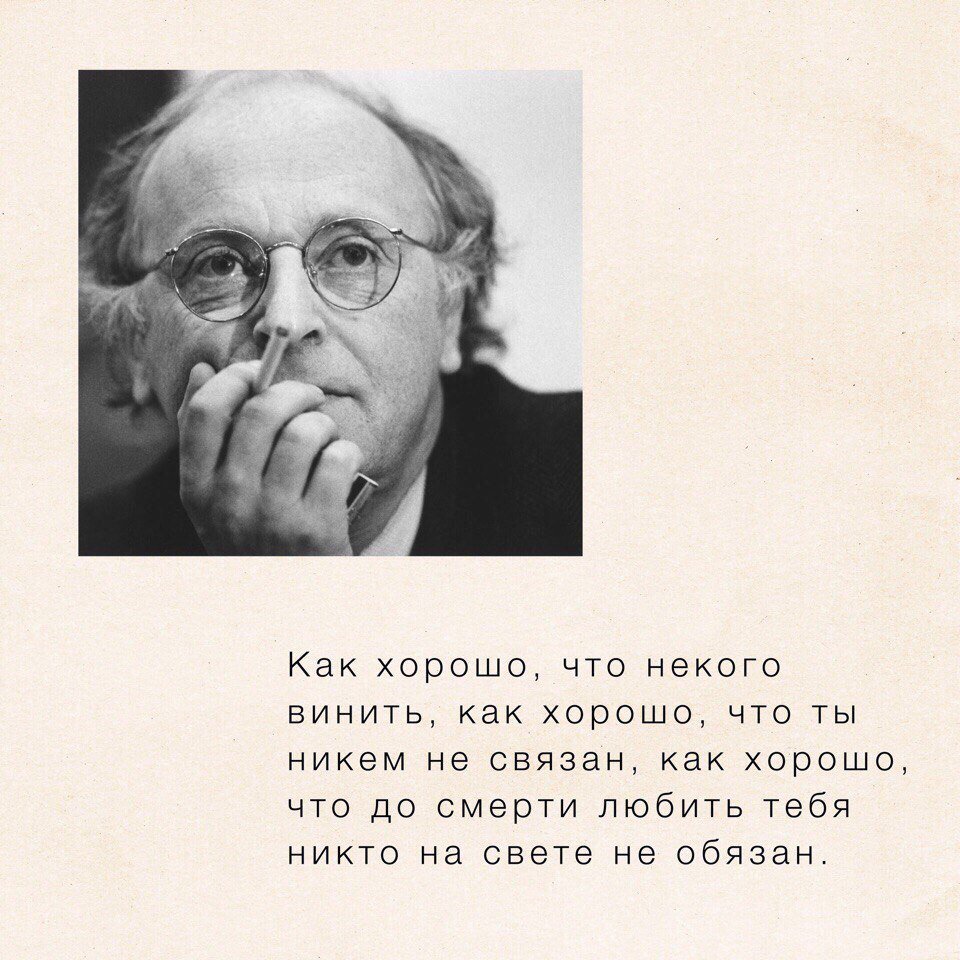Стихи бродского лучшее о любви: Стихи о любви Иосифа Бродского
Лучшие стихи о любви
Сергей Есенин
Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.
Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстояньи.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состояньи.
Земля — корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.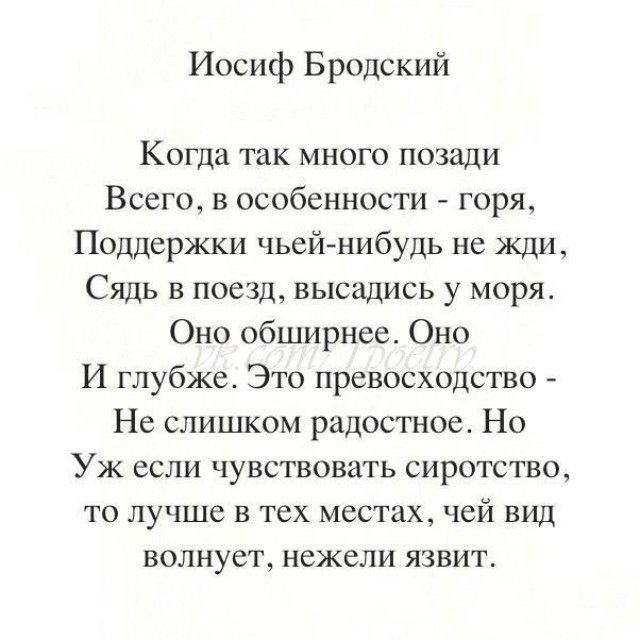
Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.
Тогда и я
Под дикий шум,
Незрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.
Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.
Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В разворочённом бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий…
Теперь года прошли,
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!
Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был
И что со мною сталось!
Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик.
Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша.
Простите мне…
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.
Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.
«И, значит, остались только иллюзия и дорога». Стихи Иосифа Бродского
Уже в своей ранней лирике Иосиф Бродский демонстрирует виртуозное владение звукописью — повторы, ассонансы, аллитерации, анафоры. Вскоре именно музыкальность стиха станет своего рода визитной карточкой поэта.
Пилигримы
«Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигримов»
В. Шекспир
Шекспир
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
…И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
1958
29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», призванная обличить «паразитический образ жизни» молодого поэта Бродского. Она и положила начало травле Иосифа Александровича, за которым последовал арест по обвинению в тунеядстве 13 февраля 1964 года, слушания в суде (законспектированные Фридой Вигдоровой тексты которых впоследствии вышли самиздатом и обрели огласку на Западе и в США) и ссылка в Коношский район Архангельской области, из которой, впрочем, был вызволен «мировой общественностью» (письма в защиту Бродского отправили Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский, Герман и даже Сартр) уже через полтора года. С 1965 по 1972 год Бродский входил в состав профгруппы при Ленинградском отделении Союза писателей. Именно в это время появилось известное «письмо» — стихотворение, обращенное к поэту и литературоведу Льву Владимировичу Лосеву (настоящая фамилия — Лифшиц).
Она и положила начало травле Иосифа Александровича, за которым последовал арест по обвинению в тунеядстве 13 февраля 1964 года, слушания в суде (законспектированные Фридой Вигдоровой тексты которых впоследствии вышли самиздатом и обрели огласку на Западе и в США) и ссылка в Коношский район Архангельской области, из которой, впрочем, был вызволен «мировой общественностью» (письма в защиту Бродского отправили Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский, Герман и даже Сартр) уже через полтора года. С 1965 по 1972 год Бродский входил в состав профгруппы при Ленинградском отделении Союза писателей. Именно в это время появилось известное «письмо» — стихотворение, обращенное к поэту и литературоведу Льву Владимировичу Лосеву (настоящая фамилия — Лифшиц).
***
Л. В. Лифшицу
Я всегда твердил, что судьба — игра.
Что готический стиль победит, как школа,
как способность торчать, избежав укола.
Я сижу у окна.
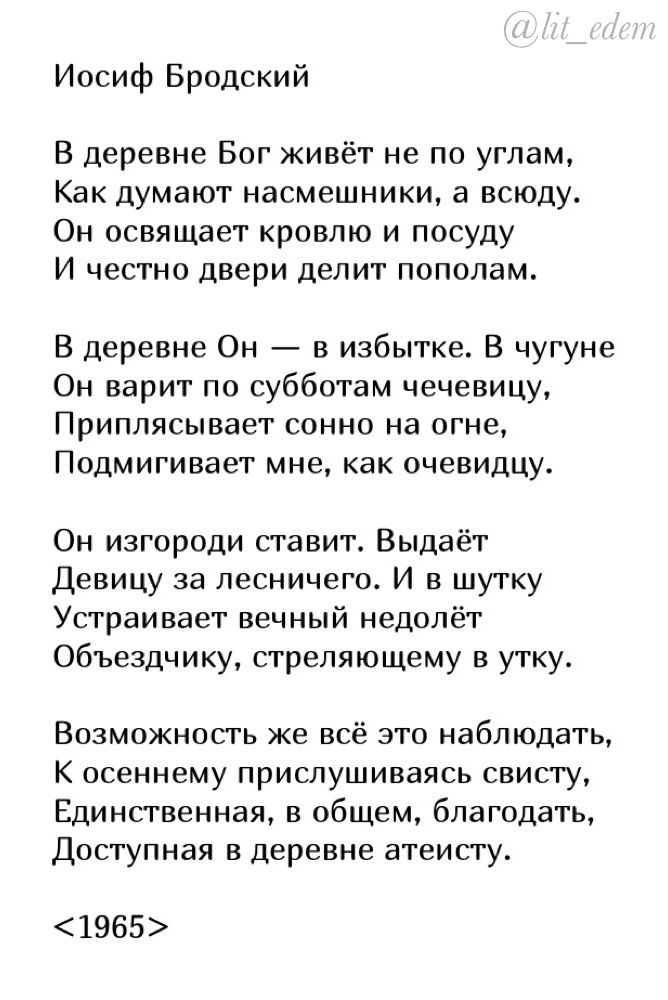 За окном осина.
За окном осина.Я любил немногих. Однако — сильно.
Я считал, что лес — только часть полена.
Что зачем вся дева, раз есть колено.
Что, устав от поднятой веком пыли,
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.
Я сижу у окна. Я помыл посуду.
Я был счастлив здесь, и уже не буду.
Я писал, что в лампочке — ужас пола.
Что любовь, как акт, лишена глагола.
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.
Улыбнусь порою, порой отплюнусь.
Я сказал, что лист разрушает почку.
И что семя, упавши в дурную почву,
не дает побега; что луг с поляной
есть пример рукоблудья, в Природе данный.
Я сижу у окна, обхватив колени,
в обществе собственной грузной тени.
Моя песня была лишена мотива,
но зато ее хором не спеть. Не диво,
что в награду мне за такие речи
своих ног никто не кладет на плечи.
Я сижу у окна в темноте; как скорый,
море гремит за волнистой шторой.
Гражданин второсортной эпохи, гордо
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.
1971
У Иосифа Бродского была удивительная манера себя нести — Российская газета
Соломон Волков — писатель и музыковед — беседовал со многими известными личностями, без которых трудно представить себе русскую культуру. С Шостаковичем, Баланчиным, Спиваковым, Евтушенко и — Бродским. Из этих стереоскопических бесед выходили книги и фильмы, из которых мы, как минимум, узнавали что-то новое о собеседниках. Меняли углы зрения, настраивали собственную оптику, вглядываясь в портреты гениев. Сейчас же, накануне юбилея Иосифа Бродского, мы поговорили о поэте с самим Соломоном Волковым.
Соломон Моисеевич, вы ведь не раз виделись с Иосифом Бродским. Вопрос у меня странный на первый взгляд. А какого роста он был? Помнится, беседуя с вами, Бродский вдруг стал рассуждать о росте Анны Ахматовой и Уистена Одена: они, мол, «примерно одного роста; может быть, Оден пониже».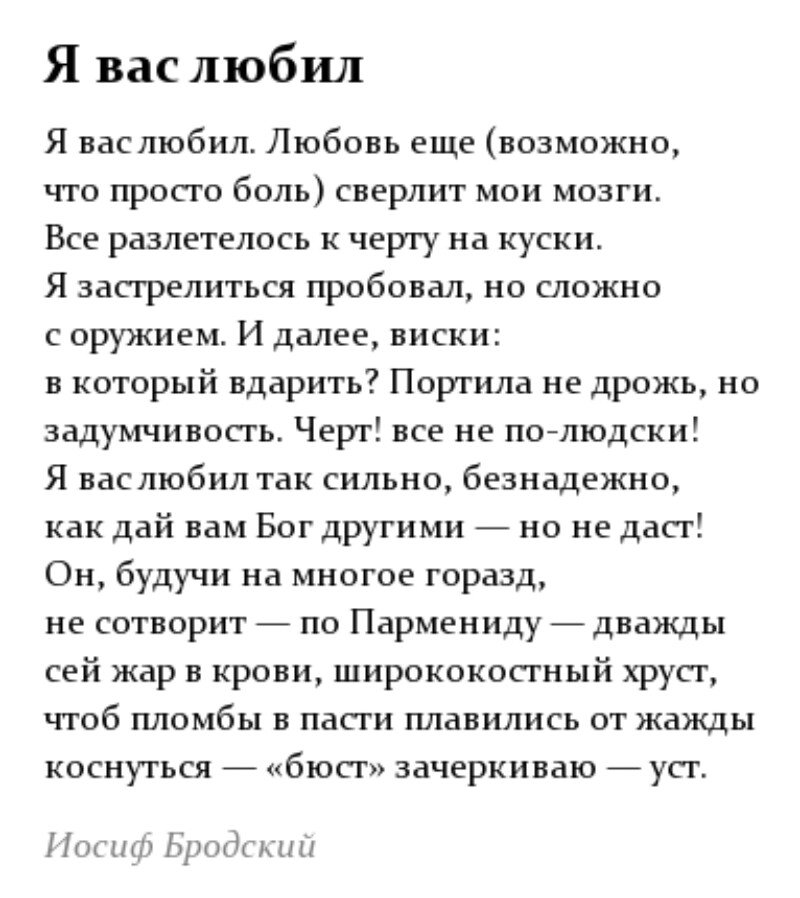
Соломон Волков: Я вот отчетливо помню такую странную картину — иду по улице Нью-Йорка, толпа, как океан, — и ее как океанский лайнер разрезает человек, который будто возвышается над толпой. И это был Бродский. Я не ожидал увидеть его в той толпе. Он был обыкновенного среднего роста, но когда он появлялся — действительно производил впечатление высокого человека. Почти как Маяковский, который, несомненно, был выше Бродского.
У Бродского ведь не случайно рост физический будто бы перетекает в величину поэтическую: когда он гулял с Анной Андреевной, «то всегда тянулся. Чтобы комплекса не было». Потому что она «грандиозная».
Соломон Волков: У Иосифа была удивительная манера себя нести, которой он мгновенно выделялся. Видимо, это уже свойство личности. То же самое впечатление он производил, когда появлялся на своих лекциях в Колумбийском университете, с которых начались наши разговоры. Входил в аудиторию, рассекая воздух, абсолютно заполняя собой все пространство.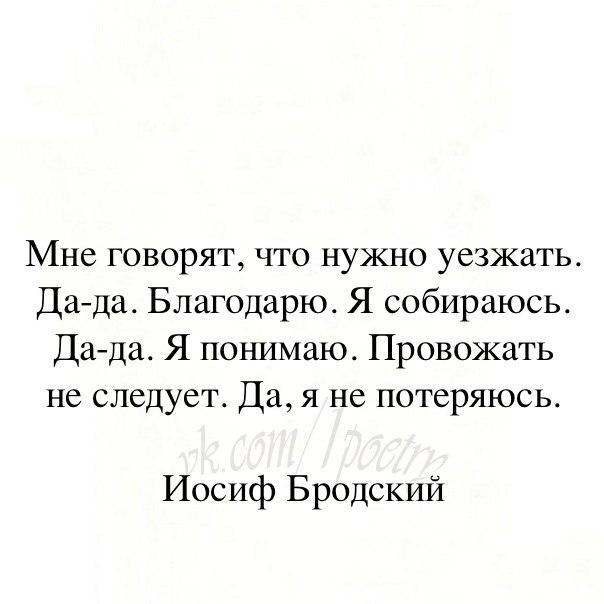 В нем была колоссальнейшая энергетика. Люди с таким богатым внутренним потенциалом действительно обладают особой энергетикой.
В нем была колоссальнейшая энергетика. Люди с таким богатым внутренним потенциалом действительно обладают особой энергетикой.
Ну да, какого поэта ни возьми — за каждым непременно свой мистический шлейф. Видимо, не случайно?
Соломон Волков: Вообще-то я не очень верю во все эти парапсихологические штуки. Но вынужден констатировать… Вот на фотографиях Шостаковича — кажется, что это такой зажатый, патологически скромный и застенчивый человек. Но в его присутствии каждый ощущал огромный электрический заряд, буквально сбивавший с ног. Мариэтта Шагинян, которая общалась с Шостаковичем с молодых лет, писала, как он пришел к ней в гости, у них в доме стояла плотная перегородка, какими в советских квартирах перегораживали комнаты, — но едва Шостакович вошел, эта ширма вдруг упала. Какие-то волны от него, безусловно, исходили. И еще в большей степени они ощущались в присутствии Бродского. Это, конечно, уже из области парапсихологии, но это было, это не выдумано. Когда мне рассказывают такие истории, я слушаю их скептически.
Вернемся все же к росту. Поэтов, кажется, во все времена волновало — кто из них выше, кто «первее»? Поэт или первый — или никакой. Откуда в них эта болезнь?
Соломон Волков:
Знаете, есть много людей, которые считают себя гениями, но таковыми не являются. В данном-то случае мы говорим о дарованиях действительно гениальных — к ним не всегда применимы обывательские мерки.
Бродский, вышедший из круга молодых поэтов, окружавших Ахматову, предпочитал говорить как о своем поэтическом учителе скорее о Цветаевой. Не странно ли?
Не странно ли?
Соломон Волков: Для Бродского Марина Цветаева была вообще центральной фигурой поэтической. Не понимаю, почему. Я всегда предпочитал ей Ахматову. Возможно, мне не нравится какая-то истеричность голоса Цветаевой. Поэтическая техника фантастическая — и это, думаю, первое, что привлекало Бродского. Но у Цветаевой нет, как мне кажется, той многоплановости, которая есть у Ахматовой.
Анна Андреевна поражает своей актуальностью. Стихи, написанные 100 лет тому назад, читаются как дневник современной женщины. Соединение в ее поэзии религиозности и эротики, на которое обратил внимание Эйхенбаум — это очень актуально для продвинутой интеллектуальной современной женщины.
Возможно, я ошибаюсь, но цветаевские слоганы мне не кажутся сейчас такими актуальными. Хотя среди женщин всегда было огромное число фанатичных поклонниц Цветаевой.
Бродский вам как раз возражал, повторяя цветаевскую мысль о том, что стихотворение есть реорганизованное время: «Время — источник ритма… И чем поэт технически разнообразнее, тем интимнее его контакт со временем».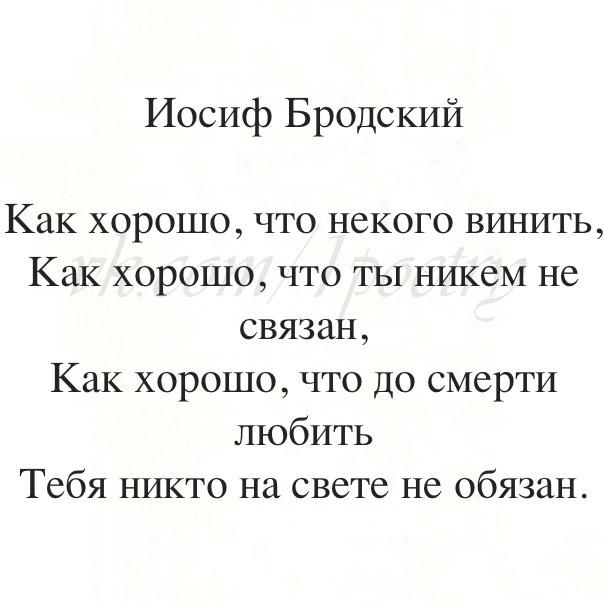
Соломон Волков:
Как все-таки Ахматова относилась к Бродскому — снисходительно? иронично? восторженно? Вы ведь в молодые годы тоже общались с Анной Андреевной, приезжали к ней с музыкантами…
Соломон Волков: Я думаю, ее восхищало, что она нашла в Бродском родственную душу. Она ведь его выделила совершенно не зря — своей интуицией гения почувствовала, что из всех окружавших ее поэтов Бродский самая значительная фигура. Другое дело, что она при этом играла и «флиртовала» со всеми остальными тоже. У нее были особые отношения с Бобышевым, особые с Найманом — поэтическими приятелями Бродского тех лет. Но по отношению к Бродскому она именно чувствовала, что в плане того самого жизнестроительства он выруливает на какие-то очень важные рубежи. Она же и сама всю жизнь, с самых молодых лет, выстраивала себя как личность, меняя свою личностную позицию сообразно тому, что ей представлялось в данный момент более выигрышным.
Другое дело, что она при этом играла и «флиртовала» со всеми остальными тоже. У нее были особые отношения с Бобышевым, особые с Найманом — поэтическими приятелями Бродского тех лет. Но по отношению к Бродскому она именно чувствовала, что в плане того самого жизнестроительства он выруливает на какие-то очень важные рубежи. Она же и сама всю жизнь, с самых молодых лет, выстраивала себя как личность, меняя свою личностную позицию сообразно тому, что ей представлялось в данный момент более выигрышным.
А Бродского не раздражала знаменитая фраза Ахматовой про то, «какую биографию делают нашему рыжему»?
Соломон Волков: Я его никогда об этом не спрашивал — и он никогда об этом не говорил со мной. Но могу точно сказать, и не открою тут никакой Америки, что при всей сложности истории с арестом Иосифа Александровича, судебным процессом, пребыванием в ссылке в деревне Норенской, с тамошним его житьем-бытьем, — все это было, но все это и мифологизировано до предела. И в каком-то смысле это работало на него, и он совершенно был не против такого развития жизненного сюжета. Хотя, конечно, мотивы его не так прямолинейны. В Москве в 64-м году друзья ведь предупреждали, уговаривали: не возвращайся в Ленинград, ничем хорошим это не кончится. То, что он все же поехал — и был арестован — связано было, безусловно, с его любовным романом с Мариной Басмановой, в первую очередь. Но он пошел, условно говоря, на свою Голгофу, отчетливо понимая, я думаю, интуитивно, и то, что это очень важный шаг для его поэтической биографии.
Хотя, конечно, мотивы его не так прямолинейны. В Москве в 64-м году друзья ведь предупреждали, уговаривали: не возвращайся в Ленинград, ничем хорошим это не кончится. То, что он все же поехал — и был арестован — связано было, безусловно, с его любовным романом с Мариной Басмановой, в первую очередь. Но он пошел, условно говоря, на свою Голгофу, отчетливо понимая, я думаю, интуитивно, и то, что это очень важный шаг для его поэтической биографии.
В какой-то момент стала неизбежной связка: Бродский — мученик. Помните замечательный его экспромт — «кто вас сделал поэтом?» — он отвечает: «я думал, что это от Бога». Из таких фраз складываются в итоге легенды. И эта фраза, конечно, была легендарной, — но ее ведь нужно было выговорить в момент, когда на это осмелились бы немногие.
Бродского упрекали в том, что он не сказал слова доброго о той же Фриде Вигдоровой, благодаря которой мир получил стенограмму судебного процесса, и вообще старался избегать каких-то слов в адрес людей, ему помогавших.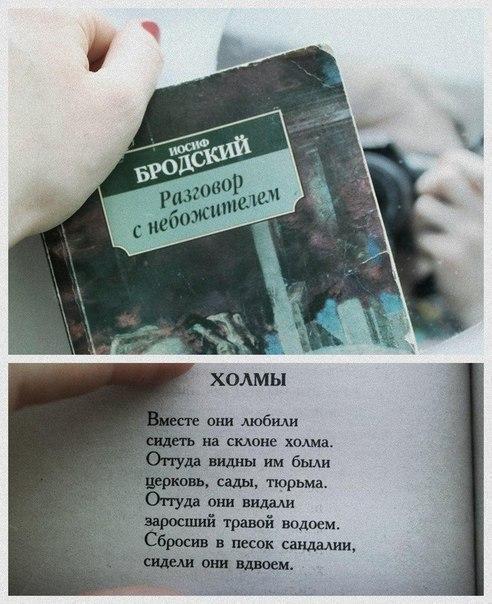 Вам на вопросы о ссылке отвечал: я отказываюсь все это драматизировать. Вы сочли, что это часть его эстетики. Что вы имели в виду?
Вам на вопросы о ссылке отвечал: я отказываюсь все это драматизировать. Вы сочли, что это часть его эстетики. Что вы имели в виду?
Соломон Волков: Эта эстетика отчуждения — невероятный аспект личности Бродского. Таким я его здесь узнал в Америке. Это был сознательный выбор, нетипичный для русской художественной фигуры. Но здесь, в Америке, иначе невозможно.
Почему? Откройте эту тайну выживания русской эмиграции.
Соломон Волков: Бродский стал проникаться англо-американской эстетикой того, что называется understatement (умышленное преуменьшение положительных характеристик объекта речи — Ред.). Иначе и не скажешь. То есть, сдержанная такая англизированная реакция на все, что с тобой происходит, без драматизации. Подчеркнуто холодно, подчеркнуто безлично. Как он любил всегда говорить: цвета серой воды, который является одновременно цветом времени.
Он начал этим проникаться еще в Советском Союзе. И этим очень отличался от других поэтов, раз в сто.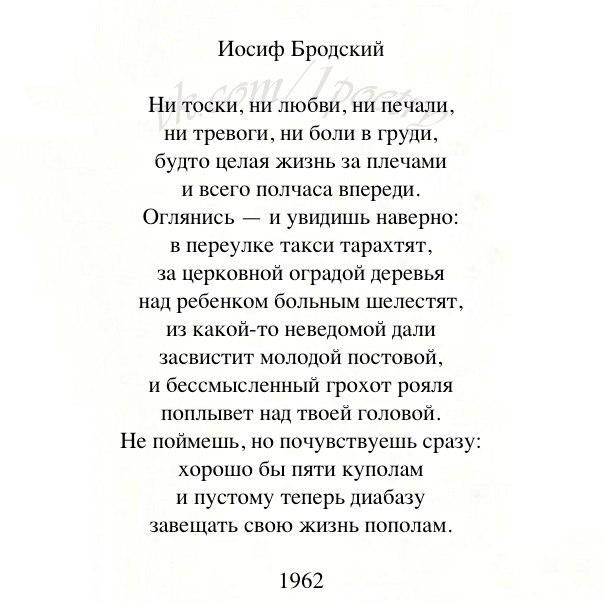 Ни у Андрея Вознесенского, ни у Евгения Евтушенко нет этой отстраненности, отчуждения от событий, которые с тобой происходят. Наоборот, они как бы кидаются в водоворот и в нем вращаются в огромным энтузиазмом. И это типичная шестидесятническая черта.
Ни у Андрея Вознесенского, ни у Евгения Евтушенко нет этой отстраненности, отчуждения от событий, которые с тобой происходят. Наоборот, они как бы кидаются в водоворот и в нем вращаются в огромным энтузиазмом. И это типичная шестидесятническая черта.
Для многих читателей, вовсе не самых толстокожих, как раз эта черта в поэтах всегда казалась привлекательной.
Соломон Волков: Бродский не шестидесятник именно в этом плане. Он пост-шестидесятник, по моему убеждению. Я пытаюсь ввести в оборот это понятие — пост-шестидесятник. Таковыми были, кроме него, и Шнитке, и Тарковский. Были пре-шестидесятники, пра-шестидесятники, — и были пост-шестидесятники. Так вот, начав вхождение в эту эстетику еще в Советском Союзе, Бродский очень сильно впитал ее, попав в Соединенные Штаты. Это ему нравилось всегда, его к этому тянуло. Вообще влияние англо-американской поэзии на русскую культуру до Бродского было совершенно неощутимым. Был, скажем, Байрон, влиявший на Пушкина и на весь русский романтизм.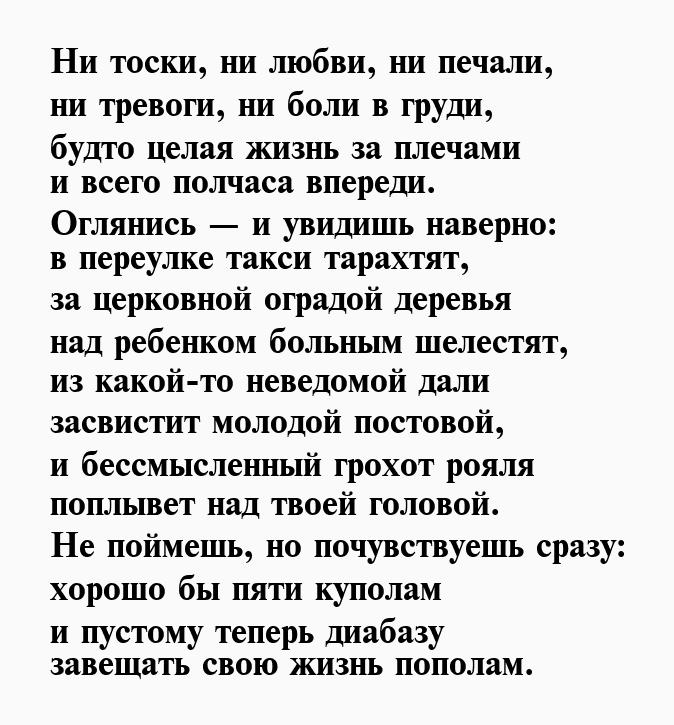 А после этого огромный перерыв. Вплоть до Бродского, с легкой руки которого в русской культуре проявился интерес к Одену, Фросту. Но здесь, в эмиграции, это был еще вопрос выживания. Он вдруг попал из атмосферы, где «поэт в России больше, чем поэт», — туда, где, согласно Хармсу, в ответ на слова «я поэт» можно услышать: «нет, ты г…».
А после этого огромный перерыв. Вплоть до Бродского, с легкой руки которого в русской культуре проявился интерес к Одену, Фросту. Но здесь, в эмиграции, это был еще вопрос выживания. Он вдруг попал из атмосферы, где «поэт в России больше, чем поэт», — туда, где, согласно Хармсу, в ответ на слова «я поэт» можно услышать: «нет, ты г…».
Но что все-таки роднило Бродского с шестидесятниками — даже если ему и нравилось от них «отстраняться»?
Соломон Волков: Очень интересно было наблюдать, когда Бродский появлялся на сцене здесь в Нью-Йорке на поэтических вечерах с другими американскими поэтами. Американский поэт, выходя на эстраду, заранее извиняется, что отнимает у почтеннейшей публики время своими неуместными и ненужными никому стихами. Американский поэт читает тихо, монотонно, переминаясь с ноги на ногу. Ничего более контрастного выступлению, скажем, Евтушенко или Вознесенского быть не может. И этим еще Вознесенский и Евтушенко производили такое впечатление на американскую аудиторию: они читали шумно, ярко, и по-русски.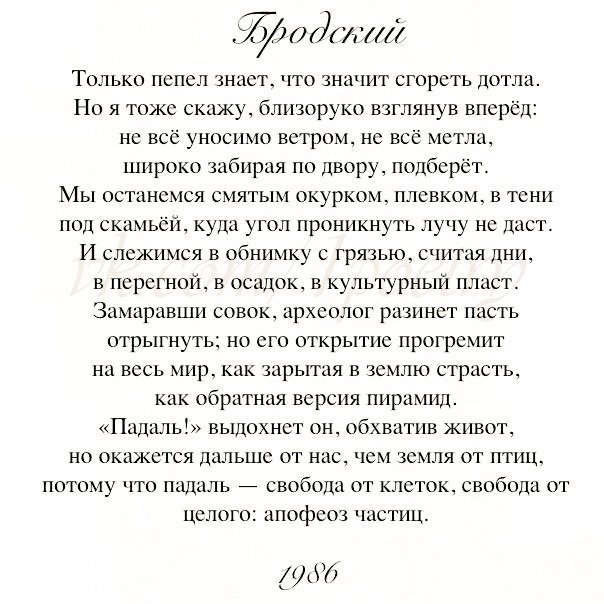 Бывали и переводчики при этом, их переводили, но все-таки по-русски.
Бывали и переводчики при этом, их переводили, но все-таки по-русски.
Вот тут Бродский был к ним близок, тут он был шестидесятником: выходя на эстраду, начинал гипнотизировать аудиторию, шаманил на эстраде. И опять-таки на моих глазах не раз и не два преуспевал в этом. Аудитория ни слова не понимала по-русски. Но эти шаманские завывания Бродского на сцене гипнотизировали американскую публику. И та сдавалась.
Но в обиходе жизненном, для выживания здесь одного шаманства, видимо, недостаточно?
Соломон Волков: В обиходе жизненном нужно было примириться с ощущением, что ты никому не нужен как поэт. И тогда Бродский выработал свою линию поведения — да, это все меня не касается, ничего драматического со мной не происходило. Те, кто напоминает мне: это было важно в вашей биографии, вот такие-то люди вам помогали — это все нужно отстранить, отодвинуть. Поэт должен быть на уровне воды серого цвета. Таким должно быть бытие поэта.
Люди, которые в эмиграции не сумели впитать хоть какие-то элементы такой эстетической жизненной позиции, — погибли. Все поломались. В Америке выжить, думая, что ты культурный гений и все должны перед тобой падать ниц, — это стратегия, заранее обреченная на неудачу. Выжили именно те, кто держался, как Бродский и Барышников. Я всегда называю Барышникова живым лирическим героем Бродского. Не собираюсь сравнивать его ни в каком аспекте с Бродским, но как модель поведения — модель Бродского, назовем ее так условно, — его пример оказался для меня чрезвычайно важным.
Все поломались. В Америке выжить, думая, что ты культурный гений и все должны перед тобой падать ниц, — это стратегия, заранее обреченная на неудачу. Выжили именно те, кто держался, как Бродский и Барышников. Я всегда называю Барышникова живым лирическим героем Бродского. Не собираюсь сравнивать его ни в каком аспекте с Бродским, но как модель поведения — модель Бродского, назовем ее так условно, — его пример оказался для меня чрезвычайно важным.
Бродский действительно болезненно или раздраженно относился к попыткам изучения его внелитературной биографии (хотя как у поэта отделить «литературное» от «нелитературного»)?
Соломон Волков: Да. А кто из известных вам деятелей культуры относится спокойно к таким вещам? Все хотят контролировать свое жизнеописание. Я исключений не знаю… Хотя тут есть парадокс: сам Бродский с величайшей охотой поглощал все биографические материалы о людях, которые его интересовали, о тех же поэтах. Вполне мог посплетничать: кто, с кем, как и почему. Значительную часть его разговоров с друзьями составляла именно эта тема. Но о себе абсолютно нет. Он приходил в ужас при мысли, что кто-то будет копаться в его личной биографии и привязывать к определенным фигурам. Скажем, «Новые стансы к Августе» — книга стихов, посвященная определенной названной женщине. Но включены стихи, посвященные и другим женщинам тоже. В интересах цельности поэтической книги он шел на такие вещи. Это ведь тоже от Ахматовой — полная тьма и запутывание всех входящих и исходящих. Хотя многие его музы еще живы и с каждым годом все чаще нарушают обет молчания…
Значительную часть его разговоров с друзьями составляла именно эта тема. Но о себе абсолютно нет. Он приходил в ужас при мысли, что кто-то будет копаться в его личной биографии и привязывать к определенным фигурам. Скажем, «Новые стансы к Августе» — книга стихов, посвященная определенной названной женщине. Но включены стихи, посвященные и другим женщинам тоже. В интересах цельности поэтической книги он шел на такие вещи. Это ведь тоже от Ахматовой — полная тьма и запутывание всех входящих и исходящих. Хотя многие его музы еще живы и с каждым годом все чаще нарушают обет молчания…
Не каждому достойному поэту дали Нобелевскую премию — а Бродский ее получил. Как ему это удалось?
Соломон Волков: Почему Бродский получил Нобелевскую премию, а, скажем, Вознесенский, Евтушенко не получили. Ну, Евтушенко еще, очень может быть, и получит — предсказать такие вещи невозможно. Букмекеры на этом хорошо зарабатывают, но прогнозы их, как правило, не сбываются.
Тут интересно другое. И Вознесенский, и Евтушенко вроде бы вписались в американскую жизнь, дружили с такими авторитетами, как Норман Мейлер, Артур Миллер, семья Кеннеди. Но эти люди не оказывали никакого влияния на решения Нобелевского комитета. Они сами не получили Нобелевки — ни Мейлер, ни Миллер. И не случайно — в какой-то момент позиции этого круга и тех людей, которые принимают решения в Нобелевском комитете, разошлись. А Бродский как раз, наоборот, был в том кругу, который имел авторитет для Нобелевского комитета. Это уже вопрос к социально-культурной ситуации или вопрос чутья. Бродский подружился с Сьюзен Зонтаг, которая представляла европейский авангард или ранний постмодернизм. И ее интересы совпадали с культурными предпочтениями Нобелевского комитета. К ней, кстати, очень прислушивались.
И Вознесенский, и Евтушенко вроде бы вписались в американскую жизнь, дружили с такими авторитетами, как Норман Мейлер, Артур Миллер, семья Кеннеди. Но эти люди не оказывали никакого влияния на решения Нобелевского комитета. Они сами не получили Нобелевки — ни Мейлер, ни Миллер. И не случайно — в какой-то момент позиции этого круга и тех людей, которые принимают решения в Нобелевском комитете, разошлись. А Бродский как раз, наоборот, был в том кругу, который имел авторитет для Нобелевского комитета. Это уже вопрос к социально-культурной ситуации или вопрос чутья. Бродский подружился с Сьюзен Зонтаг, которая представляла европейский авангард или ранний постмодернизм. И ее интересы совпадали с культурными предпочтениями Нобелевского комитета. К ней, кстати, очень прислушивались.
И то, что Бродский начал писать эссе по-английски, сыграло колоссальную роль. Ни Вознесенский, ни Евтушенко этого делать не стали. Они оставались в убеждении, что добьются этого своей поэзией. Но стихи — это вопрос перевода, тысячи разных других обстоятельств. О Бродском же Нобелевский комитет составил представление главным образом по двум факторам: по истории с судебным процессом и по его эссе. Поэзия была в дополнительном пакете. Точно так же, как Пастернаку — присудили вроде бы за поэзию. Но, конечно же, если бы Пастернак не написал «Доктора Живаго», никакой Нобелевской премии ему не видать. Та же история была у Бродского.
О Бродском же Нобелевский комитет составил представление главным образом по двум факторам: по истории с судебным процессом и по его эссе. Поэзия была в дополнительном пакете. Точно так же, как Пастернаку — присудили вроде бы за поэзию. Но, конечно же, если бы Пастернак не написал «Доктора Живаго», никакой Нобелевской премии ему не видать. Та же история была у Бродского.
Но вообще, по моим наблюдениям, не берусь судить о всех странах, — в Америке спокойно относятся к тому, что многие крупные авторы не получили Нобелевскую премию. Настоящая мистика Нобелевской премии существует только в России.
Говоря о поэтах послевоенного поколения, Бродский выделял особо Бориса Слуцкого. Казалось бы, совсем не близкий ему поэт…
Соломон Волков: Я с вами совершенно не соглашусь. Бродский всегда говорил с большой симпатией о Слуцком как о человеке. А о стихах вообще говорить нечего — вчитайтесь! Слуцкий столько наработал для стихов Бродского — вся эта резкая манера с использованием обиходных слов. И это влияние не противоречит словам Бродского о том, что Слуцкий загубил себя позицией, условно говоря, политрука, честного коммуниста.
И это влияние не противоречит словам Бродского о том, что Слуцкий загубил себя позицией, условно говоря, политрука, честного коммуниста.
Сейчас за такие внятные жизненные позиции поэтов готовы вычеркнуть из истории литературы вовсе — будто и не бывало.
Соломон Волков: В моих словах нет никакой иронии. Я с уважением отношусь ко многим замечательным людям, хотя они хранили такую условную позицию честного коммуниста до конца своих дней. Анатолий Наумович Рыбаков, автор «Кортика» и «Детей Арбата», жил наискосок от меня и мы очень часто встречались. Он был и оставался убежденным троцкистом. И Сталина он ненавидел именно не как какой-то антисталинист, интеллектуал западного образца, а как человек, идеалом которого было справедливое общество, избавленное от классовых расслоений, ужасной разницы в заработках, — от всего, что вполне характеризует сегодняшний дикий капитализм, в Америке и Европе… Так что — нет, Слуцкий был Бродскому как раз очень близок. Он просто сожалел, что Слуцкий ужал себя до размеров добровольной искусственной клетки. Но это уже трагедия или, наоборот, удача Слуцкого, для кого как.
Но это уже трагедия или, наоборот, удача Слуцкого, для кого как.
Когда начались печальные теперешние события на Украине, в Интернете тут же замелькало стихотворение Бродского «На независимость Украины» — совсем не комлиментарное к самостийным чувствам. Одни вдохновились нежданным патриотизмом Бродского, другие, наоборот, осыпали его проклятьями. И тут же усомнились в подлинности стихов, усмотрев, как обычно, в них «кремлевскую пропаганду». Это же стихотворение такого имперского поэта. Насколько оно объясняет Бродского?
Соломон Волков: Я всегда считал Бродского имперским поэтом. И тема империи для него очень важна. Почему он не остался в Европе? Почему он прямо из России поехал в Америку? Он поменял советскую империю на империю антисоветскую. Но ему было важно это ощущение, что он живет в империи, что он является частью империи. У него можно найти множество соображений на эту тему. Отсюда и его любовь к Андреевскому флагу, отсюда и наш с ним разговор о стихотворении, посвященном маршалу Жукову, которое вполне могло бы появиться в свое время в газете «Правда».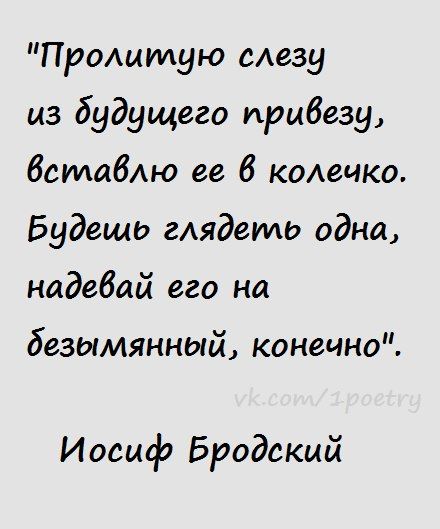 Бродский вспоминал, сколько в связи с этим стихотворением ему пришлось всякого наглотаться.от эмигрантов, в особенности, прибалтов и украинцев, здесь, в Соединенных Штатах.
Бродский вспоминал, сколько в связи с этим стихотворением ему пришлось всякого наглотаться.от эмигрантов, в особенности, прибалтов и украинцев, здесь, в Соединенных Штатах.
Он периодически высказывался как имперский поэт. Можно в этом усмотреть противоречие. Но любая огромная фигура состоит из множеств. Был ли имперским поэтом Пушкин? Конечно, был. «Клеветникам России» и «На годовщину Бородинской битвы» — это же имперские стихи. Если их сегодня перепечатать, представляете, как бы на Пушкина накинулись со всех сторон. А стихи замечательные и, опять-таки, вписываются в текущее.
Листок со стихотворением «На независимость Украины», врученный Бродским, лежит у меня в архиве, это копия с его пишущей машинки. Относиться к этому можно как угодно, сообразно политическим взглядам. Но отрицать, что это сильное стихотворение, по-моему, не будет никто.
Бродский жалел, что не написал свою «Божественную комедию», некое монументальное произведение, роман, эпопею. А с чего, по-вашему, надо начинать путь к Бродскому, что в нем главное?
Соломон Волков: Наверное, если совсем-совсем, то я бы посоветовал открыть сначала «Часть речи», с одной стороны.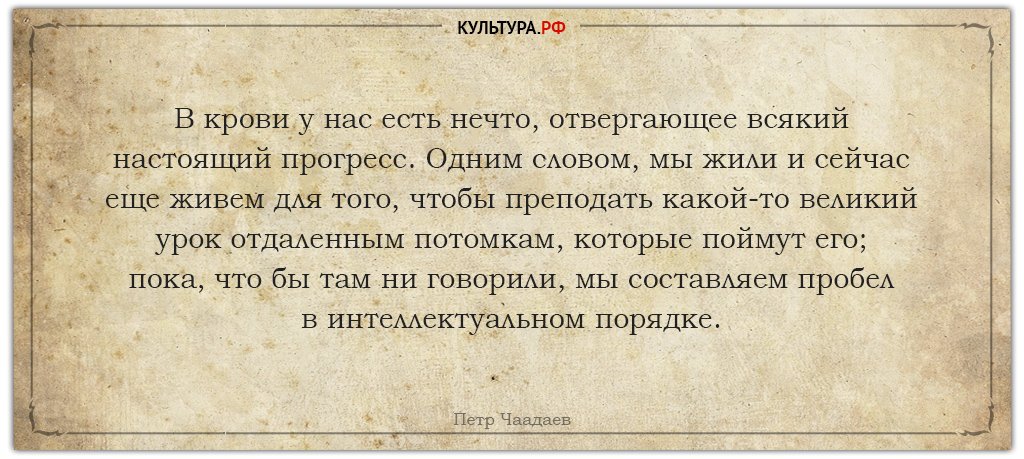 И «Новые стансы к Августе», с другой. Чисто любовная лирика — и Бродский с более философским оттенком. Есть такая идея, что он сложный, недоступный поэт. Это не так. Поразительно, какое количество поэтических афоризмов Бродского вошло в быт. Я не знаю, как сейчас, но в наше время, когда люди встречались, они друг друга «обнюхивали» с помощью цитат. Если человек откликался, скажем, на обэриутов, Олейникова, Хармса, Заболоцкого раннего, — значит, свой. Сейчас это ушло, цитату из Олейникова — «Типичная пошлость царила в его голове небольшой» — уже не узнают, нужно объяснять.
И «Новые стансы к Августе», с другой. Чисто любовная лирика — и Бродский с более философским оттенком. Есть такая идея, что он сложный, недоступный поэт. Это не так. Поразительно, какое количество поэтических афоризмов Бродского вошло в быт. Я не знаю, как сейчас, но в наше время, когда люди встречались, они друг друга «обнюхивали» с помощью цитат. Если человек откликался, скажем, на обэриутов, Олейникова, Хармса, Заболоцкого раннего, — значит, свой. Сейчас это ушло, цитату из Олейникова — «Типичная пошлость царила в его голове небольшой» — уже не узнают, нужно объяснять.
И Бродский разошелся на огромное количество цитат. «Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево». Это же 61-й год, первое его знаменитое стихотворение — «Рождественский романс». Или «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». Разве это точно ассоциируется с Бродским? Нет. А вот еще: «Задние мысли сильнее передних» из «Речи о пролитом молоке». «Я обнял эти плечи, и взглянул на то, что оказалось за спиною».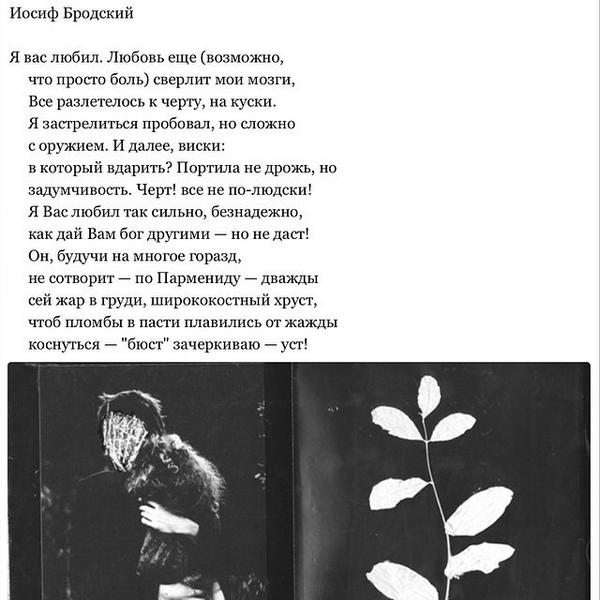 О чем это? Слова так связаны одно с другим, что ты их вспоминаешь по самым разным поводам.
О чем это? Слова так связаны одно с другим, что ты их вспоминаешь по самым разным поводам.
Дома мы с женой моей Марьяной все время цитируем Бродского. «Зимним вечером в Ялте» — «Налить вам этой мерзости? Налейте». Или я еще люблю прозаические бродскизмы. «Если бы я был посвободнее, как внешне, так, впрочем, и внутренне»… «Диалоги с Бродским» — это единственная моя книга, которую я время от времени перечитываю. Я думаю, что у нового читающего и думающего поколения Бродский — самый цитируемый в общении автор. Может, я ошибаюсь, но мне представляется, что это так.
А вам не бывает досадно — когда, вознося одного поэта, скажем, того же Бродского, — непременно стараются затоптать всех остальных. Это несправедливо — зато модно?
Соломон Волков: То, что когда-то, 24 мая 1940 года, в Ленинграде родился Иосиф Александрович Бродский — это же случайность. Мог не родиться, или родился бы кто-то другой. А случилось чудо. Гоголь когда-то написал, что Пушкин — это русский человек, каким он будет через 200 лет. Да ничего подобного не произошло. Не стал русский человек таким, как Пушкин. Пушкин, как был, так и остался один. И это чудо и счастье. Пушкин вне всякого сравнения. Но ведь и та же история русской поэзии ХХ века — такое же чудо, наше счастье общее. Столько великих поэтов, такого скопления феноменальных поэтических звезд нет нигде, ни в одной другой культуре. Это богатство, которое мы до сих пор еще, что называется, не оприходовали. В него только еще вникать и вникать. Это тоже, между прочим, наше всё.
Да ничего подобного не произошло. Не стал русский человек таким, как Пушкин. Пушкин, как был, так и остался один. И это чудо и счастье. Пушкин вне всякого сравнения. Но ведь и та же история русской поэзии ХХ века — такое же чудо, наше счастье общее. Столько великих поэтов, такого скопления феноменальных поэтических звезд нет нигде, ни в одной другой культуре. Это богатство, которое мы до сих пор еще, что называется, не оприходовали. В него только еще вникать и вникать. Это тоже, между прочим, наше всё.
К сожалению, мы не всегда это осознаем.
Соломон Волков: Но этот воздух, который все равно присутствует в атмосфере страны, ее и спасает. Отчего, как говорил Набоков, при чтении Пушкина наши легкие расширяются? Оттого, что поэзия — наш кислород.
Почему американцы не оценили английские стихи Бродского · Город 812
Отмечаем юбилей Иосифа Бродского, не выходя из комнаты
24 мая Иосифу Бродскому могло бы исполниться 80 лет.
В Петербурге на этот день было запланировано открытие музея-квартиры «Полторы комнаты» в доме Мурузи, где поэт жил до эмиграции в США. Из-за эпидемии все мероприятия отложили до осени.
В современной России к Бродскому относятся по-разному: кто-то считает его состоявшимся классиком, кто-то упрекает его поэзию в массовости, – неоспоримым оказывается только устойчивый интерес к творчеству и биографии поэта.
В чём секрет популярности Бродского, почему его поэзия не нравилась англоязычному читателю и какие тексты поэта до сих пор запрещены к публикации – «Городу 812» рассказал филолог, автор курса «Поэтика Иосифа Бродского» в СПбГУ Денис Ахапкин.
Западные критики «видели в его стихотворениях набор трюков»
– Логично, что первый музей, целиком посвящённый Бродскому, открывается в Петербурге (“полторы комнаты” в доме Мурузи) – это родной город поэта. Но больше 20 лет он прожил в США, путешествовал по Европе, так и не побывав в России после вынужденной эмиграции.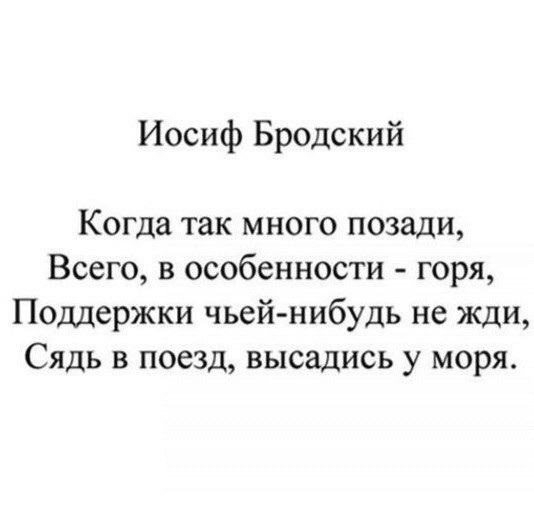 Часто спорят о Набокове: русский он писатель или американский? Актуален ли в случае Бродского вопрос его культурной принадлежности или, в отличие от Набокова, здесь всё однозначно?
Часто спорят о Набокове: русский он писатель или американский? Актуален ли в случае Бродского вопрос его культурной принадлежности или, в отличие от Набокова, здесь всё однозначно?
– Сам Бродский неоднократно отвечал на похожие вопросы таким образом: «Я еврей, русский поэт и американский гражданин». Это понятно. Для Бродского у поэзии может быть только одно гражданство – гражданство языка, на котором она написана. Язык не знает территориальных границ, он живёт там, где на нём говорят. И Бродский принёс русский язык в Нью-Йорк и другие места, где он жил. И в его ответе важна именно эта составная формула. Например, в малой серии ЖЗЛ вышла книга Владимира Бондаренко «Иосиф Бродский. Русский поэт», и само по себе название звучит вполне нормально. Другое дело, что в книге автор явно отсёк две остальные составляющие, которые не менее важны для понимания творчества и судьбы Бродского.
– Но ведь Бродский писал эссе в основном на английском, есть целый ряд стихотворений, написанных также по-английски.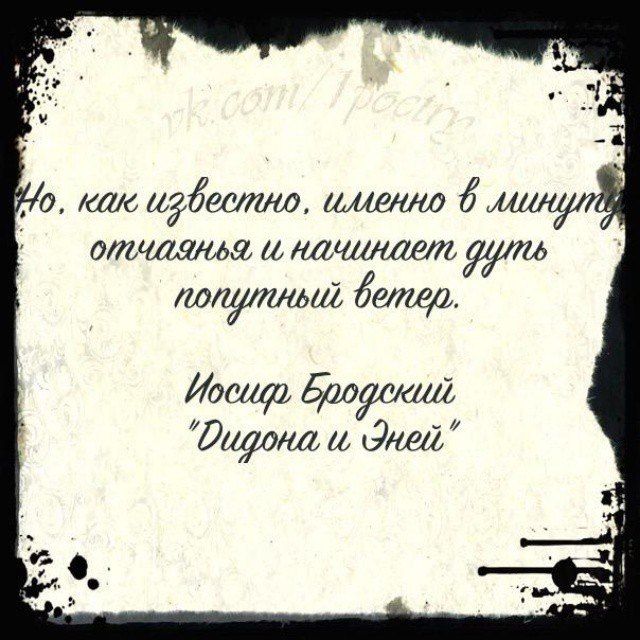
– Эссе Бродского действительно известны англоязычным читателям и востребованы ими. Только что – буквально на днях – в Штатах вышло новое издание трёх томов эссе Бродского и избранной поэзии по-английски – во многом благодаря стараниям Энн Шеллберг, которая была его последним литературным секретарем и организатором работы Фонда наследственного имущества Бродского. Вообще, что касается стихов, написанных именно по-английски (а не переводов), сам поэт относился к ним менее серьёзно. Хотя среди них есть, на мой взгляд, замечательные тексты, например, «To My Daughter» или «At the City Dump in Nantucket». Одним словом, к определению Бродского можно было бы добавить «англоязычный эссеист», но зачем — в конце концов, троичная форма наиболее устойчива…
– Говорят, что поэзию Бродского англоязычные читатели не особо тепло принимали. Эллендея Проффер – издательница Бродского в США, жена известного слависта Карла Проффера – например, писала, что Бродский в своих автопереводах уделял большое внимание рифме, хотя на английском рифмующиеся стихотворения выглядели архаично и даже комично. Почему Бродский этого не почувствовал?
Почему Бродский этого не почувствовал?
– Вы правы, стихи Бродского на английском вызывали довольно жёсткую критику, хотя его и поддерживали многие замечательные поэты, например его друзья и тоже Нобелевские лауреаты Шеймас Хини и Дерек Уолкотт. Критики видели в его стихотворениях набор трюков, попытку продемонстрировать технику ради техники. Эту позицию поддерживал, например, британский поэт и критик Крейг Рейн, написавший о Бродском статью «Репутация, подверженная инфляции». Он говорил о том, что рифма Бродского напоминает рекламные слоганы, а сам Бродский вообще не знает английского языка и не чувствует его нюансов. Я бы не сказал, что Бродский этих нюансов не чувствовал. Он, скорее, пытался приобщить англоязычного читателя к русской поэзии, передать сложную организацию классического русского стиха, скрестить русскую и английскую просодию. В конце концов ему ведь удалось это сделать по-русски – привнести интонации английской поэзии в свои стихи. А вот наоборот, с точки зрения многих, не очень удалось.
Дело, может быть, не столько в сложности английского языка, сколько в своеобразии русской поэзии. Рифма в ней играет большое значение. А Бродский всегда гордился своими рифмами и в одном из интервью даже утверждал, что нашёл рифму к слову «окунь», которую до него никто не использовал («окон»). Вообще, Бродскому и его друзьям-поэтам (и англоязычным тоже) такой поиск был очень интересен. А для широкой американской и особенно британской публики это выглядело как трюкачество, Бродского обвиняли в том, что он выпендривается, пишет детские стишки под видом высокой поэзии.
Что до Крейга Рейна, тут получается забавный каламбур — Бродский с юности дружил с поэтом Евгением Рейном, а после его смерти другой поэт с такой же фамилией, сказал, что Бродский вообще не очень умеет стихи писать. Крейг Рейн, конечно, не читает по-русски…
«Бродский – это не сумма влияний, а усиление стиля и приёмов его учителей»
– Многие воспринимают поэзию Бродского, особенно позднего, как явление самобытное, уникальное, ни на что не похожее и не вписывающееся в какую-то конкретную традицию.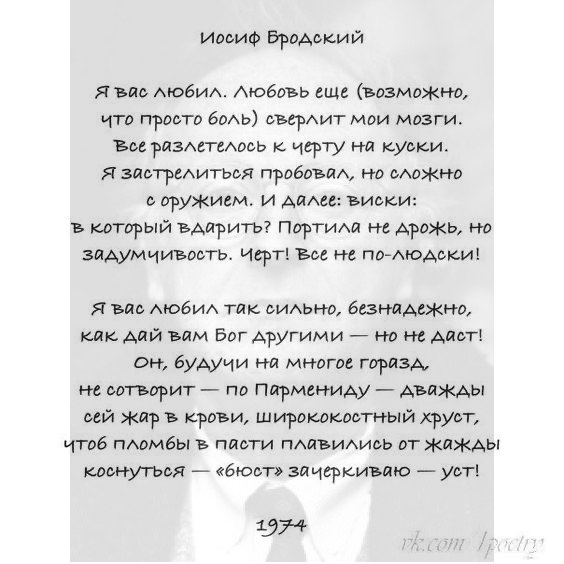 Вы с этим согласны?
Вы с этим согласны?
– Бродский ни в коем случае не стоит особняком. Это продолжение и в какой-то степени завершение традиции русского, точнее даже петербургского постсимволизма и, прежде всего, той его части, которую обычно связывают со словом «акмеизм». Бродский во многом ученик Ахматовой и Мандельштама в части работы с подтекстами и умолчаниями, в других аспектах он тяготел к Цветаевой. Хотя нет сомнений, что у него очень самобытная и независимая поэтическая система. На него сильно повлияла и англоязычная поэзия: Фрост, Оден. В своей Нобелевской лекции Бродский называет этих своих поэтических учителей «источниками света». Развивая эту метафору, можно сказать, что при наложении сигнала от нескольких источников света происходит интерференция. Поэтому важно подчеркнуть, что Бродский – это не сумма влияний, а усиление стиля и приёмов его учителей.
– Есть ли продолжатели традиции Бродского в таком случае?
– Эпигонов Бродского довольно много, ведь кажется, что писать в его манере легко – нужно использовать сложные ритмы, делать побольше переносов, потом читать с определённой интонацией.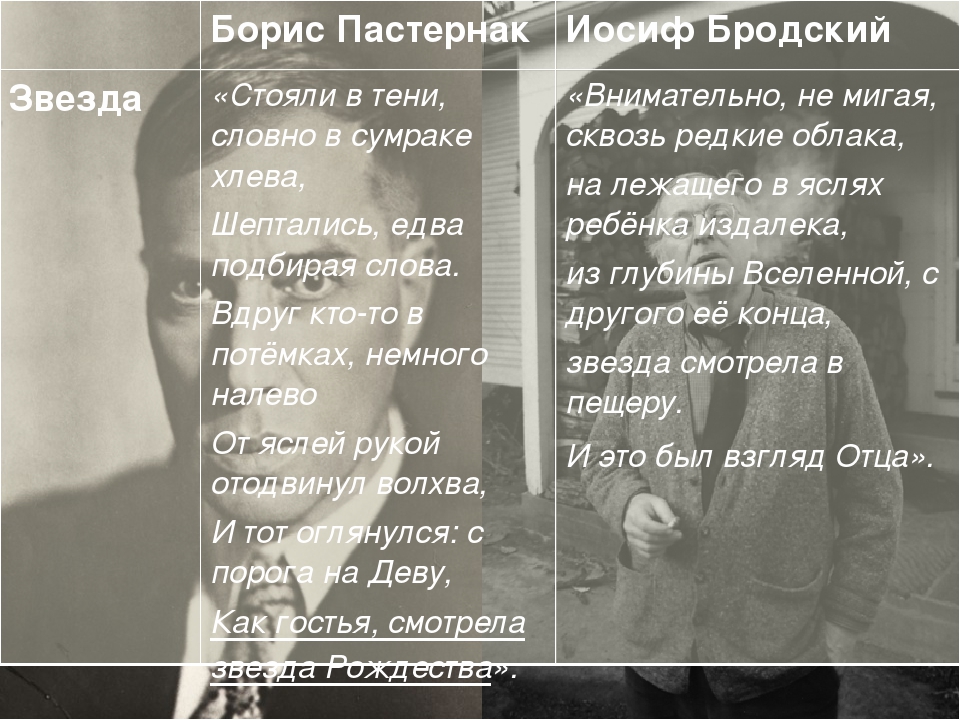 Не вспомню сейчас кого-то конкретного, да это и не очень интересно. Нужно подождать хотя бы лет 20, чтобы эта мощная засветка, раз уж я продолжил его метафору про источники света, в виде Бродского ушла. Но если все-таки говорить о продолжении линии Бродского в сегодняшней русской поэзии, то это продолжение не формальное, а смысловое.
Не вспомню сейчас кого-то конкретного, да это и не очень интересно. Нужно подождать хотя бы лет 20, чтобы эта мощная засветка, раз уж я продолжил его метафору про источники света, в виде Бродского ушла. Но если все-таки говорить о продолжении линии Бродского в сегодняшней русской поэзии, то это продолжение не формальное, а смысловое.
Я бы назвал Марию Степанову, чьи стихи часто меня удивляют неожиданностью интонаций и образов, но всегда радуют. С формальной точки зрения это не очень похоже на Бродского, но она продолжает разговор о том, что волновало его, о соотношении мира и языка, слов и вещей. И порой из-за поворота ее строки показывается что-то, что кажется ответной репликой в разговоре «на воздушных путях» с Бродским и той школой, которая стоит за ним. Ну, например, «слова привязаны к вещам / веревочкой простой» у Степановой, а у Бродского: «как быстро разбухает голова / словами, пожирающими вещи». А это в свою очередь ответ на вопрос Мандельштама: «Разве вещь хозяин слова?». Это все разные позиции, иногда противоположные, но это взгляд на одну и ту же проблему, проблему языка и его отношения к действительности, которая важна для всех них.
Это все разные позиции, иногда противоположные, но это взгляд на одну и ту же проблему, проблему языка и его отношения к действительности, которая важна для всех них.
Возвращаясь к влияниям, я бы сказал, что сейчас все больше становится стихов, сделанных совсем по-другому, с ориентацией на современную американскую поэтическую традицию. Например, всё чаще говорят о влиянии на современных молодых поэтов не Бродского, а Аркадия Драгомощенко. И это замечательно, так работает культура.
– А с чем этот сдвиг связан?
– Я бы объяснил это тем, что Бродский очень много сделал на ниве классической русской поэзии, много экспериментировал с формой, рифмами, синтаксисом. Но за этой свободой всегда стоял жёсткий каркас. Сейчас же прослеживается интерес к поэзии, где такого каркаса нет. Мне кажется, что это закономерность приливов и отливов, смен поэтического стиля. Бродский сегодня – это фигура, после которой сложно что-то изобретать, работая в той же области.
- Памятник Бродскому в Петербурге.

Бродский «делал биографию» сам и был искренен
– Суд над Бродским-«тунеядцем» прославил его на Западе, и его стали воспринимать как человека, оппозиционно настроенного к советской системе, чуть ли не диссидента. Разлетелась цитата Ахматовой: «Какую биографию делают нашему рыжему!» Имеет ли реальные основания образ Бродского как борца с советским режимом – или это скорее является наглядным примером того, как происходит конструирование мифа?
– Диссидентом в прямом смысле этого слова Бродский никогда не был, хотя у него было много друзей среди диссидентов. Какие-то отдельные высказывания Бродского в кругу друзей могут расцениваться как вполне диссидентские, но в его текстах никакого диссидентства нет. Что касается фразы про биографию и рыжего, мы её знаем, в общем-то, по одному источнику – мемуарам «Воспоминания о Ахматовой» Анатолия Наймана. Бродский говорил о том, что фраза схожего содержания действительно была произнесена.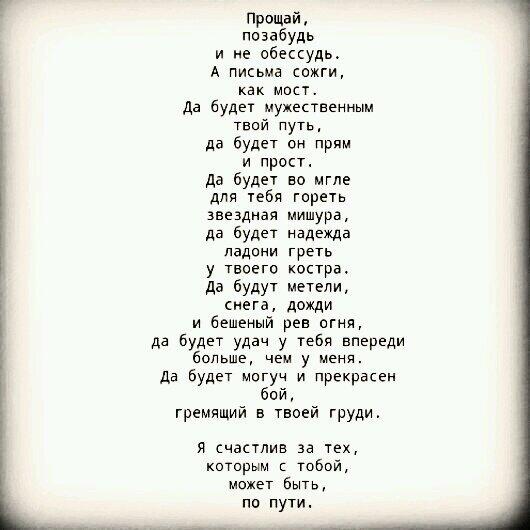 Но именно в такой формулировке Ахматова, на мой взгляд, вряд ли это могла сказать, по форме – это буквальный парафраз из стихотворной повести Ильи Сельвинского «Записки поэта»:
Но именно в такой формулировке Ахматова, на мой взгляд, вряд ли это могла сказать, по форме – это буквальный парафраз из стихотворной повести Ильи Сельвинского «Записки поэта»:
А за гущей рифмэтров, критиков и любопытных
В далеком углу кого-то сосредоточенно били.
Я побледнел: оказывается так надо —
Поэту Есенину делают биографию.
Бродский, начиная с середины шестидесятых, «делал биографию» сам и делал её вполне сознательно – если мы говорим о литературной биографии. Это хорошо прослеживается по ряду его стихов, которые как бы встраивают автора в определенный поэтический контекст и ставят в один ряд с великими поэтами прошлого и современности. Начиная с «Большой элегии Джону Донну», он обращается к классикам на равных, без хлестаковщины («с Пушкиным на дружеской ноге»), но спокойно и уверенно. Свой миф он конструировал сам – посмотрите хотя бы на стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», где ни одного глагола в пассивном залоге.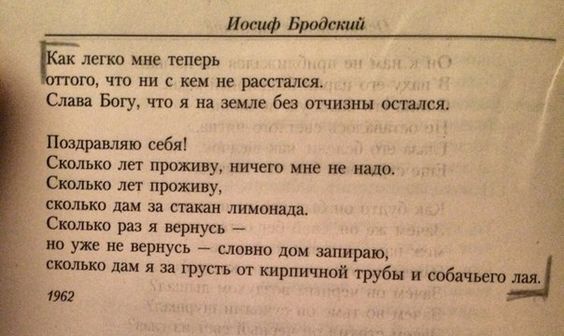
– А на Нобелевскую премию некоторые факты биографии повлияли, по-вашему?
– Во всяком случае, Бродский никогда к этому не стремился и карту «жертвы советского режима» не разыгрывал. И он понимал, на самом деле, что в Советском Союзе были поэты и писатели, у которых судьба сложилась гораздо тяжелее. К слову, Солженицын, прочитав строки из названного стихотворения – «Выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке» – заметил, что срок у Бродского был «вполне детский».
Я думаю, что литературные достижения Бродского связаны с другими вещами. Во-первых, с его потрясающей работоспособностью. Если посмотреть на то, как Бродский работал с текстами, выясняется, что это был ежедневный, тяжёлый труд. Когда на вопрос судьи Савельевой о работе он отвечает: «Я работал — я писал стихи», – это было не позёрство. Он не понимал, почему ему приходится этой женщине объяснять элементарные вещи о том, что писать стихи – это очень серьёзная и тяжелая работа.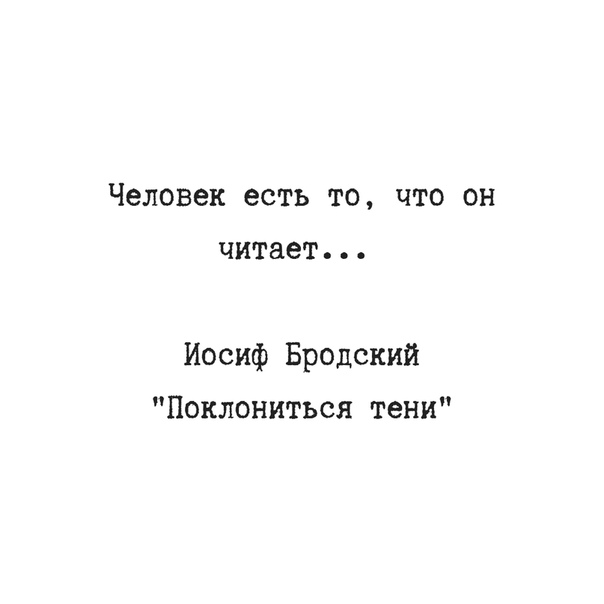
Во-вторых, несмотря на мизантропические ноты, которые нередко находят в стихотворениях Бродского, он умел дружить и быстро входить в интересные ему литературные круги. Когда он покинул Советский Союз и прилетел в Вену, то сразу же поехал к своему любимому поэту Уистену Одену, жившему неподалеку. Бродский тогда довольно плохо говорил по-английски, о чем сам рассказывал, но каким-то образом сумел заинтересовать Одена и вывести его на интересные темы. Бродский выступал в роли обозревателя в New York Review of Books, преподавал в нескольких престижных университетах и колледжах, создавал для студентов свои знаменитые списки книг, которые «должен прочесть каждый». В общем, у Бродского был талант не только работать, но и делать результаты своей работы видимыми.
– Уточню: по-вашему, Бродский на роль борца с системой не подходит?
– Он с системой совершенно не боролся, он просто игнорировал её существование. А система как раз этого не любит и простить не может.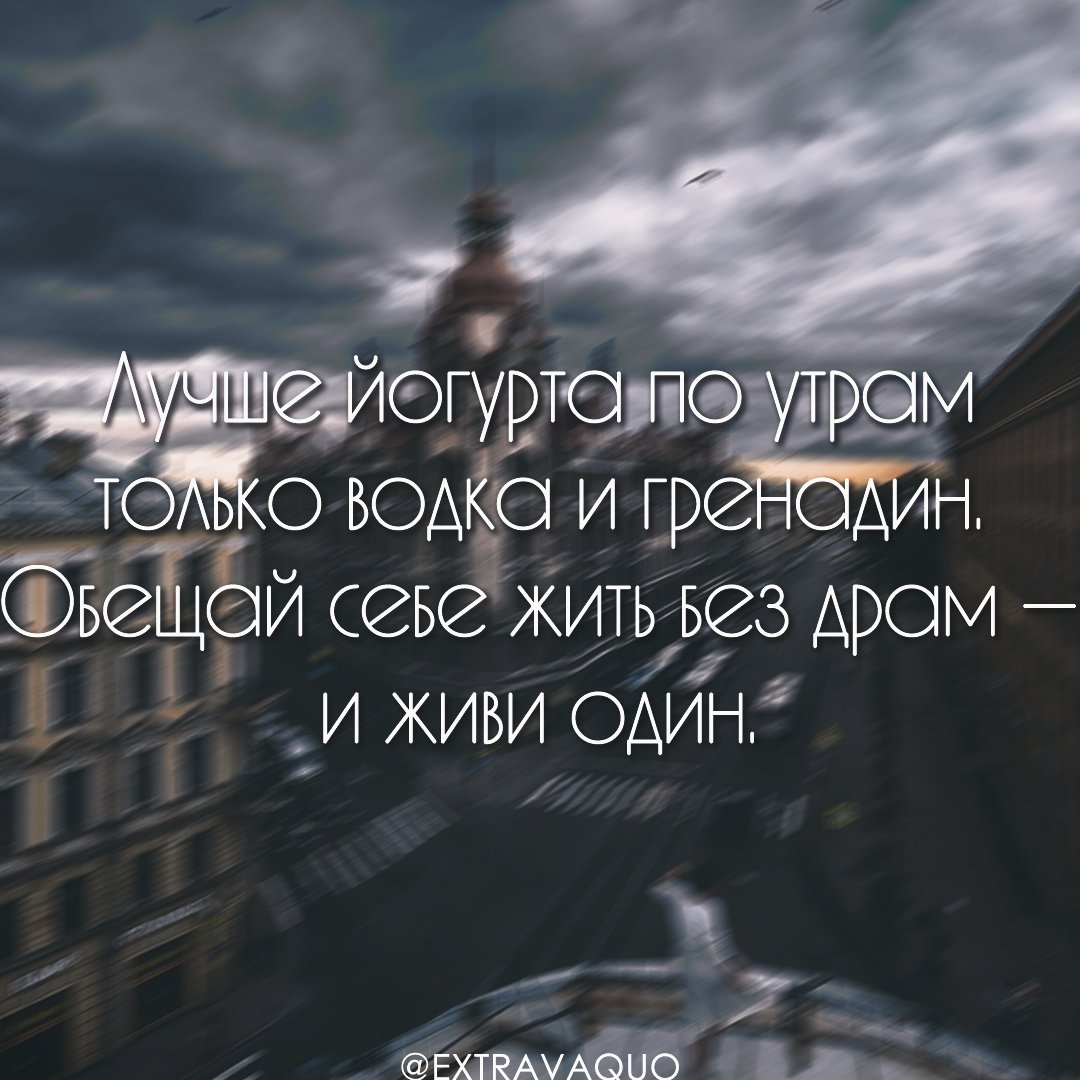 Ненависть простить проще, чем полное равнодушие и пренебрежение. Он просто был поэтом, который не шёл на компромиссы. Когда в конце 1960-х в Ленинграде должна была выйти его книга «Зимняя почта», у него попросили некоторые стихи убрать, а некоторые, наоборот, дописать, дать, в терминах Ахматовой, «паровоз», то есть такое стихотворение, которое устроит партийное начальство и под прикрытием которого можно будет что-то из настоящих стихов протащить. Бродский на такое не соглашался, и даже его стихотворение «Мой народ» было совершенно искренним.
Ненависть простить проще, чем полное равнодушие и пренебрежение. Он просто был поэтом, который не шёл на компромиссы. Когда в конце 1960-х в Ленинграде должна была выйти его книга «Зимняя почта», у него попросили некоторые стихи убрать, а некоторые, наоборот, дописать, дать, в терминах Ахматовой, «паровоз», то есть такое стихотворение, которое устроит партийное начальство и под прикрытием которого можно будет что-то из настоящих стихов протащить. Бродский на такое не соглашался, и даже его стихотворение «Мой народ» было совершенно искренним.
Мой народ
Мой народ, не склонивший своей головы,
Мой народ, сохранивший повадку травы:
В смертный час зажимающий зёрна в горсти,
Сохранивший способность на северном камне расти.
Мой народ, терпеливый и добрый народ,
Пьющий, песни орущий, вперёд
Устремлённый, встающий — огромен и прост —
Выше звёзд: в человеческий рост!
Мой народ, возвышающий лучших сынов,
Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,
Хранящий в себе свои муки — и твёрдый в бою,
Говорящий безстрашно великую правду свою.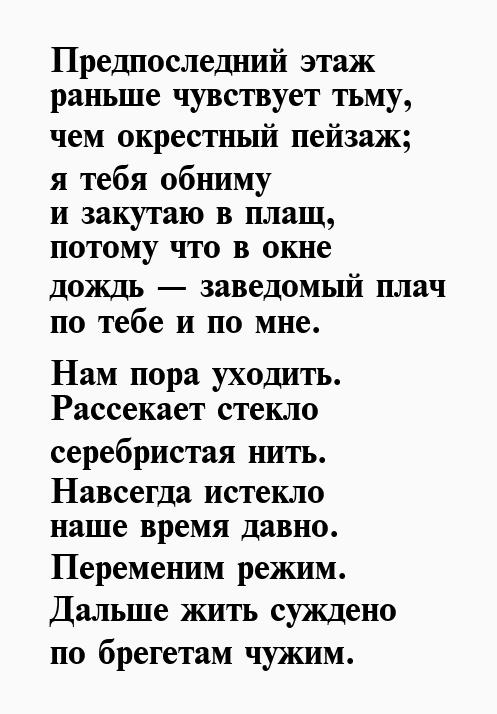
Мой народ, не просивший даров у небес,
Мой народ, ни минуты не мыслящий без
Созиданья, труда, говорящий со всеми, как друг,
И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.
Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!
Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым.
Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.
Но услышишь её, если искренней будет она.
Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот,
Говорящий неправду, ладонью закроет народ,
И такого на свете нигде не найти языка,
Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.
Путь певца — это родиной выбранный путь,
И куда ни взгляни — можно только к народу свернуть,
Раствориться, как капля, в безсчётных людских голосах,
Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.
Пусть возносит народ — а других я не знаю судей,
Словно высохший куст, — самомненье отдельных людей.
Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,
Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.
Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке, безконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.
<1965>
К слову, когда Ахматова услышала «Мой народ», она в тот же день записала в дневнике: «Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в “Мертвом доме”: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович». Ну, она кое-что в этом понимала, да?
У Бродского, конечно, есть стихотворения сильнее. А про народ — оно гениально не в поэтическом смысле, а в том смысле, что Бродский не покривил душой, когда писал это. Он рассказывал не раз, как однажды утром, в Норенской, продирая глаза, чтобы идти на тяжелую сельскую работу, он вдруг понял, что в то же самое время по всей стране люди делают ровно то же самое, он является частью этого целого. Ведь народ для него – это люди, которые говорят на одном языке. И всё равно это стихотворение оказалось не по душе партийным функционерам, ведь там была строка: «Мой пьющий народ». Да и советский подковёрный антисемитизм роль сыграл — о каком таком народе он пишет? Ведь партийные начальники постоянно пытались искать какие-то шифровки.
Например, когда в Ленинградском Союзе писателей обсуждали дело Бродского в марте 1964, и речь зашла о его переводах и о том, что ряд членов Союза хорошо отзывался о нем как о переводчике, один товарищ вскочил и закричал: «Да вы что, не понимаете, это же всё шпионские шифры у него в переводах!»
– Стихотворение «На независимость Украины» тоже было написано искренне?
На независимость Украины
Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
время покажет — кузькину мать, руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченый изотопом,
— жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада —
даром, что без креста: но хохлам не надо.
Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам — подавись мы жмыхом и потолком — не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
<1991>
– Я думаю, да. Здесь нужно иметь в виду две простые вещи. Первая – это исторический контекст. Стихотворение было непосредственной реакцией не на распад Советского Союза, потому что независимость прибалтийских республик Бродский всячески приветствовал. Украина – это было больно для него в том смысле, что это культурная общность и родной народ, ведь даже корни фамилии ведут в город Броды, неподалеку от Львова. И он всегда считал, что украинская культура и русская культура тесно связаны и разрыв между ними — трагедия для обеих. Реакция Бродского в тот момент – это боль, выплеск. Это, по сути, реакция подростка на развод родителей – «папа, ты уходишь, ты подлец».
Второе – это авторская воля. Бродский никогда это стихотворение не печатал и печатать не собирался. Он его читал несколько раз – тогда же, в течение года-полутора, на волне той же непосредственной реакции. И он не включал его в сборники и не печатал не из-за страха. Если бы он действительно хотел его опубликовать, он бы, уверен, это сделал…
– «На независимость Украины» по понятным причинам вписывают в современный контекст, утверждая, что Бродский поддерживал бы присоединение Крыма и прочее. Что вы думаете о таких рассуждениях?
– Думаю, если бы Бродский знал дальнейший ход событий, он бы вряд ли вообще стал читать это стихотворение. Разговоры о том, что он бы приветствовал то, он бы приветствовал сё, что произошло и происходит – лишены всякого основания. Вообще, вписывать слова любого человека, сказанные десятилетия назад, в современный контекст – это как передергивать в карточной игре. Малоприлично.
В стихи Бродского встроен вирус популярности
– Почему Бродский – один из самых популярных поэтов? Чем он так покорил массового читателя и как встроился в мейнстрим?
– Я мало знаком с массовым читателем и не думаю, что массовый читатель хорошо знаком с Бродским. Но интерес к его поэзии есть, и он большой. Если говорить об этом, то мне в голову приходит такая актуальная сегодня метафора. В стихи Бродского встроен вирус, и этот вирус – их звучание, музыкальность, которая с лёгкостью позволяет разным авторам в разных жанрах петь их. А еще они очень легко запоминаются — это для Бродского было очень важно, недаром он своих студентов заставлял по тысяче поэтических строк наизусть учить. Бродский приближает поэзию к разговорной речи, при этом сохраняя музыкальность. Как один из результатов – мы получили поток песен на стихи Бродского: от Сургановой до Васильева и так далее. Стихи Бродского музыкальны и запоминаемы.
- Памятник Иосифу Броскому во дворике филфака СПбГУ
Ещё она причина, почему Бродский так популярен – это то, что его стихотворения часто бывают с двойным, тройным дном. В том же «Не выходи из комнаты» одни слышат инструкцию по самоизоляции, другие говорят, что Солнце – это не звезда, а марка сигарет «Солнце» в противоположность «Шипке», третьи вписывают это в определенный поэтический контекст. И сразу же рождается обсуждение.
- «Солнце» и «Шипка»
– Есть мнение, что популярность Бродского связана с тем, что его поэзия ориентирована на обывателя и играет на ресентиментных (агрессивно-завистливых) чувствах читателя. Похожую мысль высказывал Дмитрий Быков. В этом есть правда?
– Быков использует эту идею в полемическом задоре, или не понимает одну простую вещь. Когда он говорит о «расчеловечивании» в лирике Бродского, об отсутствии называния прежде не названных вещей, его безразличии к людям, непоследовательности и так далее, мне хочется ему напомнить статью Мандельштама «Утро акмеизма». В конце её Мандельштам пишет: «Любите существование вещи больше самой вещи, и своё бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма». И этот завет Бродский выполняет.
В «Римских элегиях» он пишет: «Чем незримее вещь, тем вернее, что она когда-то существовала». Поэтому для Бродского важнее идеи вещей, чем сами вещи. Бродскому, вопреки тому, что видит Быков на поверхности, больше интересны не свои личные страдания, а пределы человеческого страдания, безумия, вдохновения вообще. Естественно, поскольку он говорит об общечеловеческом, это вызывает резонанс у самых разных людей. Обыватель ведь тоже человек. Как и Дмитрий Быков.
– Я правильно понимаю, что, согласно воле Бродского, доступ к его черновикам и документам будет закрыт на долгое время?
– Это не совсем так. Речь идёт о сроке 50 лет – это воля самого Бродского, есть соответствующие документы, например, его письмо в Российскую национальную библиотеку с такой просьбой. А черновики, если это черновики стихов, например, вполне доступны. Вопросы доступа и того, что относится к личному, а что нет, рассматривает Фонд наследственного имущества Бродского, который обеспечивает исполнение воли автора и защиту интересов наследников. Часть архивов лежит в Российской Национальной библиотеке в рукописном отделе. Часть архива – в Йельском университете, а также небольшую, но интересную часть личных коллекций сейчас активно покупает Стэнфорд.
Доступ к творческой части, как я уже сказал, открыт. В Америке этот доступ получить можно просто придя в архив, у нас надо еще оформить некоторое количество бумажек. И это не привилегия каких-то конкретных исследователей. Например, одна моя магистрантка работала с той частью архива, которая лежит в РНБ, её интересовала тема Бродского и кино. Она совершенно спокойно читала киносценарий к фильму про покорителей Арктики, который Броский написал для ленинградских документалистов, и упоминала об этом в своей магистерской. А вот если она захочет написать об этом в книге, или просто опубликовать этот сценарий, то ей придется запросить разрешение правообладателей и с ними договориться — будет это бесплатно или придется заплатить. Это нормальная практика. Я как исследователь Бродского с какими-то проблемами здесь не сталкивался – но я занимаюсь прежде всего стихами.
Что касается личной переписки, она была закрыта по воле Бродского на 50 лет. То есть до 2045, если я правильно считаю. Но и здесь есть нюанс – Фонд даёт разрешение на публикацию отрывков из писем, имеющих научную или литературную ценность в контексте соответствующих исследований. И такие публикации есть. Тут тоже нет ничего специфического. Архив Цветаевой, например, был частично закрыт до 2000 года, но исследователи с ним работали.
Вообще, представляя себе архив Бродского, я бы не сказал, что нас ждут какие-то многочисленные открытия в плане новых стихов и прочего. Основной корпус его поэзии и прозы опубликован, дневников в регулярном смысле Бродский никогда не вёл. Так что остается переписка с друзьями, близкими, поэтами, издателями, личные документы и так далее и так далее. Работа с ней даст возможность прояснить какие-то вещи, связанные с биографическим контекстом его творчества…
– Что будут из себя представлять в итоге знаменитые «Полторы комнаты»?
– В музее ещё ведутся работы, но, насколько я понимаю, этот проект не будет чисто мемориальным – упор будет делаться не только на экспонаты и экскурсии в духе «здесь Бродский спал, здесь Бродский творил». Экспозиция, судя по тому, что я видел и слышал, будет динамичная, это будет микс мемориальных «полутора комнат» и современного культурного пространства.
– И, вероятно, с лекторием, как сейчас модно?
– Да, ведь лекции там проходили и до официального открытия. Вообще, с экспозицией есть ещё и один правовой нюанс. Это же частный музей (основан Фондом создания музея Бродского, поддерживается банками и частными спонсорами – прим. автора), а фонд Бродского – предметы, книги – находятся в государственном музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Согласно законодательству, частные музеи могут заимствовать экспонаты только на время. Это само по себе диктует динамичный подход к формированию музейного пространства. Но, конечно, такой музей городу нужен. Я помню, пять лет назад «полторы комнаты» открывали на один день, в день 75-летия Бродского, и стояла огромная очередь. Сейчас, пока у нас нет туда физического доступа, я могу посоветовать зайти на портал музея Бродский.онлайн, там много всего интересного, в том числе и рассказов о вещах.
– Какие тексты у Бродского, на ваш взгляд, можно считать ключевыми? Иными словами, что точно стоит прочитать, если знаешь только «Не выходи из комнаты» и «Пилигримов»?
– Я бы порекомендовал что-то из венецианских стихотворений Бродского, например, «Венецианские строфы». «Большая элегия Джону Донну» сразу позволит понять, стоит ли дальше читать или нет. «Осенний крик ястреба» тоже. Я впервые в девятнадцать лет прочитал это стихотворение и понял, что я не знаю, как это сделано, но это очень здорово. Из менее известных — «Я проснулся от крика чаек в Дублине» очень хорошо характеризует позднего Бродского. Из любовной лирики – «Горение». Это лучшее стихотворение о любви второй половины XX века. Его ругают за кощунство, но это очень сильный текст. И, конечно, его эссе – я больше всего люблю «Набережную неисцелимых» и автобиографические эссе о жизни в родном городе: «Меньше единицы», «Полторы комнаты», «Трофейное».
Анастасия Беляева
Большая элегия Джону Донну
Джон Дон уснул, уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, бельё, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьях, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, всё.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо…
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, за’мки. Спят весы
средь рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло всё. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
По одиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло всё. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми — к их стыду святому.
Геенна спит и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все — одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое — слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло всё. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.
Но чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос. Тонок, впрямь игла.
А нити нет… И он так одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла…
Сшивая ночь с рассветом… Так высоко!
‘Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей?.. Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?’ — Нет ответа.
‘Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг? Не вы ль? Не вы ль?’ — Молчанье.
‘Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?’ — Но тишь летит навстречу.
‘Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет’.
Молчанье. Тишь. — ‘Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?’
‘Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел также явно светлый Рай
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир — лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд совсем не страшен.
И климат там недвижен, в той стране.
Откуда всё, как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
а только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё — вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — всё станет сном библейским.
Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя прийти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но чу! пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда’.
Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас закрыта тучей.
Подобье птиц. Душа его чиста,
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас — лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло всё. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь — лишь долг певца,
духовная любовь — лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод не лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.
<1963>
М. Б.
Зимний вечер. Дрова
охваченные огнем —
как женская голова
ветреным ясным днем.
Как золотиться прядь,
слепотою грозя!
С лица ее не убрать.
И к лучшему, что нельзя.
Не провести пробор,
гребнем не разделить:
может открыться взор,
способный испепелить.
Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздается ‘не тронь’
и вспыхивает ‘меня!’
От этого — горячо.
Я слышу сквозь хруст в кости
захлебывающееся ‘еще!’
и бешеное ‘пусти!’
Пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя еще одной
зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
завивку. В конце концов —
раскаленность щипцов!
Ты та же, какой была
прежде. Тебе не впрок
раздевшийся догола,
скинувший все швырок.
Только одной тебе
и свойственно, вещь губя,
приравниванье к судьбе
сжигаемого — себя!
Впивающееся в нутро,
взвивающееся вовне,
наряженное пестро,
мы снова наедине!
Это — твой жар, твой пыл!
Не отпирайся! Я
твой почерк не позабыл,
обугленные края.
Как ни скрывай черты,
но предаст тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,
выдохнуться, воспрясть,
метнуться наперерез.
Назорею б та страсть,
воистину бы воскрес!
Пылай, полыхай, греши,
захлебывайся собой.
Как менада пляши
с закушенной губой.
Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!
Так рвутся, треща, шелка,
обнажая места.
То промелькнет щека,
то полыхнут уста.
Так рушатся корпуса,
так из развалин икр
прядают, небеса
вызвездив, сонмы искр.
Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя — зола,
тусклые уголья,
холод, рассвет, снежок,
пляска замерзших розг.
И как сплошной ожог —
не удержавший мозг.
<1981>
Вконтакте
Стихи Иосифа Бродского о жизни
Иосиф Александрович Бродский (24 мая 1940 года – 28 января 1996 года, Бруклин, Нью-Йорк, США, похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции) – русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику – на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1995). Иосиф Бродский // ФормасловТворческая судьба Иосифа Бродского является одной из самых драматичных в истории русской литературы. Поэт, о котором советские власти не просто умалчивали, но в самом факте существования которого заставили усомниться литературную общественность, стал изгоем в России и своим на чужбине. Там же он и умер, так и не повидав своих родителей, тщетно стремящихся добиться разрешения выезда за границу.
Теперь имя выдающегося русско-американского поэта, сумевшего изобрести новый язык, хорошо известно каждому и в России, и за рубежом. Став законодателем поэтической моды на несколько поколений вперёд, кумиром молодёжи, вообще знаковой фигурой современного литературного процесса, Бродский немного запоздало принимает лавры победителя от века, как будто чувствующего свою вину перед ним. Но сам поэт никого и ни в чём не обвиняет и принимает своё одиночество как единственно возможную судьбу, пусть несправедливую и горькую:
Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя одна, твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.
Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.
Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.
Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.
Утешения и защиты от житейских невзгод поэт ищет не у людей, а у природы. Нередко в его стихах появляется образ моря – возможно, это связано и с некоторыми фактами биографии поэта. С юных лет Бродский много путешествует, с 1957 года был рабочим в геологических экспедициях НИИГА, в 1957 и 1958 годах – на Белом море, в 1959 и 1961 годах – в Восточной Сибири и в Северной Якутии, на Анабарском щите. Можно сказать, что морская стихия была у поэта в крови, и в ней он находил много родственного своей душе:
Когда так много позади
Всего, в особенности – горя,
Поддержки чьей-нибудь не жди,
Сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
И глубже. Это превосходство –
Не слишком радостное. Но
Уж если чувствовать сиротство,
То лучше в тех местах, чей вид
Волнует, нежели язвит.
Ключевые темы творчества Бродского – поэзия, экзистенциализм, любовь. Одно из самых сильных увлечений поэта – художница-аристократка Мария Басманова. Ей был посвящён целый цикл стихотворений, но при этом стихи о любви одновременно являлись и горестными раздумьями о жизни – её скоротечности и невозвратности. Почему совсем юный двадцатидвухлетний Бродский ощущал, что у него «будто целая жизнь за плечами»? Возможно, дело в предчувствии той жестокой судьбы, которая была ему уготована в дальнейшем:
Ни тоски, ни любви, ни печали,
ни тревоги, ни боли в груди,
будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.
Оглянись – и увидишь наверно:
в переулке такси тарахтят,
за церковной оградой деревья
над ребенком больным шелестят,
из какой-то неведомой дали
засвистит молодой постовой,
и бессмысленный грохот рояля
поплывет над твоей головой.
Не поймешь, но почувствуешь сразу:
хорошо бы пяти куполам
и пустому теперь диабазу
завещать свою жизнь пополам.
«Экзистенциальный ужас» умалчивания в условиях идеологического неприятия страной его поэзии Бродский переживает своеобразно. Продолжая упорно и непрерывно работать, поэт остаётся верен чувству одиночества избранности, полагая, что надёжная психологическая защита от любого внешнего воздействия – это авторская самобытность, инаковость, творческая оригинальность. Об этом он писал в своём «Напутствии»: «Не менее очевидно, что самая надежная защита от Зла – в бескомпромиссном обособлении личности, в оригинальности мышления, его парадоксальности и, если угодно – эксцентричности. Иными словами, в том, что невозможно исказить и подделать, что будет бессилен надеть на себя, как маску, завзятый лицедей, в том, что принадлежит вам и только вам – как кожа: ее не разделить ни с другом, ни с братом».
Это обособление Бродский подчёркивает даже с помощью излюбленных образов темноты и свечи:
Кто к минувшему глух
и к грядущему прост,
устремляет свой слух
в преждевременный рост.
Как земля, как вода
под небесною мглой,
в каждом чувстве всегда
сила жизни с иглой.
И невольным объят
страхом, вздрогнет, как мышь,
тот, в кого ты свой взгляд устремишь,
из угла устремишь.
Засвети же свечу
на краю темноты.
Я увидеть хочу
то, что чувствуешь ты.
В этом доме ночном,
где скрывает окно,
словно скатерть с пятном,
темноты полотно.
Ставь на скатерть стакан,
чтоб он вдруг не упал,
чтоб сквозь стол-истукан,
словно соль проступал,
незаметный в окне,
ослепительный путь –
будто льется вино
и вздымается грудь.
Ветер, ветер пришел,
шелестит у окна,
укрывается стол
за квадрат полотна,
и трепещут цветы
у него позади,
на краю темноты,
словно сердце в груди.
И чернильная тьма
наступает опять,
как движенье ума
отметается вспять,
и сиянье звезды
на латуни осей
глушит звуки езды
на дистанции всей.
Принятие себя, своей сути в единстве всех внутренних противоречий, всех очевидных симптомов душевной расколотости и раздробленности – вот в чём Бродский видит главную задачу творца. Регулярно общаясь со своим «чёрным человеком», поэт тщательно и без суеты изучает открывающиеся ему бездны, в которых, возможно, залог очередной творческой высоты.
На прения с самим
собою ночь
убив, глотаешь дым,
уже не прочь
в набрякшую гортань
рукой залезть.
По пуговицам грань
готов провесть.
Чиня себе правёж,
душе, уму,
порою изведешь
такую тьму
и времени и слов,
что ломит грудь,
что в зеркало готов
подчас взглянуть.
Но это только ты,
и жизнь твоя
уложена в черты
лица, края
которого тверды
в беде, в труде
и, видимо, чужды
любой среде.
Но это только ты.
Твое лицо
для спорящей четы
само кольцо.
Не зеркала вина,
что скривлен рот:
ты Лотова жена
и сам же Лот.
Но это только ты.
А фон твой — ад.
Смотри без суеты
вперед. Назад
без ужаса смотри.
Будь прям и горд,
раздроблен изнутри,
на ощупь тверд.
18 февраля 1964 года суд постановил направить Бродского на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу, где поэт провёл три недели. Впоследствии поэт отмечал: «…это было худшее время в моей жизни». По его воспоминанию, в психиатрической больнице к нему применяли «укрутку»: «Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело». Заключение экспертизы гласило: «В наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка».
Переживи всех.
Переживи вновь,
словно они – снег,
пляшущий снег снов.
Переживи углы.
Переживи углом.
Перевяжи узлы
между добром и злом.
Но переживи миг.
И переживи век.
Переживи крик.
Переживи смех.
Переживи стих.
Переживи всех.
4 июня 1965 года по решению суда, обвинившего поэта в тунеядстве, Бродского отправили в ссылку в Архангельскую область, в деревню Норенскую. Там поэт узнал мир деревни. Атеист по убеждениям, он тем не менее верит в то, что бог как сверхъестественное начало, отрицаемое советской властью, обитает везде и влияет на души и сознание людей значительно больше, чем система неоправданных и бессмысленных запретов. В одном из стихотворений, написанных в том же 1965 году, Бродский описывает бога как языческого духа, чем-то даже напоминающего домового:
В деревне Бог живёт не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он – в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдаёт
девицу за лесничего. И в шутку
устраивает вечный недолёт
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же всё это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.
Определяя классиков и современников, повлиявших на творческий метод Бродского, следует вспомнить историю личных знакомств поэта с теми, чьим последователем он потом сам себя называл. Из современников на него повлияли Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Станислав Красовицкий, Борис Слуцкий. Позднее Бродский называл величайшими поэтами Одена и Цветаеву, за ними следовали Кавафис и Фрост, замыкали личный канон поэта Рильке, Пастернак, Мандельштам и Ахматова. Тем интереснее найти в его самом первом опубликованном стихотворении, написанном в далёком 1957 году, сходство с легендарной «лесенкой» Маяковского. Да и сама авторская интонация кажется очень оптимистичной и даже немного лозунговой, если не брать во внимание довольно грустное содержание стиха, в котором основная тема – расставание:
Прощай,
позабудь
и не обессудь.
А письма сожги,
как мост.
Да будет мужественным
твой путь,
да будет он прям
и прост.
Да будет во мгле
для тебя гореть
звёздная мишура,
да будет надежда
ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели,
снега, дожди
и бешеный рёв огня,
да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.
Да будет могуч и прекрасен
бой,
гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
которым с тобой,
может быть,
по пути.
О чём бы ни писал Бродский, тема расставания (будущего или нынешнего) всегда оставалась ключевой в его творчестве. С самых юных лет поэт предчувствовал глубокую трагедию своей жизни – злой рок, который однажды навсегда оторвёт его от своих корней, от родных и близких. 16 мая 1972 поэту Иосифу Бродскому было предписано покинуть СССР. Перед этим он был вызван в ОВИР и поставлен перед выбором: немедленная эмиграция или «горячие денёчки» – эта метафора могла означать допросы, психбольницы, тюрьмы. Избрав эмиграцию, Бродский старался оттянуть день отъезда, но власти стремились как можно скорее избавиться от неугодного поэта, и 4 июня 1972 года лишённый советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда по «израильской визе» и по предписанной еврейской эмиграции маршруту – в Вену:
Мне говорят, что нужно уезжать.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Да-да. Я понимаю. Провожать
не следует. Да, я не потеряюсь.
Ах, что вы говорите; дальний путь.
Какой-нибудь ближайший полустанок.
Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.
Я вовсе налегке. Без чемоданов.
Да-да. Пора идти. Благодарю.
Да-да. Пора. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
над родиной деревья поднимают.
Все кончено. Не стану возражать.
Ладони бы пожать; и до свиданья.
Я выздоровел. Нужно уезжать.
Да-да. Благодарю за расставанье.
Вези меня по родине, такси.
Как будто бы я адрес забываю.
В умолкшие поля меня неси.
Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.
Как будто бы я адрес позабыл:
к окошку запотевшему приникну
и над рекой, которую любил,
я расплачусь и лодочника крикну.
(Все кончено. Теперь я не спешу.
Езжай назад спокойно, ради Бога.
Я в небо погляжу и подышу
холодным ветром берега другого.)
Ну, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдешь на родине в подъезд,
я к берегу пологому причалю.
Всё, что происходило в дальнейшей судьбе Иосифа Бродского, было связано с его жизнью в изгнании. За рубежом его высоко ценят, активно печатают, превозносят до небес. Являясь преподавателем нескольких престижных американских вузов, автором многочисленных сборников стихов и эссе, поэт не испытывает чувства удовлетворённости, остро ощущая своё одиночество в чужой стране, отлучённый (как выяснится – уже навсегда) от друзей и родителей. В его творчестве начался переломный момент, наиболее ярко отраженный в произведениях, вошедших в сборник «Часть речи», одним из которых было «Одиссей – Телемаху». В образах древнегреческих героев нетрудно угадать самого Бродского и его сына, с которым поэт был разлучён:
Мой Tелемак,
Tроянская война
окончена. Кто победил – не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки…
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни… Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь; и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.
В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой “за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью”. В том же году стихи поэта впервые после его эмиграции были опубликованы в СССР в журнале “Новый мир”. В 1991 году Бродскому было присуждено почетное звание “Поэт-лауреат Библиотеки Конгресса США”.
Можно сказать, что в творческой жизни поэта постепенно началась оттепель, а вот в жизни реальной всё было сложнее – оставалось всего несколько лет до рокового инфаркта, несколько лет напряжённой творческой работы и постепенного «возвращения» на родину когда-то отнятого у неё гения:
Снаружи темнеет, верней – синеет, точней – чернеет.
Деревья в окне отменяет, диван комнеет.
Я выдохся за день, лампу включать не стану
и с мебелью в комнате вместе в потемки кану.
Пора признать за собой поверхность и, с ней, наклонность
к поверхности, оставить претензии на одушевленность;
хрустнуть суставами, вспомнить кору, коренья и,
смахнув с себя пыль, представить процесс горенья.
Вор, скрипя половицей, шаря вокруг как Шива,
охнет, наткнувшись на нечто твердое, от ушиба.
Но как защита от кражи, тем более – разговора,
это лучше щеколды и крика “держите вора”.
Темнеет, точней – чернеет, вернее – деревенеет,
переходя ту черту, за которой лицо дурнеет,
и на его развалинах, вприсядку и как попало,
неузнаваемость правит подобье бала.
В конце концов, темнота суть число волокон,
перестающих считаться с существованьем окон,
неспособных представить, насколько вещь окрепла
или ослепла от перспективы пепла
и в итоге – темнеет, верней – ровнеет, точней – длиннеет.
Незрячесть крепчает, зерно крупнеет;
ваш зрачок расширяется, и, как бы в ответ на это,
в мозгу вовсю разгорается лампочка анти-света.
Так пропадают из виду; но настоящий финиш
Не там, где кушетку вплотную к стене придвинешь,
но в ее многоногости за полночь, крупным планом
разрывающей ленточку с надписью “Геркуланум”.
Субботним вечером 27 января 1996 года в Нью-Йорке Бродский готовился ехать в Саут-Хэдли и собрал в портфель рукописи и книги, чтобы на следующий день взять с собой. В понедельник начинался весенний семестр. Пожелав жене спокойной ночи, Бродский сказал, что ему нужно ещё поработать, и поднялся к себе в кабинет. Утром, на полу в кабинете его и обнаружила жена. Бродский был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно — инфаркт, поэт умер в ночь на 28 января 1996 года.
В прошлом те, кого любишь, не умирают!
В прошлом они изменяют или прячутся в перспективу.
В прошлом лацканы уже; единственные полуботинки
дымятся у батареи, как развалины буги-вуги.
В прошлом стынущая скамейка
напоминает обилием перекладин
обезумевший знак равенства. В прошлом ветер
до сих пор будоражит смесь
латыни с глаголицей в голом парке:
жэ, че, ша, ща плюс икс, игрек, зет,
и ты звонко смеешься: «Как говорил ваш вождь,
ничего не знаю лучше абракадабры».
В последние годы интерес к творчеству Бродского значительно возрос. Появилось много достойных внимания статей и монографий, посвящённых его жизни, поэзии и эссеистике. На сегодняшний день одной из интереснейших работ можно считать книгу Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским». Сам автор сюжет называет «фантастичным», жанр определяет как «автофикшн», «близкий к авантюрному роману», но настаивает на автобиографичности книги.
«Бродский — поэт несостоявшихся, угнетённых или неудачливых граждан»
Если ты меняешь территорию, надо следить, чтобы масштаб этой территории соответствовал прежней, потому что иначе есть шанс измельчать. Человек, переезжающий из великой страны в малую, начинает писать довольно маломасштабную лирику или маломасштабную прозу. Бродский выбрал Америку, в которой, как он пишет в третьем письме к Виктору Голышеву, «МНОГО всего». И, конечно, он имперский поэт прежде всего потому, что для него ключевые понятия — понятия количественные: напор, энергетика, харизма, длина (он любит длинные стихотворения). В общем, количество у него очень часто преобладает над качеством. Бродский берёт массой, массой текста.
Вот это мне кажется очень важным, очень принципиальным, делающим его невероятно актуальным для ура-патриотов. Ну, дошло дело до того, что в «Известиях» появились две статьи, где Бродского просто провозглашают нашим: «Он не либеральный, он наш». И в малой серии ЖЗЛ вышла книга Владимира Бондаренко «Бродский. Русский поэт», где доказывается то же самое — его глубокая имперскость — на основании таких стихотворений, как «Памяти Жукова», например, или «На независимость Украины» (это любимое сейчас вообще стихотворение у всех ура-патриотов или имперцев).
В чём проблема? Мне кажется, что каждый поэт избывает некоторый фундаментальный внутренний конфликт, и этому конфликту посвящены все его стихи. Вот проза может иметь функцию дескриптивную, описательную. А поэзия всегда так или иначе борется. Она — акт аутотерапии. Она борется с авторским главным комплексом, главной проблемой.
Хотя Пушкин — бесконечно сложное явление, но у Пушкина, на мой взгляд, одна из главных проблем — это проблема государственной невостребованности, проблема государственника, который не востребован государством. И отсюда вытекает его сквозной инвариантный мотив ожившей статуи. Человек обращался к статуе в надежде, что она с ним заговорит, обращался к истукану, а этот истукан стал его преследовать, давить, диалога не вышло — конфликт «Медного всадника». Роман Якобсон* это всё расписал довольно детально.
Конфликт Маяковского, им самим сформулированный: «Такой большой и такой ненужный?» Такая огромная интонационная умелость, такая избыточность эмоциональная — и вот так не нужен никому. Такой огромный — и такой не приложимый ни к чему. Все маленькие.
Главный конфликт в текстах Бродского, который очевиден, который сразу обнажается читателю, — это конфликт между потрясающей стиховой виртуозностью, как писал Юрий Карабчиевский**, «с несколько даже снисходительным богатством инструментария», владением всем, и, я должен заметить, довольно бедным и, я бы даже рискнул сказать, довольно общим смыслом, который в это вложен, довольно обывательскими ощущениями. Именно поэтому Бродский — это такой поэт большинства.
Бродский вообще очень любим людьми, чьё самолюбие входит в непримиримый конфликт с их реальным положением. Поэт отвергнутых любовников, поэт несостоявшихся, угнетённых или неудачливых граждан, потому что им нравится отвергать, им нравится презирать. И доминирующая эмоция Бродского — презрение. Скажем, презрение римской статуи.
Как ни относись к Бродскому, нельзя не признать восхитительной, заразительной и бесконечно привлекательной манеру выражения его мыслей и нельзя не ужаснуться их бедности, их узости. И здесь я рискну сказать, может быть, достаточно горькую вещь и достаточно неожиданную.
Говорят: «Маяковский сегодня воспевает свободу, а завтра — диктатуру; сегодня пишет: “У Вильгельма Гогенцоллерна // Размалюем рожу колерно”, а завтра сочиняет пацифистскую “Войну и мир”». Но дело в том, что к Маяковскому эти претензии ещё меньше приложимы, чем, например, к Паваротти. Паваротти сегодня поёт какую-нибудь воинственную арию, а завтра — сугубо элегическую; сегодня поёт марш милитаристский, а завтра — «Ах, не хочу на войну», условно говоря. Ключевое слово в поэзии Маяковского — «голос». Оно одно из самых употребительных. Кроме «голоса», там нет практически ничего. Маяковский говорит не то, что он думает, а то, что интонационно привлекательно, или, вернее сказать, — он думает то, что хорошо говорится, что приятно будет сказать.
Применительно к Бродскому Александр Житинский сформулировал замечательно точную мысль: «Необычайно приятно читать Бродского вслух». И девушке его вслух читать приятно, и приятно его читать с трибуны, и самому себе его приятно произносить. Знаете, иногда один в комнате сидишь и твердишь себе какие-то хорошие стихи, просто чтобы одиночество не так давило на уши. Да, Бродского приятно читать вслух.
И всё, что он говорит, приятно сформулировано, даже когда это вещи абсолютно взаимоисключающие. Например, стихи «На независимость Украины» мы все знаем, они теперь довольно широко цитируются, все помнят эти формулы. Но ведь задолго до этого этот так называемый имперский Бродский написал совершенно не имперские, а более того — антиимперские, довольно страшные «Стихи о зимней кампании 1980 года», стихи об Афганистане. Помните эти действительно страшные стихи про то, что люди свалены, как «человеческая свинина», и:
Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!
о есть слава тем, кто не родил новые поколения солдат этой империи. Страшно звучит? Конечно, страшно. Я бы сказал — просто кощунственно. А после этого — совершенно имперские по тону стихи «На независимость Украины».
Бродский говорит то, что хорошо звучит. Стоит ли за этим глубокая личная убеждённость? Я думаю, нет. Это процесс, который обозначен у него самого, как «пение сироты радует меломана». Человек поёт, просто чтобы не сойти с ума. Это достаточно горькое занятие, но, по строгому счёту, поэт совершенно не обязан думать то, что говорит. Он говорит то, что эффектно звучит. Таковы не все поэты. Не таков Блок, например. Может быть, именно поэтому так не любил Бродский нашего Сан Саныча. Нет этого совершенно у Окуджавы. Господи, у очень многих этого нет.
Бродский написал «На смерть Жукова» — стихи абсолютно советские; стихи, о которых Никита Елисеев, любимый мой критик, в своей статье в «Звезде» совершенно правильно пишет, что они органично смотрелись бы в «Правде» (где они, кстати, в конце концов и были напечатаны, но уже после конца советской власти). У меня довольно много претензий к этим стихам, там можно со многим поспорить.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском манёвра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.
Почему меч был вражьих тупей? Российская школа военного искусства никогда не уступала никому. Или если о качестве оружия идёт речь — так тоже с оружием всё было вроде бы неплохо (и «Т-34», и впоследствии «АКМ»). Давайте вспомним дальше:
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
Почему в области адской? Почему солдаты-победители должны оказаться в области адской? И почему вместе с ними там Жуков? Я уж не говорю о «блеске манёвра» применительно к Жукову — достаточно почитать книгу Виктора Суворова, чтобы возникли серьёзные вопросы.
Но почему мы, как идиоты, придираемся к мелочам? Нас что интересует, в конце концов, — риторика или смысл? В данном случае Бродский риторически убедителен, лозунго-возразителен. И именно поэтому он так востребован в имперском лагере, где громкость звука есть главный принцип звука и где риторика важнее человечности. У меня очень серьёзные сомнения в том, что Бродский — поэт, которого можно назвать человечным. «Человеческое, слишком человеческое», — мог бы он повторить вслед за великим французом*. Именно французом. Ницше эта фраза не принадлежит.
Расчеловечивание, если угодно, — главная тема Брод- ского: дыхание в безвоздушном пространстве, стремление вырваться из человеческого, тёплого, примитивного, мелкого и улететь в какие-то надзвёздные страшные высоты. Это тема «Осеннего крика ястреба» — кстати, одного из лучших и самых виртуозных стихотворений Бродского.
Что такое сверхчеловек? То, признаки чего сегодня многие усматривают в Бродском. Бродский сверхвиртуозен, сверходинок, сверхнезависим. Но человечность здесь ни при чём. Мне кажется, что сверхчеловек — это Пьер Безухов, например, потому что он сверхчеловечен. Поэзия же Бродского совершенно лишена таких эмоций, как умиление, сентиментальность. Даже любовь у него всегда — это такой вой оскорблённого собственника, страдание оскорблённой, неудовлетворённой любви, перерождающейся в ненависть. Мы не дождёмся от Бродского ничего вроде «…Как дай вам Бог любимой быть другим». Он сам это спародировал:
..как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!
И, кстати говоря, вряд ли мы дождались бы от Пушкина слов вроде:
Четверть века назад ты питала пристрастье к люля
и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Человек имеет право на злость, но нуждается ли эта злость в столь эффектном поэтическом оформлении, мне не всегда понятно. Да, эмоция Бродского заразительна, но она потому и заразительна, что эта эмоция обывательская, самая обычная: эмоция злобы, обиды, эмоция сарказма. Мне кажется, что все разговоры о всепрощении Бродского, о том, что он не озлобился после ссылки, — это чистая риторика.
Как сильно он не озлобился, давайте почитаем, скажем, в «Представлении» — поэме, в которой просто желчь клокочет! Зачем нам всё время повторять слова Бродского: «Я не стану мазать дёгтем ворота моего отечества»? А что же он делает, интересно, в «Представлении»? Не ворота мажет?
Это — кошка, это — мышка.
Это — лагерь, это — вышка.
Это — время тихой сапой
убивает маму с папой.
Мы все знаем, какое время убило маму с папой. Я уж не говорю об этом: «Входит Пушкин в лётном шлеме, в тонких пальцах — папироса». Всё это — глумление над имиджами, над куклами, над муляжами. Где же здесь высокая нота всепрощения? Нет — и слава богу. Это очень органические стихи.
Мне кажется, что Бродский лишь в очень немногих стихах достиг некоторой новой интонации, не обывательской. Может быть, именно поэтому эти стихи так нелюбимы обывателем, так мало ему известны. Я говорю о «Пятой годовщине» — стихотворении, где вполне понятная саркастическая злоба переходит в интонацию высокой печали. Это 1977 год, это пять лет после отъезда.
Падучая звезда, тем паче — астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.
Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.
Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.
Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат.
(Абсолютно проходная строка, ничего не значащая.)
Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.
Неугомонный Терек там ищет третий берег.
Там дедушку в упор рассматривает внучек.
И к звёздам до сих пор там запускают жучек
плюс офицеров, чьих не осознать получек.
Зимой в пустых садах трубят гипербореи,
и рёбер больше там у пыльной батареи
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее
нащупывает их рукой замёрзшей странник.
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трёхгранник.
(Обратите внимание, какая гениальная строчка. Вот эта имперская мастурбация! Я уж не говорю о том, что «третий берег» — как искать пятый угол. Вы знаете, когда человека бьют, он в комнате ищет пятый угол, мечась по ней. «Неугомонный Терек там ищет третий берег».)
Там при словах «я за» течёт со щёк извёстка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой даёт раза соседним странам войско.
Там пышная сирень бушует в палисаде.
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.
Там в воздухе висят обрывки старых арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.
(Я пропускаю довольно значительную часть.)
Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие моё большой дыры в пейзаже
не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.
Её затянут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.
Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,
паясничать. Ну что ж! на всё свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны
казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком.
Здесь очень точная мысль. Россия представлена как некий образ вечности — прекрасной вечности, мрачной вечности, трагической, — представлена как школа небытия. Трагическая школа, после которой обычное небытие не так уж страшно. Россия представлена как великая школа творческого одиночества, после которой американское одиночество эмигранту уже не страшно.
Это гениальные стихи, на мой взгляд. У Бродского много гениальных стихов. И «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» я мог бы назвать, и вся «Часть речи», выдержанная в этой же интонации
Но, к сожалению, у Бродского очень много и того, что легко подхватывается. Сколько юношей тепличных подхватывает за Бродским его интонацию презрения, перечисления, как сказано у Владимира Новикова — «дефиницию вместо метафоры». Да, в этом смысле Бродский чрезвычайно заразителен.
— С чего лучше начинать читать Бродского?
— С «Двадцати сонетов к Марии Стюарт», с «Дебюта». Вот «Дебют» — знаете, я не люблю это стихотворение, оно мне кажется довольно циничным. Но при этом, во-первых, оно очень хорошо сделано; а во-вторых, в нём есть та редкая у Бродского нота насмешливой, горькой, иронической, трезвой, но всё-таки любви. Знаете, оно такое бесконечно грустное.
Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час ещё спала.
Она лежала в ванне, ощущая
всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в неё через ещё одно
отверстие, знакомящее с миром.
Это очень здорово. По-моему, даже лучше, чем «Похороны Бобо», тоже прекрасное стихотворение.
Чем Бродский соблазнителен и почему он так легко ложится на душу патриотам? Мне, кстати, уже написали: «На самом деле в Бродском есть всё. Можно вытащить из него патриотизм, можно — либерализм». Но, понимаете, есть определённая предрасположенность.
Вот из Пушкина никак не сделаешь ура-патриота, хотя он написал «Клеветникам России». В Пушкине же тоже есть всё. Но сам дискурс Пушкина, сама стилистика Пушкина — это стилистика даже не просто демократическая, а дружественная, в ней нет презрения. Интонацию Пушкина нельзя назвать холодной. Понимаете, как сказал Сергей Довлатов (хотя я уверен почему-то, что выдумал не он): «Смерть — это присоединение к большинству». И эта установка на смерть, на холод, на одиночество, на мертвечину — это капитуляция, это присоединение к большинству. Пушкин в некоторых стихах холоден, но он никогда не презрителен.
Можно ли представить более трагическое стихотворение, чем «Вновь я посетил…»? Вот где прощание с жизнью. Но это прощание — как в замечательном стихотворении Джона Донна, — прощание, запрещающее грусть. Это прощание, запрещающее отчаяние. А Бродский — это именно поэт отчаяния, обиды, одиночества, поэт преодоления жизни. Но жизнь не надо преодолевать, она и так очень уязвима, она очень холодна.
Есть разные выходы из ситуации эмиграции. Я не большой фанат позднего Эдуарда Лимонова, но ранний Лимонов написал «Это я — Эдичка» — книгу, которая полна такой боли и такой обнажённой плоти (действительно не просто обнажённой, а плоти с содранной кожей), такой человечности! Это книга, полная самых горячих детских слёз, детской сентиментальности. Вспомните даже рассказ Лимонова «Mother’s Day» («Материнский день») или совершенно замечательную «Обыкновенную драку». Он не побоялся в Америке быть человеком. Он, конечно, всю кожу на этом ободрал, он на этом заледенел, но процесс этого оледенения у него описан с человеческой теплотой, горечью и тоской. И мне кажется, что «тёплый» — это вообще не ругательство применительно к литературе.
Холод Бродского представляется мне как бы таким температурным слиянием с окружающей средой — это в известном смысле конформизм. И обратите внимание, что популярность Бродского основана именно на том, что чаще всего он говорит вслух о вещах, которые нам приятно соиспытывать, которые нам приятно с ним разделить: это обида, ненависть, мстительность и по отношению к возлюбленной, и часто по отношению к Родине, и к бывшим друзьям; это попытки самоутешения «да, действительно я в одиночестве, но зато я ближе к Богу в этом состоянии». Например:
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю, как клубок,
на себя пустоту её, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.
Бог знает совершенно другие вещи! Понимаете? Наматывать на себя пустоту — это не значит стать Богом.
Тут уже шквал негодования на меня обрушивается:
— В чём глубокие истоки вашей нелюбви к Бродскому?
— Конечно, самое простое — сказать «в зависти». Ну, дурак тот, кто не завидует Нобелевской премии. Но дело не в этом.
Я разделяю примерно всех людей — всех поэтов, всех писателей вообще — на тех, кто повышает ваше самоуважение, и тех, кто его понижает.
Так вот, Бродский — это поэт для повышения читательской самоидентификации, уважения читателя к себе, для повышения самомнения: «Я читаю Бродского, я читаю сложный текст — уже хорошо». Понимаете, это яркая, эффектная формулировка довольно банальных вещей. Вот это меня, собственно, и напрягает.
Если бы в его стихах были такие смысловые открытия, которые есть у Заболоцкого, если бы там были те парадоксы, которые есть у Слуцкого (а Слуцкий был одним из учителей для Бродского, Бродский к нему очень уважительно относился), если бы там были эмоционально новые, не описанные раньше состояния, которые есть у Самойлова… Ну, возьмите такие его стихи, как «Дезертир» (кстати, блестящий разбор Андрея Немзера этого стихотворения), возьмите «Полночь под Иван-Купала». В них Самойлов очень многие несуществующие вещи назвал. То есть не то что несуществующие, а не существовавшие до этого в литературе. Возьмите его «Сербские песни», возьмите «Беатриче», где о любви, старческой любви, много такого сказано, о чём не принято было говорить.
Я не могу найти у Бродского называния прежде не на- званных вещей. Я могу найти у него более эффектные, более яркие формулировки давно известных вещей. Как известно, патриоты вообще очень любят банальности, потому что интеллекта патриоты не любят (я говорю о наших специфических патриотах — ненавистниках всего живого), потому что очень трудно управлять человеком небанальным. А вот пышно сформулированные банальности — это главный элемент патриотического дискурса.
Всё это не значит, что у Бродского мало выдающихся стихотворений. У него есть абсолютно выдающиеся стихотворения, в которых формулируются вещи, на мой взгляд, не просто спорные, а противные. Но «На независимость Украины», которое многие называют ироническим стихотворением, пародией (конечно, никакой пародии там нет, всё очень серьёзно, на мой взгляд), — это тот довольно редкий у Бродского случай, когда бедность мысли оборачивается и бедностью формы. Форма этого стихотворения чрезвычайно тривиальная.
Возьмём, например… Господи, мало ли великих стихов о том же Карле XII. У Станислава Куняева (ужасную вещь сейчас скажу) стихотворение «А всё-таки нация чтит короля» — это великое стихотворение, при том что оно, как вы знаете, памяти Сталина вообще-то. Куняев об этом совершенно не скрывая заявил. Знаете, оно лучше, чем «Памяти Жукова», потому что оно, во-первых, проще, прозрачнее и, во-вторых, оно откровеннее, что ли. Это не значит, что Куняев лучше Бродского. Куняев гораздо хуже Бродского, но стихотворение лучше, чем «На независимость Украины».
А всё-таки нация чтит короля —
безумца, распутника, авантюриста,
за то, что во имя бесцельного риска
он вышел к Полтаве, тщеславьем горя.
За то, что он жизнь понимал, как игру,
за то, что он уровень жизни понизил,
за то, что он уровень славы повысил,
как равный, бросая перчатку Петру.
А всё-таки нация чтит короля
за то, что оставил страну разорённой,
за то, что, рискуя фамильной короной,
привёл гренадеров в чужие поля.
За то, что цвет нации он положил,
за то, что был в Швеции первою шпагой,
за то, что, весь мир удивляя отвагой,
погиб легкомысленно, так же, как жил.
За то, что для родины он ничего
не сделал, а может быть, и не старался.
За то, что на родине после него
два века никто на войну не собрался.
И уровень славы упал до нуля,
и уровень жизни взлетел до предела…
Разумные люди. У каждого — дело.
И всё-таки нация чтит короля!
Понимаете, это, может быть, и безнравственные стихи (хотя поэзия выше нравственности, как сказано у Пушкина), может быть, это не очень совершенные стихи, но в них нет самолюбования, в них нет желания абсолютной правоты, и мертвечины в них нет. Они не мёртвые, они — живые. Я ещё раз скажу: лучше плохие живые стихи, чем совершенные мёртвые.
Тут меня спрашивают, как я отношусь к книге Карабчиевского, на которую я сослался. В книге Карабчиевского есть один удивительный парадокс. Например, он говорит, что Бродского невозможно запомнить наизусть. Как невозможно? Запоминаются с первого прочтения! Подите забудьте «Письма римскому другу». Это забыть гораздо труднее, чем запомнить.
Но проблема-то есть. Проблема в том, что эти стихи, становясь частью вашей речи, входя в вашу речь, ничего не добавляют ни к вашему уму, ни к вашему сердцу, они не делают вас другим. Они дают лучший вид, лучший лоск, лучшую формулировку вам, а иногда — и самому отвратительному в вас. Наверное, я тоже говорю какие-то вещи очень уязвимые, они многим покажутся глупостью. Это естественно, потому что быть уязвимым — это одна из примет живого, а я всё-таки надеюсь оставаться живым.
Бродский именно потому так нравится двум категориям людей: блатным (у Юрия Милославского это хорошо обосновано в его «Из отрывков о Бродском»), и очень нравится — сейчас, во всяком случае — ура-патриотам. Нравится именно потому, что человечное для них подозрительно, а бесчеловечное им кажется лучше, выше. А мне кажется, что человека и так мало. Зачем же ещё уменьшать его количество?
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью: как и чем жил поэт, который родился в России, а изменил весь мир
Прилетев в 1972-м в США, Бродский получает место преподавателя в скромном университетском городке Анн-Арбор, что под боком у автомобильных конвейеров Детройта. Об этих местах поэт потом напишет: «И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили». Здесь Бродский получает 12 тысяч долларов в год (до вычета налогов) и ведет два курса: русская литература XVIII и XX веков. Новый преподаватель похож на ворона и говорит по-английски на каком-то вороньем наречии. Бродский может закурить посреди лекции, рассказать анекдот или вдруг разозлиться, если кто-то из студентов, изучающих русскую поэзию, не читал, например, «Бхагавадгиту». Бродский постоянно жалуется декану, что студенты его малограмотны и совершенно ничего не знают. Уже после Нобелевской премии на вопрос учеников, зачем он до сих пор преподает (ведь уже не ради денег), Бродский ответит: «Просто я хочу, чтобы вы полюбили то, что люблю я».
Быть профессором в Америке, конечно, не так выгодно, как хоккеистом или баскетболистом. Но принцип тот же: чем лучше играешь — тем больше университетов за тобой охотятся.
Декан Эллис рассказывает, как заманивал Бродского из Анн-Арбора в Новую Англию: «Я пригласил Иосифа к себе домой, спросил, сколько он получает в Анн-Арборе, и сказал, что буду платить в четыре раза больше. Я просто решил, что это величайший поэт своего времени».
В Новой Англии, в «долине пионеров», которую называют так в честь первых английских поселенцев, Бродский становится профессором знаменитых Пяти колледжей. Но главная его работа — в колледже Маунт-Холиок, учебном заведении «только для девушек». Этот американский колледж был основан в 1837-м, в год смерти Пушкина. Здесь всегда царил железный женский порядок. Об этом колледже, оплоте феминизма и политкорректности, Бродский высказался с прямотой динозавра: «Чувствую себя как лис в курятнике». А на вопрос «Как вы относитесь к движению за освобождение женщин?» ответил: «Отрицательно».
Многие студенты вспоминают Бродского как человека «восхитительно некорректного». Начав преподавать в Америке в самый разгар холодной войны, он повесил на двери своего кабинета листок Here are Russians. (В те годы была популярна фраза «Русские идут», листок гласил: «Русские дошли».) А однажды, разбирая со студентами «Гамлета», он спросил: «А где находится Датское королевство, Дания?» и, когда никто не смог ответить, разозлился: «Нация, которая не знает географии, заслуживает быть завоеванной!» Начинались времена политического активизма, а Иосиф вещал с университетской кафедры: «Ну, политический активизм, ну, перестроить общество, ну хорошо. Но лучше найти одного человека. И любить его до конца жизни».
Преподавание не мешает ни академическому, ни поэтическому взлету Бродского. Именно в Новой Англии он преодолевает свой главный американский страх, что не сможет писать по-русски, как прежде. Выходит сборник его американских стихов «Часть речи». В них уже не петербургский пейзаж, а маленькие городки Новой Англии, Кейп-Код, Атлантика, долина Коннектикута. Но услышать их должны те, кто по ту сторону океана: «Колыбельную Трескового мыса» он посвящает своему сыну, Андрею Басманову, а самое пронзительное «Ниоткуда с любовью» — Марине Басмановой. М. Б.
Майкл Скаммелл: Гордость и Поэзия
Из Лондона Бродский отправился в Мичиган, где его ждала работа и где он устроился на удивление быстро. Ключом к его быстрой ассимиляции был стоицизм, с которым он приспособился к изгнанию. Ему нравилось называть Америку шутливым «продолжением космоса», и, будучи не чужд отчужденности в России, он с очевидной легкостью адаптировался к своей новой родине, лаконично определяя себя как «еврей, русский поэт, гражданин Америки». .Фактически, он стал почти таким же патриотом по отношению к Америке, как и к России, и решительно защищал свою новую страну от ее критиков. Его путь был облегчен благодаря появлению большого числа академических поклонников, которые он приобрел, которые распространяли информацию о его поэзии, сотрудничали с ним в переводах и помогли ему получить ряд должностей в колледже в качестве профессора или постоянного поэта. Довольно быстро Бродский зарекомендовал себя как крупный поэт и общественный интеллигент и, в конце концов, покорил вершины американского литературного и культурного мира, выиграв почти все возможные стипендии и литературные премии.В 1987 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе, а четыре года спустя стал лауреатом поэт-лауреатов Америки, получив при этом почетные докторские степени и награды в Америке и за рубежом. В 1990 году, в конце своей жизни, он женился на красивой и образованной молодой итальянке русского происхождения по имени Мария Соццани, от которой у него родилась дочь Анна, и, похоже, перед своей смертью он провел короткий период спокойной семейной жизни в Америке и Италии. после серии сердечных приступов в трагически молодом возрасте пятидесяти пяти лет.
РЕЗЮМЕ ЭТОГО краткого обзора двадцати четырех лет, проведенных Бродским в Америке, отражает заметную и явно странную черту биографии Лосева, а именно скудность ее более поздних глав. Лосев посвящает только две полные главы американским годам Бродского по сравнению с семью годами, когда он провел в Советском Союзе тридцать два года. Это, мягко говоря, сбивает с толку, и эффект усиливается решением Лосева сохранить русскость поэта в центре своего повествования даже в этой новой среде.Лосев (который жил в Америке одновременно с Бродским) с готовностью признает необычную легкость, с которой Бродский воспринял чуждые американские идеи о личной свободе и принятии ответственности за собственное материальное и духовное существование, но он изо всех сил старается подчеркнуть, насколько это необычно. для русского эмигранта, чтобы ответить таким образом, и продолжает перемежать скудные биографические факты пространными комментариями к новым русским стихам Бродского. Даже подраздел «Бродский в Нью-Йорке» посвящен в основном отношениям поэта (хорошим и плохим) с другими русскими в эмиграции.Эти страницы, являющиеся сплетнями и отражением собственного опыта Лосева после его приезда в Америку, интересно читать, если вы знаете вовлеченных персонажей, но мне интересно, сколько от них получит американская аудитория.
Частичное объяснение этого строгого ограничения книги Лосева можно найти в небольшом материале на лицевой стороне, где мы узнаем, что изначально она была написана для русской аудитории как часть почтенной серии под названием «Жизни известных людей. », Редакторы которого, очевидно, мало интересовались жизнью Бродского за пределами Родины.Издателям было бы полезно прояснить это, и они могли бы также убедить Лосева расширить его американские отделения. Более того, русские сериалы не только почитаемы, но и почитают своих сюжетов больше, чем это принято в западных биографиях; и хотя сосредоточенность Лосева на поэзии поначалу освежает, его однобокий метод приводит к искажениям, которые могут вводить в заблуждение. «Центральному событию» романа Бродского с Басмановой и рождению их сына отводится полстраницы даже в русском разделе с лишь мимолетной ссылкой на попытку самоубийства Бродского по сравнению с четырьмя страницами стихов, посвященных Басмановой.Что касается Кузнецовой и ее дочери, то они вообще не упоминаются.
Возможно, более веское объяснение намекает на эксцентричное заявление Лосева о том, что он не имеет права писать биографию Бродского, «потому что Иосиф был моим близким другом более тридцати лет». Что Босуэлл сделал бы с таким заявлением? Похоже, это косвенный способ сослаться на яростную критику Бродского против правильной биографии. «Биография писателя написана в его манерах», — написал он в своем великолепном эссе «Меньше одного», а потенциальному биографу возразил: «Поэт — не человек действия…. Если вы задумали написать биографию поэта, вы должны написать биографию его стихов ». К своему завещанию Бродский приложил следующее предписание: «Поместье не разрешает никаких биографий или публикацию писем или дневников [после моей смерти] … Моих друзей и родственников просят не сотрудничать с несанкционированной публикацией биографий, биографических исследований, дневников, или буквы. » Шелли, Байрон, Харди, Джеймс, Оден и любое количество выдающихся предшественников согласились бы с ним, но Лосев попадает в небольшую неприятность из-за приглушенной мести: при жизни Бродский любил читать — что еще? — биографии знаменитых людей. поэты.
Составлено Питером Арменти, специалистом по цифровой справочной информации
10 мая 1991 года библиотекарь Конгресса США Джеймс Х.Биллингтон назначил Иосифа Бродского (1940–1996) пятым поэт-лауреатом-консультантом Библиотеки Конгресса по поэзии. Как отмечается в «Современной литературной критике», Бродский «был известен поэзией, в которой он использовал сложный ритм, размер и обширную игру слов, чтобы обратиться к таким темам, как изгнание, потеря и смерть. Он также часто использовал классическую западную мифологию и философию, а также иудео. -Христианское богословие в его произведениях ». 1 Бродский прослужил один срок в качестве поэта-лауреата, завершив свою работу весной 1992 года.Во время своего пребывания в должности лауреата Бродский инициировал идею распространения стихов в общественных местах — супермаркетах, гостиницах, аэропортах, больницах — где люди собираются и «могут убивать время, как время убивает их». Вскоре после того, как его срок закончился, Бродский вместе с Эндрю Кэрроллом сформировал The American Poetry & Literacy Project, миссия которого — расширить доступ американцев к поэзии путем распространения книг в общественных местах. Одной из первых попыток проекта было распространение бесплатных копий Six American Poets , отредактированного Джоэлом Конарро и включающего работы Эмили Дикинсон, Уолта Уитмена, Лэнгстона Хьюза, Роберта Фроста, Уоллеса Стивенса и Уильяма Карлоса Уильямса, по отелям, больницам, и приюты для бездомных по всей территории Соединенных Штатов. Это руководство составляет ссылки на ресурсы по Иосифу Бродскому в Библиотеке веб-сайта Конгресса, а также ссылки на внешние англоязычные веб-сайты которые включают в себя особенности его жизни или избранных его работы. Чтобы предложить дополнения к этому руководству, обратитесь в раздел цифровых справочников. Веб-сайт Библиотеки Конгресса (Некоторые ссылки открывают файлы PDF.Загрузите бесплатную версию Adobe Reader.)
1.Современная литературная критика, «Иосиф Бродский», Гейл, 2008. Репродуцировано в Центре литературных ресурсов. Фармингтон-Хиллз, Мичиган: Гейл, 2008. http://galenet.galegroup.com/servlet/LitRC (по состоянию на 5 июня 2008 г.). |
Стэнфорд приобретает большую коллекцию работ нобелевского поэта Иосифа Бродского
2 ноября 2016 г.Недавнее приобретение Института Гувера свидетельствует о давней любви русского писателя к английскому языку.
Синтия Хейвен
Когда Советский Союз изгнал русского поэта Иосифа Бродского в 1972 году, на Западе его уже ждали несколько друзей. Одна из них, Дайана Майерс, оставалась доверенным лицом до смерти нобелевского лауреата в 1996 году. Лондонский дом, который она делила со своим мужем, переводчиком Аланом Майерсом, стал его английским pied-à-terre.
Иосиф Бродский показан в Ленинграде в 1972 году. (Изображение предоставлено Львом Поляковым)
Институт Гувера Библиотека и архив в Стэнфорде недавно приобрела коллекцию работ Бродского Дайаны Майерс, включая письма, фотографии, черновики, рукописи, иллюстрации, опубликованные и неопубликованные стихи.
«Мы были очень заинтересованы в том, чтобы добавить документы Иосифа Бродского, собранные его подругой Дайаной Майерс, в наши обширные архивы по России и сделать их доступными сразу же», — сказал Эрик Вакин, исследователь Роберта Х.Малотт, директор библиотеки и архивов Гувера.
«Благодаря значительным авуарам Гувера о поэте в коллекции Ирвина Т. и Ширли Хольцман, а также недавно приобретенным бумагам Иосифа Бродского из семейного архива Катилиуса в Зеленой библиотеке, мы гордимся тем, что Стэнфорд стал заметным центром исследований Бродского В Соединенных Штатах.»
Новое приобретение свидетельствует о давней любви Бродского к английскому языку.
«Я патриот, но должен сказать, что английская поэзия — самая богатая в мире», — сказал он однажды американскому студенту, посетившему Ленинград в 1970 году, — сильные слова для человека, который станет одним из выдающихся русских поэтов последнего времени. век.
Бродский, поселившийся в США, был очарован поэтами-метафизиками 17 века. Его знаковая поэма «Элегия Джону Донну» была написана в 1962 году, когда он очень мало знал о творчестве Донна. Это привлекло к нему международное внимание. Он начал переводить и писать английские стихи во время своей внутренней ссылки в Норенской, недалеко от Полярного круга, в 1964-65 годах.
Когда в 1967 году молодожены Майерс приехали в Лондон из Советского Союза, она несла охапку цветов, чтобы возложить их к ногам чучела Джона Донна в Сент-Луисе.Павла. Конкретная просьба Бродского была ее первой остановкой на новой родине.
В письме, которое Бродский написал Алану Майерсу за несколько месяцев до изгнания, он запросил дополнительную информацию о Джордже Герберте, Ричарде Крэшоу и Генри Воне. Он искал совета в поиске лучших изданий Бена Джонсона, Генри Кинга, Уолтера Рэли и Джона Уилмота. Недатированное и неопубликованное стихотворение в сборнике кажется экспериментом, написанным под их влиянием.
На другой странице сборника он добавляет свои собственные иллюстрации к нескольким отрывкам из Шекспира, предвосхитившего метафизических поэтов.
Пятнадцать страниц голографических стихов в сборнике документируют медленное продвижение от идеи к законченному стихотворению, с примечаниями, исправлениями и дополнениями — все, вероятно, заинтересует исследователей Бродского. «Вы можете увидеть, как это работало, до окончательной версии», — сказала архивист Лора Сорока. «Это то, что дает представление о его работе».
«Это повседневная жизнь — повседневная жизнь, когда он был там, в Англии», — сказала она. «Это определенно наша звездная коллекция — небольшая, но звездная.”
Коллекция также включает 70 писем Бродского, а также переписку с ним от таких деятелей, как русский поэт Евгений Евтушенко, шведский переводчик и писатель Бенгт Янгфельдт, австралийский поэт Лес Мюррей и другие; 25 страниц заметок и черновиков; пять автопортретов, пейзаж и натюрморт, выполненные черным мелом; тщательно продуманная свадебная открытка, которую он создал и проиллюстрировал для пары; стенограмма его советского процесса 1964 года по обвинению в «тунеядстве»; и другие записи.
Выборка из работ Иосифа Бродского включена в текущую выставку Распаковка истории: новые коллекции в библиотеке и архивах Гуверовского института, в выставочном павильоне памяти Герберта Гувера до февраля.25, 2017. Для получения дополнительной информации о часах работы и доступе к коллекциям посетите веб-сайт библиотеки и архивов Гувера.
-30-
Избранных стихотворений — The New York Times
Как узнать, что Иосиф Бродский в свои 33 года является крупным поэтом, а не просто крупным поэтом, которому большинство приписывается дополнительным дополнением к деталям героической биографии? О Бродском ничего не нужно знать, кроме стихов. Все остальное, что известно — а этого уже слишком много — не имеет значения.Признаюсь, для меня признаком дара является не только близость видения, что Бродского тронут многие из тех же источников, которые меня волнуют: Библия, Данте, Гете, Лев Шестов, Николай Бердяев, Владимир Соловьев, прародительские мифы и их слегка сбившиеся с толку русские интерпретаторы, но более того, он никогда не отпускает себя легко.
Стихотворение не заканчивается разрешением, а обновлением проблемы. Форма сонета, используемая в тех, которые включены в этот выбор, изменяет знакомый порядок; напряжение не снимается заключительным куплетом и не согласовывается в четверостишии; скорее, если использовать нисходящую аранжировку, заключение двух из трех сонетов — это уход от цезуры и неопределенности.Повторение возобновлено. Поэт думает не только стихотворение, но и пишет снова. Читатель предан собственному размышлению. Поэт и публика отказываются от стихотворения, чтобы переосмыслить свое существование. Если поэзия может вызвать такое обновление, то, что она может показать как резкость, угловатость, явную сложность и трудность, оправдывается величиной заклинанной реальности.
Совершенно верно, что Иосиф Бродский — частный голос. Он не имеет ничего общего с зрелищами и зрелищами, которые стали визитной карточкой бродячих поэтов Советского Союза, к которым Соединенные Штаты были так гостеприимны в последние годы.Но апострофировать личную жизнь Бродского, подчеркнуть его очевидное безразличие к идеологии — значит сделать известную ошибку в отношении стихов, каким бы верным оно ни было в отношении поэтов. Такие стихи, как «Einem Alten Architekten in Rom», «Lycomedes on Scyros», «Два часа в пустом резервуаре» или «Письмо в бутылке» неполитичны? В самом деле, в том смысле, что Бродский не помогает своей аудитории почувствовать по праву воинственные чувства, чтобы избавиться от гнева перед лицом исторической жестокости; но его поэзия, эти стихи покрыты чувством зла, дьявольской иррациональностью человеческой истории, презрением к цинизму и продажности тех, кто претендует на обладание действующей истиной.
Против векторов антигуманизма Бродский выставляет напряженную и жесткую версию справедливости, справедливости в природе и творении, в которую нужно верить и поддерживать. И для него, поддерживающего свое чувство чуждости в этом мире (не отчуждения), одиночества и изоляции (подавленное и без отчаяния), тоска (но не тревога) — это видение, еще не классически еврейское и не догматически христианское, которое могло бы быть описывается как Христоносное или мессианское. Литургическая поэма Бродского «Nunc Dimittis» или его живописная «Nature Morte» — это стихи, которые изображают веру, а не указывают на нее.Другими словами, я вижу Бродского как филосемитку Симону Вейль, выжидательную, в то время как она ругает и возражает, излагая смысловые мнения, не приказывая им риторикой гнева и смятения. Он ничего не отрицает, но он старается сосредоточить больше, больше времени и жизни, потому что он утверждает справедливость искупления.
«Избранные стихи», всегда благородно, часто страстно, иногда блестяще переведенные Джорджем Клайном (который столкнулся со значительными трудностями при обращении со стихами Бродского, сохраняя размеры, но отказываясь от рифм), содержит по крайней мере одно стихотворение «Горбунов и Горчаков» (увы представлен только одной полной песней и одной третью другой), что равноценно любому крупному стихотворению, написанному в пределах разумной памяти.Это стихотворение, даже в его десятой полной песне (а я читал версию всего стихотворения в другом месте) убеждает меня, что высокие аргументы нашего времени могут быть изложены в стихотворении. Это общение между двумя заключенными в сумасшедшем доме, написанное в неявном диалоге, представляет собой спор между материей и духом, социальной особенностью и трансцендентным притязанием, агрессией и страстью, пытками и любовью, манипуляциями, контролем, порядком и свободной игрой морального воображения. . Это просто стихотворение, которое вызывает в памяти все, что живет и называет себя человеком.
О «Избранных стихотворениях 1968–1996» Иосифа Бродского
СВЕН БИРКЕРТС, ученик Иосифа Бродского в Мичиганском университете, писал, что он впервые завоевал уважение Бродского случайно. Они были в кафе, и когда его спросили, как ему кофе, он пробормотал «черный». Бродский, услышав, что это «отстой», засмеялся и сказал: «Замечательно, да. Дрек ». Хотя Бродский однажды сказал в разговоре с Соломоном Волковым, что важно «не на каком языке говорит человек, а о том, что он говорит», ясно, что он сам был поэтом, движимым любовью к словам, потому что, как он выразился в другом месте, «Голос музы — это голос языка.«Что же тогда мы думаем о его путешествии между языками в качестве переводчика и поэта на русском и английском языках? Новые Избранные стихотворения, 1968–1996 годы Фаррара, Штрауса и Жиру упорядочены так, чтобы отслеживать развитие стихов Бродского на английском языке — от переведенных другими, до совместных переводов, до тех, которые были переведены одним Бродским, и, наконец, на английские стихи Бродского. Размышляя о том, что он учился у Бродского, Биркертс писал, что многое из того, что он узнал, пришло из «нетерпения» поэта к своим ученикам, и что вопросы Бродского к классу сопровождались скрытым вызовом: «удивите меня.«Как учитель и как поэт, Бродский не терпел компромиссов, но большая часть его поэзии на английском языке характеризуется тонкими компромиссами, необходимыми для формального письма и работы переводчиком. В самом начале — как в американской поэтической карьере Бродского, так и в этой книге — Бродский принимал работы поэтов-переводчиков, таких как Дерек Уолкотт, Энтони Хехт и Джордж Л. Клайн, для обработки своих стихов, оставляя как можно больше их формальных характеристик нетронутыми. на английском. Первое стихотворение в этом сборнике «Шесть лет спустя» изображает точную руку Ричарда Уилбура — подвижный пентаметр и полную рифму:
Так долго была совместная жизнь, что теперь
Второго января снова выпало
во вторник, заставив ее изумленно брови
подъемник как дворник под дождем,
так что ее туманная печаль рассеялась, и показал
безоблачная даль ждет впереди по дороге.
Позже мы встречаем светящийся «Nunc Dimittis», в котором Клайн пытается сохранить амфибрахический тетраметр оригинала на английском языке и придумывает что-то колдовское и церемониальное.
Как художник, Бродский никогда не любил идти на компромиссы, но, как и все переводчики, у него не было выбора, доверять ли он свои стихи полностью переводчикам, сотрудничать с ними или переводить свои стихи сам. Благодаря последовательности, предложенной Анной Челлберг, у нас есть возможность наблюдать за компромиссами поэта, видеть, за что он держится, а что оставляет после себя.Переводя на английский язык, Бродский отвергает многие условности английской просодии. Сканирование превращается из трудного в почти невозможное, поскольку мы оставляем после себя переводы таких авторов, как Уилбур и Клайн. И все же Бродский проявляет острую преданность рифмам, даже когда он расширяет английскую рифму до самых ее пределов — временами едва слышно, только визуально. В отличие от исполнения Уилбуром «Шесть лет спустя», такие стихотворения, как «Вертумн», или даже такие коллаборации, как «A Part of Speech», редко бывают элегантными, часто плотными и скалистыми — в отличие от простого стиля английской просодии, принятого Джорджем Гаскойном. или Томас Вятт, насколько это возможно.И все же, хотя они совсем не текучие, эти стихи часто приятно читать из-за сюрпризов, которые они готовят. Благодаря переводам Бродского у нас есть редкая возможность, как в случае с французскими стихами Райнера Марии Рильке или Т.С. Элиота, увидеть, как великий поэтический ум работает на втором языке, то есть стать свидетелями процесса, а не конечного продукта открытия. на странице.
Стихи — артефакты открытия; Обычно мы можем сказать, что открытие произошло где-то в прошлом, но мы должны интуитивно понять это через стихотворение.Только писатель является свидетелем этого в момент творения. Однако увлечение Бродского английским языком до последних лет его жизни было процессом открытий, как он признает в английской поэме своей дочери, задумчиво помещенной в конце сборника: «Следовательно, эти несколько деревянные строки в нашем стихотворении». общий язык.» В результате, несмотря на отсутствие технической полировки, самопереводы Бродского лучше всего отражают стремление к поискам.
Когда Бродский сказал в интервью Биркертсу в 1982 году в журнале The Paris Review , что «голос музы — это голос языка», он говорил о своем собственном опыте поэзии.Однако это утверждение приобретает другое значение, когда речь идет о языке, приобретенном во взрослом возрасте, а не в детстве. Англоязычная муза была для Бродского не такой музой, как его друг и наставник В. Х. Оден. Это была не муза родины, а муза изгнания и, соответственно, не муза традиций или условностей, а муза открытий и удивлений.
В 16 веке английская лирика, как мы ее понимаем сегодня, находилась в процессе формирования.Поэты, такие как Томас Вятт или позже Филип Сидни, стремились оправдать английскую поэзию наряду с ее классическими предшественниками, а также с ее «вульгарными» современниками. Греческий и латынь изначально подходили для литературы, в то время как итальянский заявил о своих правах через Петрарку, Данте и Ариосто. Чосер был одним из немногих писателей, на которых часто претендовали английские поэты, но лирическая традиция в английском языке все еще зарождалась. Мы видим эту тревогу в книге Сидни The Defense of Poesy (1595). Он рассказывает о том, как Чосер и Джон Гауэр помогли другим английским писателям «украсить наш родной язык», и аргументирует превосходство английского над другими языками как в древних, так и в современных формальных стилях.Эта незащищенность в отношении способности языка к поэзии, проявляющаяся в критике Сидни так называемых «дефектов» в других языках, невообразима для современного языка.
Обратной стороной этого беспокойства, этой непривязанности к языку является то, что мы являемся свидетелями моментов открытий, возникающих из неопределенности в реальном времени. Эти поэты были настолько заняты задачей продемонстрировать способности английского языка, что многие из их стихов характеризуются пылкими экспериментами с ремеслом, риторикой, формой и орнаментом.В английской литературе 20-го века рост транслингвального письма предоставил аналогичный повод для стремительных открытий — не в национальном масштабе, а в личном. Для многоязычных писателей каждый язык может иметь глубокое и разнообразное личное значение.
Если, как говорит Уолтер Бенджамин, цель перевода не в том, чтобы читать, «как если бы он изначально был написан на этом языке», а в том, чтобы позволить оригинальному языку проявиться в его стремлении к эху, тогда, возможно что-то потеряно в безупречной поэзии Уилбура.В своем предисловии к Избранным стихотворениям, 1968–1996 , Энн Челлберг советует читателям «развеять внутреннюю силу», продолжая говорить, что «английский Бродского может бросить вызов уху читателя таким образом, чтобы вызвать незнакомые силы в поэзии и вознаградить за труд». . » И действительно, хотя многие строчки из таких стихотворений, как «Вертумн» — возвышающаяся, отвлекающая элегия Бродского, призывающая бога времен года и перемен — звучат неуклюже, они также предлагают захватывающие примеры лингвистической игры самого Бродского.
«Вертумнус» наполнен моментами необычайной странности, которые подчеркивают интерес Бродского к звучанию слов: «отсутствие зелени и денег, скачкообразное время года». В сильно подчеркнутом «скачке» есть напряжение против линии, которая ведет к ямбику, но это не так. Одно из ранних стихотворений Бродского на русском языке было элегией для Джона Донна, и в переводах Бродского его собственных произведений есть элемент каменистости Донна, его забитой плотности слогов. И в силу пренебрежения метрическими нормами, есть оттенок этих синих нот — тех моментов, когда ударение падает именно там, где его не должно быть, по условностям английской просодии, — иногда можно найти в переводах Петрарки Вятта.
Особенно интересна «Фрагмент речи», монументальное произведение сотрудничества Даниэля Вайсборта, Бродского и других. В стихотворении мы видим, что голос Бродского как переводчика играет более важную роль, предвещая дальнейшие события в сборнике. Такие пары, как «останавливаться» / «скелет» и «чернильница» / «мигать», выходят за пределы английской рифмы и, безусловно, далеки от резонансного эха Уилбура. В переводе присутствует безрассудство и фрагментарность. Тем не менее, для такого стихотворения, как «A Part of Speech», которое документирует психологические эффекты смещения и исследует их влияние на язык, голос и себя, неровный характер английской формы Бродского на удивление уместен.Это качество не всегда работает так хорошо, как в «A Part of Speech», но когда оно работает, оно продуктивно шокирует английское ухо от его самоуспокоенности.
Примерно треть сборника «Часть речи» находится в нескольких милях от перевода Уилбура «Шесть лет спустя», который открывает избранных стихотворений, 1968–1996 . Независимо от того, дают ли версии Иосифа Бродского нам лучшее представление о Бродском как русском поэте, они дают нам лучшее представление о его проблемах как английского поэта.Во многом это проект книги Фаррара, Штрауса и Жиру. Нам предоставляется возможность понаблюдать за экспериментами и открытиями Бродского. Это не чистый путь, и полный объем работ Бродского по-прежнему ускользает от английских читателей, но сборник дает новую возможность понять его эстетические проблемы через его эстетические решения — лучше понять бескомпромиссного поэта через его компромиссы.
¤
Тайлер Данстон — писатель из Чаттануги, штат Теннесси.Он получил степень магистра в области поэзии в Бостонском университете и в настоящее время поступает в аспирантуру по английскому языку и литературе в Мичиганском университете в Анн-Арборе.
Тринадцать взглядов на Иосифа Бродского
В период с 2003 по 2004 год Валентина Полухина провела серию интервью о лауреате Нобелевской премии по литературе Иосифе Бродском. Она разговаривала с бывшим учеником Бродского и исполнительным директором Академии американских поэтов (с 1989 по 2001 год) Уильямом Уодсвортом; уважаемый американский публицист Сьюзан Зонтаг; плодовитый поэт, драматург, эссеист и нобелевский лауреат Дерек Уолкотт.Ниже приводится синтез этих интервью, составленных Шерил Олсен, писательницей из района Залива и ассоциированным издателем BrightCity Books.
1) Валентина Полухина : Возможно, вы находитесь в уникальном положении, чтобы давать. . . читателям эмпирический отчет о литературной жизни Нью-Йорка в момент появления Бродского на американской поэтической сцене. Было ли ему сложно вписаться?
Сьюзен Зонтаг (впервые познакомилась с Бродским в январе 1976 года через их общего издателя, Фаррара, Штрауса и Жиру): Я думаю, что люди были очень открыты для Джозефа.Во-первых, он произвел ошеломляющее впечатление. Он был таким авторитетным лично. Это будет регистрироваться здесь как высшая уверенность; и люди — я хочу сказать в Америке, потому что я думаю, что это больше, чем в Нью-Йорке — американцы скорее склонны восхищаться, если им дают основания для этого, в отличие от англичан, которых я считаю весьма злобными и злобными. Если [англичане] видят, что кто-то, представленный им, очень важен, их первым побуждением будет попытаться урезать этого человека, злонамеренно подорвать его.Здесь все наоборот. Если людям дают повод восхищаться, им это нравится. Думаю, Джозефом восхищались с самого начала. Конечно, был также небольшой отряд читателей и знающих людей, для которых его репутация опередила его. Стенограмма судебного процесса с этими замечательно цитируемыми фразами была напечатана в журнале New York . Я помню, как сам читал и вырезал. Это было . . . впервые услышал об Иосифе. Он с самого начала произвел здесь большое впечатление.Люди были очень открыты к его самоуверенному и безапелляционному поведению.
Уильям Уодсворт : Я познакомился с Джозефом осенью 1984 года, когда был аспирантом Колумбийского университета и посетил его семинар. Он не был похож ни на одного другого профессора или учителя поэзии, который у меня был, и я думаю, что все в классе признали, что он заметно отличался от других учителей, большинство из которых сами были поэтами. Джозеф излучал некоторую умственную энергию и строгость, которые не были обычным явлением.Он бросал вызов студентам способами, к которым они не привыкли, и относился к поэзии как к более серьезному занятию, чем большинство американских студентов когда-либо могло себе представить. Некоторые студенты резко отреагировали на его позицию, в то время как другие, как я, считали его самым вдохновляющим воплощением поэзии, с которыми они когда-либо сталкивались.
Джозеф был чрезвычайно харизматичным, но он также производил впечатление абсолютиста и часто допускал возмутительные заявления и даже оскорбления.Если вы не могли справиться с ударами, если вы не соглашались с ним и ваша кожа была тонкой, поведение Джозефа могло показаться властным. Когда студент спросил о репрессиях против левых в Центральной Америке и о том, не было ли это сопоставимо с советскими репрессиями в Восточной Европе (это было в 1980-х годах, когда насилие в Сальвадоре и Никарагуа было в разгаре), Джозеф отклонил вопрос. с одним предложением: «Мне наплевать на эту часть мира». С другой стороны, склонность Иосифа к возмутительности можно было рассматривать как доказательство его бескомпромиссной честности, как необходимое выражение его иконоборчества, его отказа подчиняться любому шибболету.У него было потрясающее чувство юмора: непочтительный, язвительный, самоуничижительный. Он был знатоком новой одежды императора. Однажды в Колумбийском университете он ворвался в класс с чашкой кофе в одной руке, сигаретой в другой, попыхивая, как паровоз, и сказал: «Вы не поверите, что случилось со мной прошлой ночью … Я встретил бога. » Он пересказал историю о том, как накануне вечером присутствовал на приеме в честь Далай-ламы, и заметил, что самым замечательным во внешности «бога» была отметина от вакцинации на его руке.Тем не менее, оказалось, что Иосиф и бог поладили, и по окончании мероприятия бог специально прощался с Иосифом. Как сказал Джозеф: «И вы поверите, в конце концов он подошел ко мне — мое смиренное я! — и обнял меня». Одна особенно благоговейная студентка воскликнула: «Джозеф, должно быть, это была твоя аура!» Не теряя ни секунды, Джозеф ответил: «Нет, я думаю, это был мой галстук. Видите ли, мой галстук был того же цвета, что и его халат».
Дерек Уолкотт : Джозеф жил поэзией.Он заявлял об этом каждый раз, когда я встречался с ним. Вот почему я восхищался им. Он не поступал так, как в Англии или в Америке, когда стеснялся и говорил: «Я на самом деле не поэт» или «Я не люблю, когда меня называют поэтом» — любой из этих глупостей. Он очень гордился тем, что его так называли. Это был Бродский. Он был лучшим из известных мне примером человека, провозгласившего себя поэтом; вот что он сделал. Он был трудолюбивым, и нельзя отделить труд Иосифа Бродского от Иосифа Бродского. Я думаю, что в биографиях, литературных биографиях есть такое отношение, которое может сказать: «Ну, знаете, У.Х. Оден был таким, он был гомосексуалистом, но он был также. . … «что угодно. Итак, есть две жизни, литературная жизнь и личная жизнь. Иосиф не делал различия между своим призванием и своей жизнью …
Он считал, что быть поэтом священным призванием. Я разделяю это мнение. Он никогда не эксплуатировал свое еврейство. Он никогда не играл жертву. Он ненавидел людей, играющих жертву, и тех, кто пишет как жертву. Я думаю, он думал, что это было слишком просто. Четкое описание Бродского — это человек, почти средневековый преданный своему ремеслу и всему, что с этим связано, с точки зрения архитектуры ремесла, дизайна ремесла.Многие стихи написаны как интерьеры соборов, купель, арки, в целом концепция стихотворения как собора. Эта преданность поэзии как герметическому ремеслу, и это то, что вы найдете и в Донне. И он продолжал придерживаться концепции восприятия как части интеллекта, а не просто эмоциональной реакции.
2) Полухина : Как вы оцениваете Бродского как друга?
Зонтаг :. . . Я очень привязался к Джозефу эмоционально, как и многие женщины.. . Естественно, в конце это было довольно неприятно, как всегда. И было что-то в его характере, что мне не нравилось. Мне не нравилось, как он иногда плохо относился к людям. Он мог быть очень жестоким, особенно по отношению к молодежи. Я помню, как однажды мы действительно поругались. Я был в его доме, здесь, на Мортон-стрит, до Марии, и там были другие люди. Одна из них была молодой женщиной двадцати пяти лет. Была весна или лето, мы сидели в саду, и он повернулся к этой молодой женщине и сказал: «Так что ты делаешь?» И она сказала: «Ну, я писатель.«И он сказал:« Кто тебе сказал, что у тебя есть талант? »Сказать это было очень жестоко; он ничего о ней не знал. И она заплакала. Если кто-то сказал ему что-то подобное, он ответила бы: «Боже!» Эта молодая женщина ничего не могла сказать; она просто чувствовала себя избитой этим мужчиной. После того, как они ушли, мы поссорились. Я сказал ему: «Как ты мог быть таким злым с этой женщиной. ? Вы собираетесь выиграть Нобелевскую премию и получать удовольствие от пыток какого-нибудь ребенка ». Я хотел сказать, что вы такой большой, такой большой, вы должны быть добрее.Но, конечно же, в той ссоре я играла классическую женскую роль, говорила большому, жестокому мужчине быть добрым. Итак, он был тем большим, жестоким парнем. Это была сторона Джозефа. Никто, в первую очередь сам Иосиф, не мог утверждать, что у него был хороший характер. Он любил иногда говорить, что у него довольно плохой характер. Конечно, я не первый, кто вам это скажет. И если у вас плохой характер, я полагаю, вы должны время от времени показывать его, приводить примеры и иллюстрации.
3) Полухина : Что, по вашему мнению, дало Иосифу такое моральное право написать стихотворение вроде «Я выдержал стальные клетки из-за недостатка диких зверей» с заключительными строками: гортань, / от нее будет хлынуть только благодарность? » Правильно ли я полагаю, что такие строки немыслимы в контексте современной американской поэзии?
Уодсворт : Не отнимать ничего от оригинальности Джозефа, не отнимать ничего от его врожденного видения и силы как поэта, но однажды я действительно присутствовал на чтении, на котором Джозефа представил поэт Чарльз Симич, который рассказал историю Детство Иосифа, преследования и изгнание, и пришел к выводу: «Ни один поэт не мог желать большего.«Мирослав Голуб однажды сказал, что когда дела в Восточной Европе были действительно плохими,« это была очень поэтическая ситуация ». Ужасно говорить, но Джозеф был благословлен« очень поэтической ситуацией ». Ни у одного американского поэта не было такого состояния. возможность насладиться такими ужасными историческими обстоятельствами.Следовательно, Джозеф мог говорить с моральным авторитетом, авторитетом того, кто бросил вызов институционализированному злу и пострадал от последствий, с атмосферой авторитета, которая вряд ли была бы возможна для современника Америки.
4) Полухина : Это перекликается с известной реакцией Ахматовой на суд над Бродским: «Какую биографию они создают для нашего рыжеволосого мальчика!» Но Джозеф был очень против биографии как таковой; он будет настаивать на том, что биография поэта состоит из его гласных и согласных. Нет ли здесь противоречия?
Уодсворт : Противоречие — суть поэзии. Йейтс сказал, что мы сочиняем стихи из «ссор с самими собой».Фрост сказал, что противоречие является фундаментальным даже для просодии, что если ритм не противоречит метру, у вас нет хорошего стихотворения. Если бы Джозеф был из тех поэтов, которые сказали бы: «Посмотри на мою жизнь, посмотри на то, что я сделал и испытал, вот почему я великий поэт», то действия, переживания и их значение были бы сведены на нет из-за эгоизма. заявления. Сам факт того, что он вел ту жизнь, которую вел и верил в то, во что верил, требовал, чтобы он сделал язык абсолютным приоритетом, который отрицает случайности биографии.Поэты сталкиваются с парадоксами, и это был парадокс Иосифа, точно так же, как его настойчивое заявление советскому судье о том, что поэзия не имеет ничего общего с политикой или социальной ответственностью, было само по себе политическим актом с социальными последствиями.
Зонтаг : Джозеф много чего сказал, потому что боялся смерти. Он был одержим смертью. Он знал, что умирает. Мне сказали, что я умираю, поэтому я знаю, что значит думать, что ты умрешь. И он любил противоречить; ему нравилось говорить то, о чем вы не думали, что он собирался сказать.
5) Полухина : Достиг ли Бродский гармонии между своим еврейским происхождением и христианским мировоззрением?
Зонтаг : Я не могу произнести это. Я никогда не считал Иосифа еврейским писателем. Мы никогда не говорили о религиозных вопросах. Я полностью светский, и я также чувствовал, что он был полностью светским. Я никогда не чувствовал намеков на его еврейство. Он интересовался христианством из-за его доминирования в европейской культуре.Я чувствую то же самое. Когда я увидел его лежащим в католическом похоронном бюро в центре Манхэттена и похороненным на протестантском кладбище в Венеции — я был на обоих похоронах — я был удивлен. Люди, когда они умирают, оказываются во власти своих родственников.
Полухина : То есть вы бы не сочли его религиозным поэтом?
Зонтаг : Я не чувствую в нем религиозного поэта и не чувствую в нем человека, отождествляющего себя с иудаизмом или евреем, как и я.Он был поэтом мировой культуры в европейском понимании. Я никогда не привносил это в наши отношения. Я просто почувствовал то, что мне кажется его светской точкой зрения, которая охватывает более двух тысяч лет европейской и новоевропейской культуры. Это был его материал: был Гораций, был Овидий, был Оден, были Ахматова и Цветаева. Почему в это должен войти иудаизм? Почему сюда входит христианство?
Уодсворт : Однажды в интервью Джозеф назвал себя кальвинистом, что не случайно намекает на чувствительность Новой Англии.Он также добавил, что многое в протестантизме ему не нравится, и что он не уверен, что он вообще религиозный человек. Но что привлекло его к кальвинизму, так это акцент на индивидуальной ответственности, которая лежала в основе морального мировоззрения Джозефа и в основе ценностей Новой Англии — «самодостаточности» Эмерсона, твердости, которую можно найти в Фросте. В кальвинизме также много Ветхого Завета, который, должно быть, апеллировал к иудаизму Иосифа. Но отношение Иосифа, его мораль, несомненно, были христианскими, и он явно считал христианский Запад культурно и этически выше Византии и Востока, ближнего или дальнего.Но я бы сказал, что он не был христианином, не в богословском смысле, а морально и экзистенциально. Обычно я думаю, что его мысли разделились по вопросу о Боге. Во всяком случае, предметом и объектом его богословия был язык. Он был логотеистом.
Полухина : Согласны ли вы, что в некоторых высказываниях Иосифа есть еврейское качество?
Уодсворт : Полагаю; Я никогда не думал об этом так, но свирепый темперамент Иосифа, его склонность к моральному и эстетическому абсолютизму можно было считать Ветхим Заветом.Иов, пророки, Сам Иегова: в них было много Иосифа. Кроме того, его мистическое отношение к языку, к формам самого алфавита напоминает еврейский мистицизм.
6) Полухина : Дерек, как и Джозеф, ты тоже рифмуешься, что противоречит мейнстриму американской поэзии. Что заставляет вас рифмовать?
Уолкотт : Но я не американский поэт. Я думаю, это противоположное, не рифмовать, противоположный инстинкт. Это не обязательно должна быть настоящая рифма.Вы можете почувствовать, что это могло быть рифмовано, что все идет в том же направлении. Многие из них были такими. Я не рифмовал, но дело было именно в этом. Есть целое поколение, у которого нет инстинкта к рифмам. Это то, что исчезло.
Полухина : В русском языке хорошая рифма остается метафорой. Вырвите две рифмы из контекста, и вы увидите связь, сходство или противопоставление — некую метонимическую связь. Это была бы действительно глубокая рифма, смысловая рифма или даже концептуальная рифма.Язык просто поддается этому замечательному виду рифм. Как вы думаете, на Джозефа повлиял, скажем, Огден Нэш? Он его читал?
Уолкотт : О да. Думаю, ему очень нравились мюзиклы. Например, он любил Коула Портера. Он очень любил английские рифмы. Я не очень разбираюсь в русской рифме, но, кажется, это проще.
7) Полухина : Вы хоть представляете, как Иосиф придет к строке, как он перейдет от строки к строке или даже больше, как он продвинется от начала до конца стихотворения? Когда вы работали над переводом его стихов, вы их почти переписывали.
Уолкотт : Однажды я жила в доме Кристины Армстронг. Ее не было дома, и мы с Барри Рубеном были там, и мы с Джозефом однажды работали над стихотворением. Мы работали над этим вместе, и через три-четыре часа результат не увенчался успехом. В какой-то момент он сказал: «Трахни меня, трахни тебя и трахни всех». Он просто остановился, потому что это было так мучительно. Но то, что мы пытались сделать, и что он уважал (я тоже пытался), — это сохранить форму и размер, все, структурно как можно ближе к русскому тексту.Вы не можете этого сделать, но можете очень постараться. . . И на самом деле он не возражал — и это действительно было удивительно — он не возражал, если вы измените метафору. . . Но я думаю, что кто-то пытался следовать его намерениям в той же мере, что и копировать его. Другими словами, если вы сталкиваетесь с определенной метафорой и ради рифмы вы должны ее изменить, это было нормально для него, если намерение было таким же, до тех пор, пока вы нашли параллельный эквивалент. . . И он делал это сам или предлагал.Я думаю, он хотел получить английское стихотворение. Джозеф безмерно восхищался английской поэзией. Я думаю, что, поэт для поэта, он не думал, что это было богаче, но как язык для работы он находил это очень захватывающим. И люди, критиковавшие результаты, нечестны в том смысле, что нужно учитывать даже искажение синтаксиса русского поэта, пишущего на английском языке.
8) Полухина : Чувствовал ли Бродский когда-нибудь изгнание в США?
Зонтаг : Он так великолепно написал о «состоянии, которое мы называем изгнанием». 1 Эти размышления — его самые серьезные и взвешенные мысли по этому поводу. Я заметил, что он упивался этими ситуациями. Джозеф был в высшей степени амбициозен и видел в этом фантастическую возможность занять больше места. Я чувствовал, что именно перемещение было большим преимуществом. Он мог сказать то, что Томас Манн сказал в изгнании в Южной Калифорнии в 1940-х годах: «Где я — немецкая литература»; чтобы Иосиф мог сказать: «Где я, там русская поэзия». Он чувствовал, что никоим образом не потерял то место, которое считал своим великим русским поэтом.Но у него был шанс оказывать влияние на девственной территории среди людей, публики и поэтов, которыми он восхищался, любил быть с ними и чувствовал свое превосходство. Он чувствовал себя настолько превосходным, что для него было привилегией и удовольствием льстить американцам и льстить Соединенным Штатам, говоря, насколько они прекрасны. Не думаю, что он так думал. Я всегда был поражен тем, как ему нравилось производить впечатление на людей, он любил знать больше, чем они, получать удовольствие от более высоких стандартов, чем они.
Я думаю, что связь между нами, какая бы эмоциональная связь ни была, как он сказал мне вначале, заключалась в том, что я был единственным американцем, которого он знал, и у которого были такие же стандарты, как у него.Так что я совсем не типичный. Я самоевропейский американец. Я уверен, что он видел в изгнании прекрасную возможность стать мировым поэтом, а не только русским поэтом. Но, конечно, он изначально был русским поэтом. Но изменить империи, как он выразился, можно было только ему на пользу. Я помню, как он со смехом сказал где-то в 1976-77 годах: «Иногда мне так странно осознавать, что я могу написать все, что захочу, и это будет опубликовано». Как будто чего-то не хватает! Я думаю, ему нравилась Америка, он чувствовал себя выше Америки.
Wadsworth : Романтика изгнания мощна и представляет собой простое, упрощенное определение. Джозеф не был человеком, поддающимся легкому определению. Он не хотел, чтобы его поместили в ящик жертвы. Дело в том, что он был в ссылке дважды: сначала в ГУЛАГ, потом вообще из России. Но в обоих случаях состояние его странным образом устраивало. Не хочу быть бойкой, но можно сказать, что для Иосифа, хотя изгнание было вынужденным действием, оно было в некотором смысле освобождением; он предлагал своего рода условие экзистенциальной свободы, по крайней мере, свободы стоика, в отличие от заключения духа в репрессивном обществе.И средством этой свободы, включая переводы, которые он делал в трудовом лагере, был английский язык. Джозеф не вернулся в Россию, когда мог, и хотел, чтобы его дочь росла в США, а английский был ее родным языком. Но его отношение к ссылке противоречило клише.
9) Полухина : Я знаю, что многие люди сыграли определенную роль в карьере Бродского в США, но кто конкретно?
Зонтаг : Его издатель, но в основном это был сам Бродский.Он был чрезвычайно трудолюбив и самоуверен. Как я уже где-то сказал, он приземлился среди нас, как ракета из другой империи, грузом которой был не только его гений, но и возвышенное, требовательное чувство авторитета поэта, присущее его родной литературе.
Полухина : Именно эти качества помогли ему стать членом поэтов «большой лиги», таких как Симус Хини, Дерек Уолкотт, Лес Мюррей и некоторые другие. Или были другие факторы?
Зонтаг : Это была его мечта.Это были Симус, Дерек и Лес, а лидером был Джозеф. Джозефу всегда приходилось быть лидером. По словам Джозефа, все они собирались получить Нобелевскую премию. И они сделали, как будто это было запланировано таким образом. К сожалению, Les Murray задерживается. Как Джозефу это удалось? Я думаю, это было несколько вещей: покровительство Одена было чрезвычайно важно. Единственное, о чем я не упомянул: прийти с imprimatur, точнее, с благословением Одена, который к тому времени считался величайшим из ныне живущих поэтов английского языка, а теперь его называют величайшим английским поэтом в двадцатом веке. века, что сильно отличается от его репутации тридцать лет назад.Я думаю, что благословение Одена уже подняло его на невероятно возвышенный уровень.
Wadsworth :. . . есть история о том, как Бродский приехал в Австрию и сказал: «Отведите меня к моему вождю». Оден сыграла повивальную бабку на пути Иосифа из России-матушки в Новый Свет. Оден также, как и Джозеф, был виртуозом и вундеркиндом, выдающимся вундеркиндом среди своего поколения английских поэтов. И он, как и Джозеф, совершил аналогичный, хотя и без принуждения, переход в Новый Свет, а также в Нью-Йорк.Но больше всего я считаю, что Джозефа больше всего привлекала поэтическая позиция Одена, ее философские и политические последствия. Во-первых, Оден был полностью современным поэтом, более или менее отвергающим модернистское устроение верлибра, опровергавшим любые предположения о том, что для того, чтобы быть современным, необходимо избавляться от традиционных форм стихов. Но есть более глубокая причина, чем просодия [для его восхищения Оденом]. В первый день занятий Джозеф первым делом поставил на доске строку из Йейтса и линию из Одена.Вскоре стало ясно, кого он считал лучшим поэтом. Джозеф не терпел сентиментального национализма Йейтса и разработки оккультных систем, так же как он ненавидел фашизм Паунда и, как можно подозревать, монархизм и антисемитизм Элиота. Современные поэты, которыми он больше всего восхищается — Оден, Харди, Фрост — можно рассматривать как выходцев из традиции классического английского либерализма, в котором высшее значение придается не мифу, системе, теологии или идеологии, а личности. о внутренней ценности и истинности человеческой субъективности.По этой причине его тянуло к Шестову, так же как для Одена ключевым философом был Кьеркегор. Я считаю, что это также одна из вещей, которая привлекла Джозефа в Америку: американская традиция «жесткого индивидуализма», которую, например, так прекрасно воплотил Фрост.
Когда Джозеф приехал в эту страну, многие мои современники считали Одена старомодным и в значительной степени игнорировали. Война во Вьетнаме все еще продолжалась, левых студентов преследовало правительство, антиамериканские настроения накалялись, а модные стихи были в основном свободными.Многие считали традиционное стихосложение выражением академического истеблишмента в то время, когда студенты не доверяли всем «учреждениям». С одной стороны, Иосиф был героической фигурой, образцом писателя-диссидента, чрезвычайно романтичной фигурой, которая противостояла советскому «истеблишменту», заплатила за последствия и, тем не менее, победила. С другой стороны, он хвалил культуру, которая его усыновила, не питал симпатии к левым и категорически отвергал свободный стих как «вино без бутылки: пятно на скатерти».«Для своих недоброжелателей он был высокомерным, реакционным и игнорирующим американские модернистские традиции. Но для других он был глотком — больше похожим на ураган — свежего воздуха. Он много сделал для привлечения внимания к восточноевропейским поэтам, особенно польских поэтов, и он во многом послужил катализатором возрождения интереса к традиционному стихосложению среди молодых поэтов 1980-х (мое собственное поколение). Его пренебрежительное отношение к модернизму Паунда и Уильяма Карлоса Уильямса и, более того, его высокое уважение для Одена и Фроста, оставила неизгладимый след в жизни многих молодых поэтов.Моральная серьезность, которую он привнес в этот вид искусства, сделала многие «постмодернистские» стихи легкомысленными. Конечно, бесконечная диалектика строгого и свободного, башни из слоновой кости и открытой дороги не нова и движет американской поэзией со времен Дикинсона и Уитмена. Но Джозеф оживил дискуссию.
10) Полухина : И Одена, и Бродского упрекают в том, что они слишком круты, слишком умны, слишком думают. Даже Солженицын упрекнул Иосифа в этом. Поскольку Джозеф был в некотором роде поэт-дидактиком — а также давал много советов каждому в реальной жизни — я собирался спросить, что вы узнали из стихов Джозефа?
Уолкотт : Это единственное, чему я научился у Джозефа, за что я его уважал.Было нормально ехать и писать, но если вы не думаете в стихотворении, вы на самом деле не работаете. . . Это был его принцип. Однажды я показал ему стихотворение под названием «Ураган», которое было опубликовано в New York Review of Books . И, полагаю, я должен сказать, что сначала мне это понравилось. Это было хорошо сделано. Но потом он прочитал его и сказал: «В нем нет мертвых людей!» Итак, я подумал об этом, и я думаю, что он сказал, что высота стихотворения была риторической, чисто риторической и описательной.Другими словами, романтизировать ярость урагана без реальности катастрофы урагана — это просто написать своего рода стихотворение силы. В стихотворении должен был быть какой-то фрагмент, посвященный человеческой реальности ущерба.
11) Полухина : . . . Стихи [Джозефа] должны были быть переведены на английский язык, и мы все знаем о спорах, связанных с этим, о проблемах с этим. Но, несмотря на это, ему удалось попасть в эту высшую лигу англоязычных поэтов.Как ему это удалось?
Уолкотт : Ну, переводы — его работа. Поэтов много, и все, что мы знаем о них, — это переводы. Я знаю Данте и Кавафи в переводе. Милош тоже. Все, что я знаю не по-английски, я знаю через перевод. Я могу судить по репутации, другим поэтам и критикам, зная, насколько хорош был Джозеф с самого раннего возраста, через Одена. Оден знал, что Джозеф был одарен только на основании переводов. В России даже очень рано узнали его талант, его гениальность.Есть поэты, которые, если вы попытаетесь их перевести, окажетесь в очень неприятном положении. Качество просто не проявляется, особенно если на языке оригинала они очень лиричны. . . Я помню, как разговаривал с Иосифом, когда мы гуляли, и попросил его прочитать мне немного Пушкина. Он сказал: «В этом нет никакого смысла, потому что вы просто не поймете, насколько это классно по-русски. Это будет звучать так банально». И я думаю, что то же самое произошло бы, если бы вы попытались сделать некоторых поэтов, особенно романтиков, в русском переводе, особенно если стихи короткие.Может быть, качество Шелли попадется на русский язык. Я не знаю. Но в случае с Пушкиным это все равно, что пытаться перевести воду. Джозеф этого не сказал, но он имел в виду именно это. Но то, что двигало им, что сделало Иосифа гениальным, было не только лирическим качеством. Это был интеллект. Потому что он был поэтом феноменального интеллекта. Это принцип в действии. И это не английское или американское качество.
Уодсворт : Конечно, проблема русской поэзии в переводе стала особенно острой в его собственном творчестве, потому что он настаивал на сохранении в стихах своей просодической структуры.В результате многие американские поэты и критики сочли большинство английских стихов в лучшем случае посредственными. Поэт и критик Роберт Хасс сравнил чтение стихов Бродского в переводе с осмотром руин здания, которое, как говорят, когда-то было красивым. С другой стороны, его эссе, написанные на английском языке, в целом были признаны самостоятельными гениальными произведениями, великолепно составленными, несмотря на то, что они были написаны на чужом языке.
Полухина : Насколько английские стихи Бродского отличались от его самопереводов?
Уодсворт : Я не бродский ученый, не критик и не специалист по переводу.Тем не менее, я бы сказал, что они не кажутся такими уж разными, что говорит о многом. У Джозефа были бурные отношения с английским языком. Сам факт того, что он вообще писал стихи на английском, удивителен, хотя, возможно, и не так, если учесть его активную руку, которую он приложил к переводам. В любом случае он хотел отдать дань уважения своему усыновленному языку, поэтам на этом языке, которые значили для него больше всего (например, элегия Лоуэллу, которая перекликается со знаменитой элегией Одена для Йейтса). Он хотел испытать себя «по максимуму» на языке, он хотел выучить его наизнанку и, насколько это возможно, овладеть им.Тем не менее, в то же время он был ужасно неуверен в своем английском, остро осознавая, что его русский акцент часто затруднял понимание того, что он говорил, особенно когда его ум был перегружен, и он начал говорить очень быстро. Стихи, написанные на английском языке, обычно довольно короткие и часто стремятся к простоте спетой лирики — с такими названиями, как «Песня», «Мелодия», «Блюз» и т. Д. Нет ничего сложнее, чтобы преуспеть в английской поэзии, особенно если линии короткие, скажите рифмованный диметр или триметр.Ухо должно быть безупречным, а ухо Джозефа к английскому, естественно, не было. Как музыкант он был более чем равен хорошей английской прозе, но не чистейшей форме лирики. Он особенно попадал в неприятности, когда пытался придумать что-нибудь идиоматическое, например, стихотворение «Блюз», которое действительно досадно плохо. То же самое слишком часто верно в отношении его склонности использовать английский сленг в своих переводах, «грубить», как выразился один переводчик. С другой стороны, это был подход, который хорошо сработал для легких стихов, где ставки ниже (его детская книга Discovery — восторг), а его стихи на английском могут быть замечательными, когда строки длиннее и больше. расслаблен.Одно из его самых прекрасных стихотворений — это стихотворение для дочери, но обратите внимание на ироническую последнюю строчку: «Отсюда эти несколько деревянных строк в нашем обычном языке». Это прекрасный пример обратной стороны Джозефа, его склонности к самоуничижению. Думаю, тот факт, что стихи на английском звучат не намного лучше, чем русские стихи в переводе (по крайней мере, для меня), говорит обо всем. И все же обратите внимание на готовность пойти на большой риск даже в попытках. Джозеф хотел изо всех сил стараться усвоить английский язык как можно лучше.
12) Полухина : Что вам известно о работе Бродского в качестве поэта-лауреата США и консультанта по поэзии Библиотеки Конгресса США?
Уодсворт : должность консультанта существовала десятилетиями как временное назначение и скромная синекура для выдающихся поэтов. Затем, в 1980-х годах, Конгресс добавил титул хайфалутина «Поэт-лауреат», который большинство поэтов сочли претенциозным, хотя очевидным мотивом было привлечь больше внимания общественности к этому положению, а следовательно, и к виду искусства.Пока не был назначен Джозеф, поэты, носившие титул, продолжали относиться к нему как к номинальному руководству. Джозеф все изменил. Его первая лекция «Нескромное предложение» заново определила лауреатство как положение государственной службы и платформу для литературной защиты. Его предложение заключалось в программе массового распространения, которая бесплатно передавала бы сборники стихов в руки миллионов американцев всеми способами — в отелях, в поездах и самолетах, в почтовых отделениях и т. Д. Это произошло, когда я был исполнительным директором. Академии американских поэтов, и это был потрясающий проект, который идеально соответствовал миссии Академии по продвижению поэзии в американской культуре, и вскоре мы сформировали партнерство.Одно из замечательных заявлений, сделанных Джозефом в ходе своего выступления, заключалось в том, что три величайших вклада Америки в мировую культуру — это ее джазовая музыка, ее кино и ее современная поэзия. Для Академии и для поэтов всего США это было ниспосланным небом подтверждением важности американской поэзии. Джозеф взял малоизвестную встречу и внезапно превратил ее в очень заметный общественный пост. Он сделал поэзию «новостью». В США, где поэзия в лучшем случае считается формой тайного искусства, это был необычный поворот событий.Внезапно этот русский поэт-лауреат возмутился в прессе. По иронии судьбы, понадобился русский, чтобы подтвердить американскому народу, что его литература имеет значение, что американцы в двадцатом веке сочинили одни из самых прекрасных стихов, когда-либо написанных. Этой речью Джозеф инициировал трансформацию общественного восприятия роли поэзии в американской культуре.
13) Полухина : Вы помните последний контакт с Иосифом?
Уодсворт : Да.Мы говорили по телефону за три дня до его смерти. Я все еще учился в Академии, и мы продолжали работать с Джозефом над проектом по распространению антологий стихов по стране. Джозеф позвонил мне в Академию и сказал: «Билл, ты знаешь, что такое американская поэзия?» «Нет, Джозеф, я не знаю. Пожалуйста, скажи мне». Он сказал: «Американская поэзия — это все о колесах, это о Open Road. Все о колесах … Итак, вы знаете, что вам нужно делать?» «Нет, Джозеф, что мне делать?» «Вы должны вызвать возчиков.Мы должны везти стихи в грузовики. Поэтому, когда утром в продуктовые магазины доставляют молоко, они вместе с молоком доставляют стихи ».
Союз возчиков — самый коррумпированный союз в США. Я сказал: «Джозеф, ты говоришь мне, что Академия американских поэтов должна сотрудничать с организованной преступностью?» Наступила пауза. Затем Джозеф сказал: «Билл, одно об организованной преступности: она организована». Это было последнее, что он мне сказал.
1 Иосиф Бродский, «Состояние, которое мы называем изгнанием», Нью-Йоркское обозрение книг , том.34, нет. 21 (21 января 1988 г.), стр. 16–20.
***
Пэра находились под огромным влиянием Иосифа Бродского. Когда Дерека Уолкотта попросили поделиться с ним работой, он предложил отрывки из The Prodigal .
4. II
Зависть к статусу; Так оно и росло: каждый день в Милане, по дороге в класс, я проезжал мимо моего сурового бессмертного друга Генерала на его угрюмом зеленом коне, который все еще там по выходным. Войны закончились, но он не спешился.Неужели он умер, бросившись в атаку в какой-то благозвучной битве? Бронзовое зарядное устройство на летнем солнце покрылось мыльной пеной и покрылось прожилками пота. У нас на острове таких памятников не было. Нашей единственной кавалерией были набегающие волны, покрытые пеной и взмахнувшие шеями. Кто знает, в какой войне он участвовал и чей выстрел сбил его ржущего коня? Зависть к фонтанам. Бедный герой на своем острове в водовороте уличного движения лишился утешения в темной липе или каштане с яркими медалями на листьях.Зависть колоннам. Спокойствие. Зависть к колоколам. Воскресный проспект в Милане расширился.
Утренний свет левой руки на площади, Думо с длинными тенями, где звон колокольчиков сотрясает восторг от синего, девственного воздуха, прямоугольные углы, параллели де Кирико — и где беззвучно фыркает, крупный конь, голова которого опущена и поник, означает смерть его всадника, задерживает дыхание намного дольше, чем наше на нашем острове безопасности. Растущая любовь к Италии становится сильнее против моей воли с солнечным светом в Милане… Ибо мы все еще ожидаем присутствия, независимо от того, где — снова сесть за стол, наблюдая за светящимся грохотом большого торгового центра в Милане; там! Был ли это он, Иосиф в оливковом плаще, похожий на лист на чистом ручье с толпой листьев от края к центру, погружающейся в них?
6.II
Белые стены, окруженные бормотанием берез, дом хранил свою холодную тайну — он был культурным форпостом при старом режиме, когда Восток был колонией России. Но в солнечном свете маленького ржавого сада, который без разрешения пересекает ворона, не было перегородки; вместо этого его окружало сложенное эхо допроса, заговора, хотя открытые окна были запотевшими конвертами. Это была другая империя, хотя и холодная, а не горячая, и ее реликвия все еще вызывала у меня ноябрьскую дрожь.На неровной лужайке росла тень от колеса тростниковой фабрики, сброшенного соснами. Я сидел на дощатой скамейке у деревянного стола и слушал, как перетасовываются листы с вопросом о паразитизме поэзии сухогубыми листьями. Затем сквозь прореженные деревья я увидел призрак дыма, который, как мне казалось, исходил из дома, но каждый курильщик носит свой собственный венок; потом я увидела, что сегодня утренний венок твой. Другая империя была уничтожена. На этот раз Россия. Между вздохами листьев сияли березовые кости.Представляю, как ваш призрак в ольхе слушает, или, как говорилось в зеленой фразе: unter den Linden. Для Истории здесь — покрытие трупов не только в траншеях из негашеной извести, но и перхоть голубиных капель в каменных крыльях статуй, составляющих менуэты под открытым небом, записывающих воробьиные записки на странице облака. цветущие веснушки на эмалированных лугах, страницы весны, выстрелы жаворонков в дымящемся небе и крики лилий, собранных в вазу, небо, состоящее из бинтов и хлопка, и иглы больных шпилей, — это музыка, которую слышат в холодный марш через черные полосы лип, созданный памятным евреем, это не только облако, но и то, что скрыто под облаком, под страницей, как извилистые тени затонувшей баржи в искрящемся канале под звук лопата соскребает и постукивает по небольшому холмику ошибки, которую белые цветы опрыскивают под звук переворачивающихся листьев в библиотеках новой весной.
Уильям Уодсворт представил «фотографию Блума»:
для J.B.
В Рейкьявике в том году переговоры о бомбе провалились, но мы выжили среди сладких мертвых листьев, лежащих вдоль набережной перед гробницей Гранта.
Они закручивались в заваленные ветром кучи между скамейками и увядшей травой; сезон обострился в другом месте, а здесь умные надежды
слегка подорвался.В безопасности рядом друг с другом мы читали Джеймса Джойса, когда через дорогу у церкви остановился белый «роллс-ройс». Невеста
вышел на свет, возвышенный — как будто будущее, облаченное в белое, внезапно дало обещание, несмотря на Рейкьявик. Это видение, позолота
в осеннем свете, прервал прелюбодеяния Молли Блум, остановил увядание листьев, пока молодожены внезапно не
пошли своим путем. Этот блеклый снимок миссис Дж.Блум, что ее муж хранит, изменяет этой невесте: один взмах ветра и самый зеленый лист
не выживает. Сцена должна измениться. Улисс Грант в пылу битвы, как известно, сидел поглощенный, холодный, как камень, и писал письма для миссис
.Грант, чтобы сказать, все, что он в частном порядке считал, улетучивается дымом. Затянув сигару, он залил кровью поля в Теннесси,
похоронил свою совесть в каждом стакане виски и, наконец, сказал Ли на Аппоматтоксе, что победа печальна — он не хотел сдать
унижение на — жил без иллюзий.Так что подари нам всем еще одну холодную и золотую осень и знания о том, как покинуть
сцена. Невеста сняла платье той ночью, когда банды мальчиков играли в мяч о стену мавзолея. Закрываем книгу Молли Да .
«Тринадцать способов взглянуть на Иосифа Бродского» воспроизведено с разрешения Academic Studies Press, Бостон, Массачусетс, которое опубликует сборник интервью Валенины Полухиной о Бродском в сентябре 2008 года.Отрывки из книги Дерека Уолкотта « Блудный сын» . Авторские права © 2004 Дерек Уолкотт. Используется с разрешения Farrar, Straus and Giroux, LLC. Все права защищены. «Фотография Блума» Уильяма Уодсворта появляется по договоренности с автором. Все права защищены. Изображения: Фотографии Иосифа Бродского.
Подробнее читайте в выпуске за июнь 2008 г.
Иосиф Бродский поэт нашего времени | Европейская литература
Русский поэт Иосиф Бродский в последние годы привлекает все большее внимание как российских специалистов, так и широкой публики, интересующейся современной культурой.В 1987 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Эта первая книга на английском языке, полностью посвященная ему, представляет собой последовательный и всесторонний анализ его работ на сегодняшний день и предлагает интерпретацию его основных тем: любовь, вера, творение, время, изгнание и империя. Отдельные стихотворения тщательно изучаются, чтобы показать сложность и изощренность идей Бродского о вечных человеческих проблемах и то, как его язык выражает его восприятие определенных ценностей. Валентина Полухина связывает Бродского с другими русскими писателями от Державина до Ахматовой, а также проводит сравнения между его творчеством и поэзией на английском языке.Она также предоставляет обширную библиографию. Ее книга представляет собой своевременное исследование поэзии и поэтики, стиля и идей одного из самых важных поэтов двадцатого века.
Награды
- В 1987 году Полухина получила Нобелевскую премию по литературе.
Отзывы клиентов
Еще не рассмотрено
Оставьте отзыв первым
Отзыв не размещен из-за ненормативной лексики
×Подробнее о продукте
- Дата публикации: май 2009 г.
- формат: Мягкая обложка
- isbn: 9780521111461
- длина: 348 страниц
- размеры: 216 x 140 x 20 мм
- вес: 0.44кг
- содержит: 2 ч / б илл.
- наличие: В наличии
Содержание
Предисловие
Аббревиатуры
Транслитерация
Подтверждение
Часть I. Пасынок Империи:
1. Поколение 1956 года
2. Новая догутенбергская эпоха
3. Северное изгнание
4. A смена империй
Часть II. Тоска по мировой культуре:
5. В защиту культуры
6. Современный потомок классицизма
7.Элегии умершим, которым восхищаются: Джон Донн, Т. С. Элиот, У. Х. Оден
Часть III. Маска метафоры:
8. Сеть метафор
9. Сходство в несоответствии
10. Ars est celare artem
11. Форма тождества двух версий
Часть IV. Слова Пожирающие Вещи:
12. Вещь — Вещь
13. Человек — вещь — номер
14. Человек — слово — дух
15. Интеллектуальное и поэтическое путешествие по силе
Часть V. Песня непослушания:
16. Поэт против империя
17. Мазохистская радость
18.Говоря в тишине
Часть VI. Образ отчуждения:
19. Суровый метафизический реалист
20. Человек против времени и пространства
21. Credo quia absurdum est
Примечания
Библиография
Указатель.

 В Петербурге на этот день было запланировано открытие музея-квартиры «Полторы комнаты» в доме Мурузи, где поэт жил до эмиграции в США. Из-за эпидемии все мероприятия отложили до осени.
В Петербурге на этот день было запланировано открытие музея-квартиры «Полторы комнаты» в доме Мурузи, где поэт жил до эмиграции в США. Из-за эпидемии все мероприятия отложили до осени.