Но все же чтобы люди не замечали как книга написана: Камешки на ладони — Солоухин Владимир Алексеевич, стр. 5
Читать онлайн «Камешки на ладони» — Солоухин Владимир Алексеевич — RuLit
* * *
Писатель мне говорит: «Пишу сейчас книгу. Форма – дневник. Впрочем, никто не будет обращать внимания на то, как книга написана, все будут поглощены смыслом».
Так-то так. Но все же, чтобы люди не замечали, как книга написана, нужно единственное условие: она должна быть написана хорошо.
* * *
Умопомрачительное искусство циркачей. Кажется неправдоподобной эта точность движений, эта способность в такой степени управлять своим телом. Это на грани с чудом.
Но когда я смотрю цирковую программу, я после третьего номера как-то сразу перестаю всему удивляться. Мне кажется, что они все могут. И так могут. И эдак могут. Еще и не так могут. Невероятно, сногсшибательно, конечно, но если они умеют так делать, что же, пусть.
Между тем вопрос не лишен интереса. В нем гнездит одна из важнейших проблем искусства.
Художник – как бы гениален он ни был – приглашает читателя (или зрителя, если это художник-живописец) в сопереживатели.
В цирке этого приглашения в соучастники не происходит. Я могу вообразить себя Робинзоном Крузо, Дубровским или д’Артаньяном. Но я не могу вообразить себя на месте циркача, зацепившегося мизинцем ноги за крючок под куполом цирка, висящего вниз головой, в зубах держащего оглоблю, с тем чтобы на оглобле висело вниз головами еще два человека и чтобы все это быстро вращалось. Я не могу представить себя стоящим на вертком деревянном мяче и жонглирующим сразу двадцатью тарелками.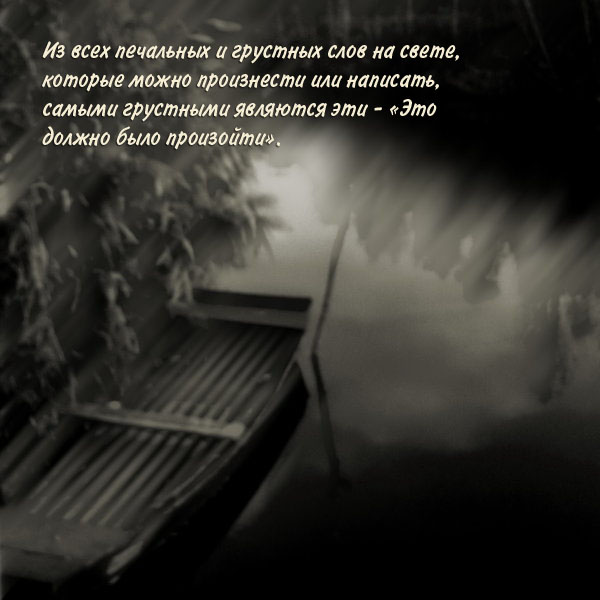
Они это умеют, пусть делают, а я буду глядеть на них со стороны. Сногсшибательно, конечно. Но если они умеют…
* * *
Самое определяющее слово для писателя и художника вообще и самый большой комплимент ему – исследователь.
Итак, писатель – исследователь, и как таковой должен быть элементарно добросовестным. Это самое первое, что от него требуется.
Исследователь-ботаник, обнаружив новый цветок о шести лепестках, не напишет в своем исследовании, что лепестков было пять.
Только иные писатели позволяют себе подчас говорить на белое черное, очернять или, напротив, обелять действительность. В таком случае – исследователи ли, то есть писатели ли они?
* * *
Есть игра, или как теперь модно говорить – психологический практикум. Заставляют быстро назвать фрукт и домашнюю птицу.
Если человек выпалит сразу «яблоко» и «курицу», то считается, что он мыслит банально и трафаретно, что он не оригинальная, не самобытная личность. Считается, что оригинальный и самобытный человек, обладающий умом из ряда вон выходящим, должен назвать другое: апельсин, грушу, утку, индюка.
Но дело здесь не в оригинальности ума, а в открытом простодушном характере или, напротив, в хитрости и лукавстве. Лукавый человек успеет заподозрить ловушку, и хотя на языке у него будут вертеться то же яблоко и та же курица, он преодолеет первоначальное, импульсивное желание и нарочно скажет что-нибудь незамысловатее вроде хурмы и павлина.
Лукавый человек успеет заподозрить ловушку, и хотя на языке у него будут вертеться то же яблоко и та же курица, он преодолеет первоначальное, импульсивное желание и нарочно скажет что-нибудь незамысловатее вроде хурмы и павлина.
* * *
Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. На барельефе, как известно, сто девять человек, удостоившихся, сподобившихся олицетворять отечество и его славу. Конечно, тут не все люди, кто мог бы олицетворять, всех невозможно было бы уместить. Значит, был строгий выбор, а в выборе была тенденция.
Есть Пушкин, но нет Белинского, есть Гоголь, но нет Степана Разина. Есть Сусанин, но нет Пугачева, есть Минин, но нет Булавина, есть Лермонтов, но нет Радищева…
Можно было бы теперь упрекнуть тех, кто выбрал, за такую тенденцию, за такую ограниченность. Но, с другой стороны, разве одни не попавшие, не сподобившиеся могли бы составить Россию без тех, кто сподобился и попал?
* * *
Мастер говорит: «Ты сидишь и чеканишь два года серебряный рубль, и получается изумительное изделие ручной чеканки. А в это время со штамповочного станка выбрасывают на рынок те же по рисунку алюминиевые рубли и пускают их по той же цене».
А в это время со штамповочного станка выбрасывают на рынок те же по рисунку алюминиевые рубли и пускают их по той же цене».
Происходит девальвация мастерства и искусства.
* * *
Для художника весь материал, – а он в объеме не имеет пределов, ибо в конечном счете он – сама жизнь, – это как обыкновенное солнце. Его много, оно везде. Оно обладает своими качествами: теплое, светлое, Однако, чтобы резко проявить его основное качество, чтобы воочию показать, что солнце – это огонь, мы должны собрать его рассеянные лучи в пучок при помощи двояковыпуклой линзы. Образуется маленькая ослепительно-яркая точка, от которой тотчас начинает куриться дымок.
* * *
Сущностью любого произведения искусства должно быть нечто объективное в субъективном освещении. Например, художник пишет дерево. Но это значит, он пишет: «Я и дерево». Или: «Я и женщина», «Я и русский пейзаж», «Я и кавказский пейзаж», «Я и демон», «Я и московская улица»…
Значит, нужно изобразить основные характерные признаки московской улицы так, чтобы в них сквозило отношение художника к изображаемому: то ли он любит московскую улицу – и она кажется ему прекрасной и величественной, то ли он не любит ее – и она представляется унылой, серой, холодной, не живой.
Ну, а как быть художнику, если ему нужно изобразить: «я и вся земля», «я и человечество», «я и вселенная»?
Может быть, именно в этой точке начинается Рерих.
* * *
В одном романе Жюль Верна люди решили при помощи выстрела из огромной пушки сместить ось земного шара. Тогда растопились бы полярные льды, половину Европы, в том числе и Париж, залило бы водой и так далее.
Время выстрела было объявлено. Европейцы в панике ждали часа катастрофы.
Только один математик сидел спокойно в парижском кафе и пил кофе. Он проверил расчеты безумцев, нашел ошибку в расчетах и знал, что ничего не произойдет.
Как часто во время литературных дискуссий и шумных кампаний приходится довольствоваться грустной ролью математика, спокойно пьющего кофе.
* * *
Что значит – знаю ли я этого человека? Это значит – знаю ли я, как он поступит в том или другом случае, в той или иной сложившейся обстановке.
Я жил сорок дней в Малеевке. Писал рассказы, роман, катался на лыжах, читал, слушал самого себя.
Солоухин Владимир Алексеевич. Камешки на ладони
Владимир Алексеевич Солоухин. Камешки на ладони
Иногда мне приходилось сидеть на морском берегу, усыпанном мелкими разноцветными камешками. Они, правда, сначала не кажутся разноцветными – этакая однообразная сероватая масса. Их называют галькой.
Сидя на берегу, невольно начинаешь перебирать камешки вокруг себя. Возьмешь горсть, просеешь сквозь пальцы, возьмешь горсть, просеешь сквозь пальцы… Или возьмешь камешек и бросишь его в воду. Пойдут круги. Снова возьмешь камешек и бросишь в воду. Занятие не то чтобы очень интеллектуальное, но нисколько не хуже домино или подкидного дурака.
Неожиданно один из камешков останавливает ваше внимание. Он округлый, полупрозрачный, но полупрозрачная сердцевина его слегка красновата, как будто в нем растворена капля крови.
Или, напротив, он черный, как лаковый, а по черному лаку – желтый узор, похожий, скажем, на пальму.
Или по цвету он обыкновенный, серенький, но по форме – чистая женская туфелька.
Или он зеленый, а на нем летящая белая чайка. Да что говорить – бесчисленны и разнообразны камешки на морском берегу!
Понравившиеся вам, так сказать, экземпляры вы невольно складываете отдельно в купальную шапочку, или в башмак, или на разостланную газету. Хотелось бы их увезти в Москву, показать друзьям, самому полюбоваться зимой, вспомнить о синем море.
Но красивых, необыкновенных камней набирается все больше, и тут вы начинаете то, что можно назвать вторым туром.
Вы уже не обращаете внимания на рассыпанные прибрежные камешки, вы отбираете из тех, что были отобраны вами раньше. Вы кладете на ладонь с десяток камешков и пальцем долго перекатываете их с места на место, пока не остановите свой выбор на трех, а остальные семь выбросите обратно на берег…
Теперь ближе к делу. Много лет назад я завел себе тетрадь в темно-коричневом переплете, из тех, что у нас называются общими. При чтении книги, в разговоре с друзьями, на писательском собрании, во время одиноких прогулок, в жарком споре мелькала иногда мысль… Впрочем, не то чтобы мысль – некая формулировка, некое представление, касающееся чаще всего литературы. Ну и смежных искусств.
При чтении книги, в разговоре с друзьями, на писательском собрании, во время одиноких прогулок, в жарком споре мелькала иногда мысль… Впрочем, не то чтобы мысль – некая формулировка, некое представление, касающееся чаще всего литературы. Ну и смежных искусств.
Это представление, эту формулу, эту мысль (может быть, в конце концов проще всего сказать – мысль) я старался либо запомнить, либо записать на клочке бумаги, на авиационном билете, на листочке, выдранном из чужого перекидного календаря.
Когда такие бумажки накапливались по карманам, я доставал их, разглаживал на ладони, потому что происходил отбор. Некоторые я переписывал в тетрадку.
У меня была очень утилитарная цель. Я собирался писать, а впоследствии и писал роман, в котором (предполагалось) герои будут много разговаривать об искусств больше всего о литературе. Ну и о разных других вещах. Я думал, что заготавливаю кирпичики для романа.
При написании романа существуют свои законы. Мои кирпичики все оставались и оставались в стороне, а герои говорили то, что им было нужно говорить по ходу дела.
Время от времени я брал из тетради иной камешек и вставлял его в очередную статью. В иную статью я вставлял два-три камешка, и статья, мне казалось, становил живее.
Потом начался третий тур. Подолгу я листал свою тетрадь и снова перебирал и перебирал, пока какая-нибудь пятая или десятая запись не попадала в избранные. Я брал ее и заключал в более четкую и строгую форму. Практически это выражалось в том, что я выписывал ее из тетради с соответствующей литературной обработкой на отдельный лист бумаги.
Для очень внимательного читателя некоторые записи возможно, покажутся где-то читанными. Вероятно, в моих же статьях. Или в «Письмах из Русского музея», или в том же романе «Мать-мачеха», или в книге «Слово живое и мертвое», или в книге «Славянская тетрадь»…
По какому же принципу я предлагаю их, эти некоторые записи, читательскому вниманию вторично? Принцип у меня такой. Если камешек был взят в статью из тетради, я его сохраняю и здесь. Если же он был найден в процессе писания статьи или книги, то я его в тетрадь задним числом не вписывал и его на предлагаемых теперь читательскому вниманию страницах не окажется.
Друзья говорят: не торопись. Ведь придется еще и впредь писать статьи, камешки пригодятся. А я отвечаю – пусть! Во-первых, насобираю еще. Во-вторых, может быть, так даже интереснее. Одно дело, когда камешек теряется среди других бесчисленных камней, то есть среди многословия статьи, другое дело, когда он отдельно лежит на ладони.
Надо бы и еще поперебирать, пропустить через четвертый тур. Да и те, что пока остались в стороне, в тетради, тоже не совсем еще выброшены и подлежат постепенной переборке.
Но и то правда, пусть поперебирает читатель. Если из всей этой высыпанной перед ним на стол груды камешков он отберет для себя хотя бы пяток, и то ладно. Я ведь и собирал их только для того, чтобы показать людям, в надежде, что некоторые из них окажутся забавными.
После журнальной публикации мне говорили, что иные мои суждения не бесспорны. Но я и не обязывался изрекать бесспорные истины.
В юности, в начале творческого пути, у поэта иногда вдруг получаются такие перлы искусства, которые изумляют всех.
Потом он приобретает опыт, становится мастером, постигает законы композиции, архитектоники, гармонии и дисгармонии, обогащается целым арсеналом средств и профессиональных секретов.
И вот, вооружившись всем этим, он всю жизнь пытается сознательно достичь той же высоты, которая в юности далась ему как бы случайно.
* * *
Можно исследовать химический состав, технологию производства, рецепты, тайны мастерства и все точно узнать: почему фарфоровая чашка звенит красиво и ярко, а просто глиняная издает глухой звук.Но мы никогда не узнаем – почему одни фразы, стихотворные строки, строфы бывают звонкими, а другие глухими.
Дело вовсе не в глухих согласных, шипящих, закрытых и открытых звуках. Каждое слово без исключения может звенеть, будучи поставленным на свое место. Слова одни и те же, но в одном случае из них получается фарфор, бронза, медь, а в другом случае – сырая клеклая глина.
Один поет, а другой хрипит. Один чеканит, другой мямлит.
 Одна строка как бы светится изнутри, другая тускла и даже грязна. Одна похожа на драгоценный камень, другая – на комок замазки.
Одна строка как бы светится изнутри, другая тускла и даже грязна. Одна похожа на драгоценный камень, другая – на комок замазки.* * *
Если около пчелиного улья поставить смородиновый, скажем, сироп, то он повлияет на качество меда, на его витаминность, потому что пчелы будут сироп пить и незаметно подмешивать в натуральный, цветочный, собственно пчелиный мед. Таким образом можно получить мед с молочным, морковным, лимонным, хвойным оттенками.Точно так же книга, которую читаешь, когда пишешь что-нибудь свое, незаметно влияет на то, что пишешь. Едва уловимый узор витиеватости и расцвеченности появится на ткани произведения, если читаешь в эти дни книгу, написанную расцвеченно и витиевато. Налет сухости возникает, если читаешь сухую научную информацию. Печать лаконизма или расслабленности ляжет при чтении соответствующих книг.
Зная это, можно и нужно сознательно выбирать для себя чтение в зависимости от того, что пишешь и какой «витамин» более для данного случая подходящ.

* * *
Почему герои «Мертвых душ» вот уже стольким поколениям читателей кажутся удивительно яркими, выпуклыми, живыми? Ни во времена Гоголя, ни позже, я думаю, нельзя было встретить в чистом виде ни Собакевича, ни Ноздрева, ни Плюшкина. Дело в том, что в каждом из гоголевских героев читатель узнает… себя! Характер человеческий очень сложен. Он состоит из множества склонностей. Гоголь взял одного нормального человека (им мог быть и сам Гоголь), расщепил его на склонности, а потом из каждой склонности, гиперболизировав ее, создал самостоятельного героя. В зародышевом состоянии живут в каждом из нас и склонность к бесплодному мечтательству, и склонность к хвастовству, и склонность к скопидомству, хотя в сложной совокупности характера никто из нас не Манилов, не Ноздрев, не Плюшкин. Но они нам очень понятны и, если хотите, даже близки.* * *
Ко всему, что я описал в своих книгах, у меня притупляется интерес в жизни. Шагреневая кожа.* * *
Читая некоторые книги, я как на оселке правлю свой язык. На иных книгах я правлю свою гражданскую совесть.
На иных книгах я правлю свою гражданскую совесть.Есть убежденность, что большими знаниями можно погубить в себе поэзию. Рациональное зерно здесь заключается в том, что с приобретением знаний утрачивается непосредственность восприятия мира, способность удивляться, развивается рефлексия…
Но, по-моему, дровами можно завалить и потушить только слабенький огонек. Большой, разгоревшийся костер дровами не завалишь. Он разгорится еще ярче.
* * *
Нужно попасть камнем в цель на далеком расстоянии. У человека, умеющего далеко кидать камни, при этом будет одна лишь трудность – попасть. Докинуть до цели для него не проблема. Это для него – само собой разумеется.Если же человек едва-едва добрасывает камень до нужного места, то где уж ему попасть.
Литературная техника, собственно литературное ремесло, и есть вот это умение «докинуть».
Нужно, чтобы все эти рифмы, внутренние рифмы, разноударные рифмы, мужские и женские рифмы, ассонансы, аллитерации и прочее, нужно, чтобы это не было проблемой, а было как умение легко докинуть камень до цели.
 Тогда вся энергия сосредоточится именно на том, чтобы попасть в цель.
Тогда вся энергия сосредоточится именно на том, чтобы попасть в цель.* * *
Наши критики, разбирая то или иное произведение чаще всего говорят, так сказать, о курсе корабля и совсем не говорят о его плавучести, о его навигационных качествах, а тем более об отделке салонов, палуб, кают.* * *
Если для всех людей сахар сладок, а соль солона, если для всех ландыши пахнут ландышами, а навоз навозом, если для всех больно есть больно, а сладострастно есть сладострастно, то не предположить ли, что и все иные чувства людей, если не вполне одинаковы, то сходны.Чувство нежности, жалости, жадности, любви, горя, тоски, грусти, скуки, раскаяния, страха, гордости, возмездия – все эти чувства для всех людей «на вкус» одинаковы.
Если бы было по-другому, искусство не могло бы существовать.
* * *
У него ладный, хорошо работающий поэтический аппарат. Но ему нечего в этот аппарат запускать.* * *
Спортсмен-марафонец бежит, преодолевая свою классическую дистанцию – сорок два километра. Вдруг его остановил человек и говорит:
Вдруг его остановил человек и говорит:– Здесь в стороне, всего триста метров, есть табачный киоск, сбегай, купи мне сигарет.
– Но я преодолеваю дистанцию…
– Вот именно, все равно ты уж бежишь. Что тебе стоит сделать лишних полкилометра. Это займет у тебя пять минут. Ну что тебе стоит…
Ситуация фантастическая. Но я думаю о ней всякий раз, когда звонят из редакции и просят написать статью.
– Но я пишу сейчас повесть (или роман).
– Это займет у вас два дня. Нужно восемь страничек на машинке.
– Но я пишу повесть.
– Вот именно, все равно пишете. В повести небось будет четыреста страниц, так что вам стоит написать лишние восемь…
* * *
Хорошему, тонкому скрипичному мастеру один приятнль во время выпивки советовал:– Слушай, сделай ты фортепьяну. Она большая, сколько денег сразу заработаешь.
– Не хочу делать фортепьяны! – восклицал мастер.
Мой друг, Миша Скороходов, живущий теперь в Архангельске, имея в виду, очевидно, мои прозаические книги (сравнительно со стихами), и тоже во время выпивки мне сказал:
– Слушай, перестань делать фортепьяны.

* * *
Сколько людей на свете, столько и понятий о счастье, потому что счастье состоит в удовлетворен запросов, а запросы бывают разные. Русская пословица говорит: «У каждого по горю, да не поровну. У одного похлебка жидка, у другого жемчуг мелок». То же можно сказать о счастье.Тем не менее у любого счастья существует фон, или, вернее, основа, и есть подробности крупных планов.
Наиболее прочной и, вероятно, единственно прочной основой является глубокая удовлетворенность главным делом своей жизни, которое тоже у каждого человека свое.
Личные, повседневные огорчения и радости (подробности крупного плана) могут, конечно, на время заслонять основное. Но при отсутствии основного они не могут составить счастья.
* * *
Однажды я ночевал в коренном дагестанском ауле.Днем, пока мы суетились и разговаривали, обедали и пели песни, ничего не было слышно, кроме обыкновенных для аула звуков: крик осла, скрип и звяканье, смех детей, пенье петуха, шум автомобиля и вообще дневной шум, когда не отличаешь один звук от другого и не обращаешь на шум внимания, хотя бы потому, что и сам принимаешь участие в его создании.

Потом я лег спать, и мне начал чудиться шум реки. Чем тише становилось на улице, тем громче шумела река. Постепенно она заполнила всю тишину, и ничего в мире кроме нее не осталось. Властно, полнозвучно, устойчиво шумела река, которой днем не было слышно нигде поблизости, Утром, когда мир снова наполнился криками петуха, скрипом колеса, громыханием грузовика и нашим собственным разговором о всякой ерунде, я спросил у жителей аула и узнал все же, что река мне не приснилась, она действительно существует в дальнем ущелье за горой, только днем ее не слышно.
Каково же художнику сквозь повседневную суету жизни прислушиваться к постоянно существующему в нем самом и в мире, но не постоянно слышимому голосу откровения?
И я мог бы многое услышать в этом мире, но, к сожалению, сам я все время шумел.
* * *
Красота окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе древнего человека. Потом неизбежно началась отдача. Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора. Вместе с тем изображение топора или оленя появилось на скале, высеченное при помощи камня или нарисованное пометом летучей мыши.
Вместе с тем изображение топора или оленя появилось на скале, высеченное при помощи камня или нарисованное пометом летучей мыши.Но что же все-таки было в начале: потребность души поделиться с другой душой (рисунок на скале) или потребность украсить свой боевой топор и тем самым выделить свою индивидуальность?
* * *
Мысль или образ, еще не отлитые в форму, не заключенные в формулу, в чеканную фразу, в отточенную строфу, способны развиваться, детонировать, порождать цепочку, влекущую другие мысли и образы. Они, как летящая бабочка, которую трудно разглядеть в подробностях, но следя за которой увидишь замысловатые зигзаги ее полета и цветок, на котором она посидела, и другую бабочку, которую она спугнула, и темную ель, на фоне которой творился ее золотистый зигзаг.Напротив, мысль или образ, облеченные в форму, это та же самая бабочка, но уже пришпиленная булавкой. Ее теперь легче разглядывать и изучать, но ждать от нее больше нечего, она вся тут и никаких золотистых зигзагов, никаких неожиданностей подарить нам не может.

* * *
Чтобы любить и защищать родную культуру, достаточно, может быть, родиться в своей стране, среди своего народа и, так сказать, впитать национальные чувства с молоком матери.Чтобы любить и защищать культуру другого народа, нужно обладать самому высокой и широкой культурой.
Чтобы защищать и сохранять свою культуру, достаточно быть русским, грузином, немцем, итальянцем, испанцем…
Чтобы сохранять культуру другого народа, надобно быть не меньше, чем человеком.
* * *
Вот область человеческой деятельности, в которой человечество с тех пор, как оно себя помнит, не сделало ровно никакого прогресса. Я имею в виду одомашнивание животных. В самом деле, все современные домашние животные уже были как бы с самого начала: корова, лошадь, кошка, собака, овца, коза, осел, верблюд… На своей памяти человек не прибавил к этому списку ни одного животного. Если иметь в виду одомашнивание целого вида, а не приручение отдельного экземпляра, например: белки, лося, ежа или даже волка.
* * *
Писатель мне говорит: «Пишу сейчас книгу. Форма – дневник. Впрочем, никто не будет обращать внимания на то, как книга написана, все будут поглощены смыслом».Так-то так. Но все же, чтобы люди не замечали, как книга написана, нужно единственное условие: она должна быть написана хорошо.
* * *
Умопомрачительное искусство циркачей. Кажется неправдоподобной эта точность движений, эта способность в такой степени управлять своим телом. Это на грани с чудом.Но когда я смотрю цирковую программу, я после третьего номера как-то сразу перестаю всему удивляться. Мне кажется, что они все могут. И так могут. И эдак могут. Еще и не так могут. Невероятно, сногсшибательно, конечно, но если они умеют так делать, что же, пусть.
Между тем вопрос не лишен интереса. В нем гнездит одна из важнейших проблем искусства.
Художник – как бы гениален он ни был – приглашает читателя (или зрителя, если это художник-живописец) в сопереживатели. Читатель переживает судьбу Анны Карениной, Печорина, Робинзона Крузо, Гулливера, Тома Сойера, Дон-Кихота, Квазимодо, Андрея Болконского, Тараса Бульбы… Он переживает или сопереживает все, что происходит с героями, как если бы это происходило с ним самим.
 Отсюда и острота переживания, отсюда и сила воздействия искусства. Если читатель и не подставляет себя полностью на место литературных героев, то он как бы находится рядом с ними, в той же обстановке. Он не просто свидетель, но и непременно соучастник происходящего.
Отсюда и острота переживания, отсюда и сила воздействия искусства. Если читатель и не подставляет себя полностью на место литературных героев, то он как бы находится рядом с ними, в той же обстановке. Он не просто свидетель, но и непременно соучастник происходящего.В цирке этого приглашения в соучастники не происходит. Я могу вообразить себя Робинзоном Крузо, Дубровским или д’Артаньяном. Но я не могу вообразить себя на месте циркача, зацепившегося мизинцем ноги за крючок под куполом цирка, висящего вниз головой, в зубах держащего оглоблю, с тем чтобы на оглобле висело вниз головами еще два человека и чтобы все это быстро вращалось. Я не могу представить себя стоящим на вертком деревянном мяче и жонглирующим сразу двадцатью тарелками.
Они это умеют, пусть делают, а я буду глядеть на них со стороны. Сногсшибательно, конечно. Но если они умеют…
* * *
Самое определяющее слово для писателя и художника вообще и самый большой комплимент ему – исследователь.Бальзак исследовал, скажем, душу и психологию скряги Гобсека, Толстой – душу и психологию женщины, изменившей мужу, Пришвин – вопрос о месте природы в душе и жизни человека, Пушкин – вопрос отношения личности и государственности («Медный всадник»), Достоевский – взаимодействие добра и зла в душе человека… Да мало ли! Современные наши писатели тоже пытаются исследовать, один – психологию человека на войне, другой – проблемы колхозного строительства, третий – быт городской семьи, четвертый – отношения между двумя поколениями…
Итак, писатель – исследователь, и как таковой должен быть элементарно добросовестным.
 Это самое первое, что от него требуется.
Это самое первое, что от него требуется.Исследователь-ботаник, обнаружив новый цветок о шести лепестках, не напишет в своем исследовании, что лепестков было пять. Сама мысль о таком поведении ботаника абсурдна. Географ, обнаружив неизвестную речку, текущую с севера на юг, не будет вводить людей в заблуждение, что речка течет на восток. Исследователь, сидящий на льдине около полюса, не будет завышать или занижать температуру и влажность воздуха, чтобы кому-нибудь сделать приятное.
Только иные писатели позволяют себе подчас говорить на белое черное, очернять или, напротив, обелять действительность. В таком случае – исследователи ли, то есть писатели ли они?
* * *
Есть игра, или как теперь модно говорить – психологический практикум. Заставляют быстро назвать фрукт и домашнюю птицу.Если человек выпалит сразу «яблоко» и «курицу», то считается, что он мыслит банально и трафаретно, что он не оригинальная, не самобытная личность. Считается, что оригинальный и самобытный человек, обладающий умом из ряда вон выходящим, должен назвать другое: апельсин, грушу, утку, индюка.

Но дело здесь не в оригинальности ума, а в открытом простодушном характере или, напротив, в хитрости и лукавстве. Лукавый человек успеет заподозрить ловушку, и хотя на языке у него будут вертеться то же яблоко и та же курица, он преодолеет первоначальное, импульсивное желание и нарочно скажет что-нибудь незамысловатее вроде хурмы и павлина.
* * *
Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. На барельефе, как известно, сто девять человек, удостоившихся, сподобившихся олицетворять отечество и его славу. Конечно, тут не все люди, кто мог бы олицетворять, всех невозможно было бы уместить. Значит, был строгий выбор, а в выборе была тенденция.Есть Пушкин, но нет Белинского, есть Гоголь, но нет Степана Разина. Есть Сусанин, но нет Пугачева, есть Минин, но нет Булавина, есть Лермонтов, но нет Радищева…
Можно было бы теперь упрекнуть тех, кто выбрал, за такую тенденцию, за такую ограниченность. Но, с другой стороны, разве одни не попавшие, не сподобившиеся могли бы составить Россию без тех, кто сподобился и попал?
* * *
Мастер говорит: «Ты сидишь и чеканишь два года серебряный рубль, и получается изумительное изделие ручной чеканки. А в это время со штамповочного станка выбрасывают на рынок те же по рисунку алюминиевые рубли и пускают их по той же цене».
А в это время со штамповочного станка выбрасывают на рынок те же по рисунку алюминиевые рубли и пускают их по той же цене».Происходит девальвация мастерства и искусства.
* * *
Для художника весь материал, – а он в объеме не имеет пределов, ибо в конечном счете он – сама жизнь, – это как обыкновенное солнце. Его много, оно везде. Оно обладает своими качествами: теплое, светлое, Однако, чтобы резко проявить его основное качество, чтобы воочию показать, что солнце – это огонь, мы должны собрать его рассеянные лучи в пучок при помощи двояковыпуклой линзы. Образуется маленькая ослепительно-яркая точка, от которой тотчас начинает куриться дымок.* * *
Сущностью любого произведения искусства должно быть нечто объективное в субъективном освещении. Например, художник пишет дерево. Но это значит, он пишет: «Я и дерево». Или: «Я и женщина», «Я и русский пейзаж», «Я и кавказский пейзаж», «Я и демон», «Я и московская улица»…Значит, нужно изобразить основные характерные признаки московской улицы так, чтобы в них сквозило отношение художника к изображаемому: то ли он любит московскую улицу – и она кажется ему прекрасной и величественной, то ли он не любит ее – и она представляется унылой, серой, холодной, не живой.

Ну, а как быть художнику, если ему нужно изобразить: «я и вся земля», «я и человечество», «я и вселенная»?
Может быть, именно в этой точке начинается Рерих.
* * *
В одном романе Жюль Верна люди решили при помощи выстрела из огромной пушки сместить ось земного шара. Тогда растопились бы полярные льды, половину Европы, в том числе и Париж, залило бы водой и так далее.Время выстрела было объявлено. Европейцы в панике ждали часа катастрофы.
Только один математик сидел спокойно в парижском кафе и пил кофе. Он проверил расчеты безумцев, нашел ошибку в расчетах и знал, что ничего не произойдет.
Как часто во время литературных дискуссий и шумных кампаний приходится довольствоваться грустной ролью математика, спокойно пьющего кофе.
* * *
Что значит – знаю ли я этого человека? Это значит – знаю ли я, как он поступит в том или другом случае, в той или иной сложившейся обстановке.Я жил сорок дней в Малеевке. Писал рассказы, роман, катался на лыжах, читал, слушал самого себя.

Однажды пошли стихи. Четыре стихотворения за три дня. Потом стихи прекратились так же неожиданно, как возникли. Значит, из сорока дней три оказались стихотворными. Но чтобы эти три дня подкараулить, нужно было все сорок дней прислушиваться к самому себе.
Если бы эти три дня пришлись на Москву (с утра – телефонные звонки, в одиннадцать – встреча в редакции, в три – совещание, в шесть – просмотр нового фильма), то написанных мною четырех стихотворений не появилось бы. Я так и не узнал бы, что у меня, оказывается, было три стихотворных дня.
* * *
Ужасной машиной зубной врач сверлит зуб. Он может сверлить его очень долго и высверлить почти весь, и все – не больно. Но вдруг острая боль пронзае все тело, каждую клетку. Кажется, больно и в мозгу, и в сердце, и даже в пятках. Значит, сверло дотронулось до обнаженного нерва.Я не знаю, от чего это зависит, но огромное большинство произведений современного, да и не только современного искусства, как бы добротны, обстоятельны и художественны они ни были, не дотрагиваются до нерва.
 Их читают, отзываются одобрительно, даже рекомендуют читать друзьям…
Их читают, отзываются одобрительно, даже рекомендуют читать друзьям…И вдруг с одним из произведений происходит нечто. Вырывают из рук, говорят взахлеб, звонят по телефону, в библиотеках очереди, книгопродавцы достают из-под прилавка… Книга зацепила за нерв, и сразу все и везде: в Москве, в Ленинграде, на Камчатке – почувствовали, что больно.
Ни зубной врач, ни художник не знают, что сейчас-то, сию-то секунду они дотрагиваются до нерва. Это происходит неожиданно для них самих, и они узнают об этом уже по реакции пациента или читателя: по вздрагиванию, по вскрику или даже по воплю.
* * *
Телепатия – вещь настолько же реальная, как телевидение или радио. Конечно, сидя в Москве, читать мысль человека, идущего теперь по улице Лондона, кажется невероятным, неправдоподобным. Но еще более неправдоподобным казалось лет двести-триста назад, что, сидя в Москве, можно смотреть футбольный матч, происходящий в Лондоне.Конструктор, конструируя человека, вмонтировал в него и аппаратик для передачи и приема мысли на расстоянии и вообще для передачи мыслей другим людям без посредства слов, жестов, мимики и выражения глаз.
 Известно даже месторасположение этого аппаратика в мозгу.
Известно даже месторасположение этого аппаратика в мозгу.Пожалуйста, НЕ пишите книгу. Вот что вы можете сделать вместо этого | by Akshay Gajria
Вот что вы можете сделать вместо
Опубликовано в·
Чтение: 11 мин.В качестве тренера по письму многие люди подход ко мне, кто хочет написать книгу. Но в последнее время всем этим писателям я даю совет НЕ писать книгу.
Почему?
Мой наставник говорил, что 90% человечества мечтает написать книгу. Я провел небольшой опрос, прежде чем начал писать эту статью, и обнаружил, что его оценка не ошиблась. Многие, если не большинство, мечтают написать книгу, получить свое имя на обложке — это вопрос доверия. С книгой на ваше имя, особенно в наши дни, ваш статус индивидуального бренда, влиятельного лица взлетает до небес. Так почему же не все пишут книги?
Независимый опрос, проведенный автором | Скриншот автораЭто непросто. Если бы это было так, то все бы так делали и фактор правдоподобия не был бы таким высоким, верно?
«Если вы потерпите неудачу в литературе, вы рискуете потерпеть неудачу как личность, потому что в ней работает вся ваша матрица бытия.
Так что это тот момент, когда я предупреждаю, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ты с ума сошел? Вероятность прочесть книгу один к тысяче!
— DBC Pierre¹
Я рассматриваю написание книги как долгосрочные отношения. Короткие рассказы, эссе, длинные подписи в Instagram — все, что вам нравится, доставляет удовольствие; но они как летние интрижки. Что касается книги, вы должны стоять рядом с книгой, когда она дерьмовая, когда она не хочет идти туда, куда вы хотите, когда она упрямится и ее пустые страницы смотрят вам в глаза, осмеливаясь сказать хоть слово, когда угодно. слово, но вы знаете, что бы вы сказали, было бы неправильно. Вам также нужно смаковать дни, когда он лежит у вас на руках, а солнце светит прямо на его лицо, и вы хотите быть только там. Книга берет на себя всю вашу жизнь, ваше расписание, и каждый день спланирован вокруг нее — место, где вы едите, время, которое вы спите, люди, с которыми вы встречаетесь. Это вы и книга в своем собственном маленьком пузыре времени и пространства исполняете космический танец, наследие всего человечества.
Это подводит меня к вопросу, который большинство людей редко задают себе перед тем, как вступить в отношения или решить написать книгу: готовы ли вы к долгосрочным обязательствам? И я имею в виду долгосрочную перспективу. Вы знаете, сколько времени уходит на написание книги? Время (обычно) исчисляется годами.
Я знаю, знаю, есть несколько курсов, семинаров, люди, которые скажут, что вы можете написать, опубликовать и продать книгу за 30 дней. И хотя вполне возможно написать книгу за 30 дней и выпустить ее в мир, мой бредовый радар начинает пищать вокруг таких книг. Эти книги — отличные создатели ажиотажа, особенно если они правильно продаются и позиционируются. Но внутренности? Пустой. Они были созданы за рекордное количество дней и останутся в памяти ваших читателей через столько же дней, если не меньше.
Примечание: Вы можете выпустить первый черновик книги через 30 дней. Даже меньше. Но написать книгу — это нечто большее, чем записать слова. Писать — это тяжелая работа: думать, исследовать, мечтать, тренироваться, запираться в комнате и кричать о кровавых убийствах — все это часть процесса, и на это требуется время.
Писать — это тяжелая работа: думать, исследовать, мечтать, тренироваться, запираться в комнате и кричать о кровавых убийствах — все это часть процесса, и на это требуется время.
Нет, то, что люди хотят написать, чего они действительно хотят, в глубине души, это написать оригинальную книгу, незабываемую. Если вы думаете о написании книги, я надеюсь, что в какой-то момент вы тоже читали книгу. Много книг, чтобы быть в безопасности. Вы знаете, как обойти диван, кровать и любые другие странные позы, в которых вы нашли свое тело, изогнутое и свернувшись калачиком, держа книгу, пожирая ее. Эта книга осталась с вами по какой-то причине, и именно по этой причине вы хотите пойти по тем же стопам, оставить небольшой след в себе, который может обнаружить кто-то другой, и он может корчить свое тело во время чтения.
Для этого нужно потратить время. И многое из этого. Так что спросите себя: есть ли у вас время, чтобы инвестировать в эти отношения с вашей будущей книгой?
Давайте разберем это.
В 2019 году я был намного моложе писателя, чем сейчас, и имел за плечами около 6-7 лет писательского опыта. Я думал, что знаю все это. Ко мне подошел пожилой джентльмен, который хотел написать свою биографию. Он записал большую часть своей жизни, но английский был не самым лучшим, и он не подходил как единое целое. Это была не история, а всего лишь голая запись того, что он сделал. Он попросил меня написать книгу. С уверенностью сладкой юности, текущей по моим венам, я сказал ему, что буду закончить книгу в течение 6 месяцев. Я использовал в среднем от 1000 до 2000 слов в день в нескольких проектах. Целью этой книги было 90 000 слов. В уме я подсчитал: 90 дней на написание первого черновика и еще 90 на его редактирование. Вся математика имела смысл.
Как только реклама была улажена, мы отправились в неизвестность. Мне было не привыкать писать книги — я написал несколько первых черновиков многих книг, которые еще предстоит переписать и отредактировать. Но я закончил первый набросок и знал, что смогу сделать это и на этот раз. Были также деньги, вовлеченные в завершение этого, всегда большой стимул.
Были также деньги, вовлеченные в завершение этого, всегда большой стимул.
Но меня ждало грубое пробуждение. Мне потребовалось чуть больше 8 месяцев, чтобы закончить первый набросок. Пока я рассчитывал на словах — я не понимал, сколько времени займет исследование. У меня были часы и часы интервью с джентльменом, его семьей и всеми остальными, кто был связан, чтобы получить правильный голос, тон, манеры. Слова — это одно, но анализ данных, которые мы получаем, критическое мышление, необходимые для того, чтобы сшить переплетение в историю, которая имеет смысл и может быть легко воспринята читателем — написание — это гораздо больше, чем просто изложение слов на бумаге. .
В итоге у меня ушло около 8 месяцев на подготовку первого черновика и еще год — ГОД — и еще несколько месяцев на подготовку финального черновика для отправки издателям. Затем последовал раунд правок от издателей и ряд окончательных корректур, которые нам предстояло пройти. В этот последний процесс вовлечено много людей, и, несмотря на это, вкрались ошибки. Я помню, как однажды днем я посетил джентльмена, когда он получил свой первый пробный экземпляр. Мы были счастливы и взволнованы, увидев нашу тяжелую работу в печати. Я взял книгу в руки, не веря, что наконец-то сделал это. В тот же вечер, когда я вернулся домой, мне позвонил джентльмен. Он казался напряженным. Я спросил, в чем дело, и он сказал мне, что мы — все от меня до него, его семьи и редакторов издательства — забыли включить ПРЕДИСЛОВИЕ в окончательный файл, который был отправлен в печать.
Я помню, как однажды днем я посетил джентльмена, когда он получил свой первый пробный экземпляр. Мы были счастливы и взволнованы, увидев нашу тяжелую работу в печати. Я взял книгу в руки, не веря, что наконец-то сделал это. В тот же вечер, когда я вернулся домой, мне позвонил джентльмен. Он казался напряженным. Я спросил, в чем дело, и он сказал мне, что мы — все от меня до него, его семьи и редакторов издательства — забыли включить ПРЕДИСЛОВИЕ в окончательный файл, который был отправлен в печать.
Мы исправили это, и теперь я могу смеяться над этим. Но история написания книги, ее публикации и выхода на рынок сама по себе может стать великой книгой. И это верно для всех книг.
Весь этот опыт оставил во мне тяжелое уважение ко всем, кому удалось издать книгу. Чтобы достичь этой абстрактной финишной черты. Это нелегко, нет, сэр. Это требует времени, это требует усилий. И только в тот день, когда книга была опубликована, я смогла преодолеть и уйти от этих преданных отношений, в которых я была больше года. Это был взаимный разрыв, и я рада, что книга стала частью моей жизни. Это меня многому научило.
Это был взаимный разрыв, и я рада, что книга стала частью моей жизни. Это меня многому научило.
Я не говорю, что у вас будет такой же опыт при написании книги. История вашей книги будет другой. Но, как кости всех историй, вы будете бороться и это тяжелая битва. Готовы ли вы к этому? Вы действительно?
Не будь писателем.
Просто не надо.
writingcooperative.com
Вы все еще здесь и читаете это? Все мои предупреждения и рассказы о том, насколько тревожным является весь этот опыт, еще не отпугнули вас? Это хорошо. Ты тот, с кем я хочу поговорить.
Если ты все еще здесь, я так понимаю, ты сделан из более прочного материала и действительно хочешь написать книгу, а лысый мужчина, болтающий о том, как трудно ему было (призрак) написать книгу, не собирается остановить вас. Ты настоящий сумасшедший. А теперь давай поможем тебе написать книгу, хорошо?
Взяв метафору отношений всего на один шаг вперед: я встречал много людей, которые никогда ни с кем не встречались в подростковом или 20-летнем возрасте и через брак по договоренности (что все еще довольно распространено в Индии) женились. По моему опыту, они никогда не кажутся счастливыми.
По моему опыту, они никогда не кажутся счастливыми.
Однако для некоторых это работает. Но вы должны пройти через этот процесс, чтобы узнать, подходит ли он вам.
Приступить к написанию книги без прошлого опыта — то же самое. Это похоже на новые отношения, в которых вам нужно начинать с нуля, чтобы понять, как работает другой человек, как вы работаете в таком уравнении и как работает «мы». Есть ли химия? Вам это нравится? Вы действительно?
Поначалу все отлично. «Ура, я женился», «Я собираюсь написать книгу», но, в конце концов, дело не в том, чтобы начать, а в том, чтобы сохранить это пространство. Мой отец всегда говорил: «Начать что-либо очень легко. Поддерживать его — вот в чем задача». Это одна из главных причин, почему люди обращаются ко мне за помощью в написании книги. Я обещаю вам, что начатых и оставшихся ненаписанными книг больше, чем людей на земле.
Когда книга оказывается брошенной, для нее нет убежища. Он лежит у вас в ящике стола, или в онлайн-документе Google, или на другом подобном сервере — его вечная могила. Небольшой прогресс, которого вы добились, забыт, если не считать сенсоров вины в вашем мозгу, которые вызывают его по ночам, чтобы преследовать вас. Причины отказа от черновика более распространены, чем вы думаете:
Небольшой прогресс, которого вы добились, забыт, если не считать сенсоров вины в вашем мозгу, которые вызывают его по ночам, чтобы преследовать вас. Причины отказа от черновика более распространены, чем вы думаете:
- У вас нет ни времени, ни навыков для написания книги.
- В моей жизни сейчас слишком много всего происходит, я начну, когда у меня будет время или свободное пространство.
- Мне не хватает дисциплины, чтобы писать.
Вот небольшой совет: время никогда не придет . С течением времени наш мозг будет забиваться новыми вещами — все соперничает за наше внимание. Внимание — самая дорогая валюта в мире. В конце пути нет большого мешка свободного пространства. Сейчас или никогда.
Но если вы преодолеете эту иллюзию нехватки времени, не спешите писать книгу. Еще нет. Не сейчас. Вместо этого вам нужно писать более мелкие фрагменты. Имейте интрижку с вашим письмом. Начните с рассказов, если хотите написать художественный роман.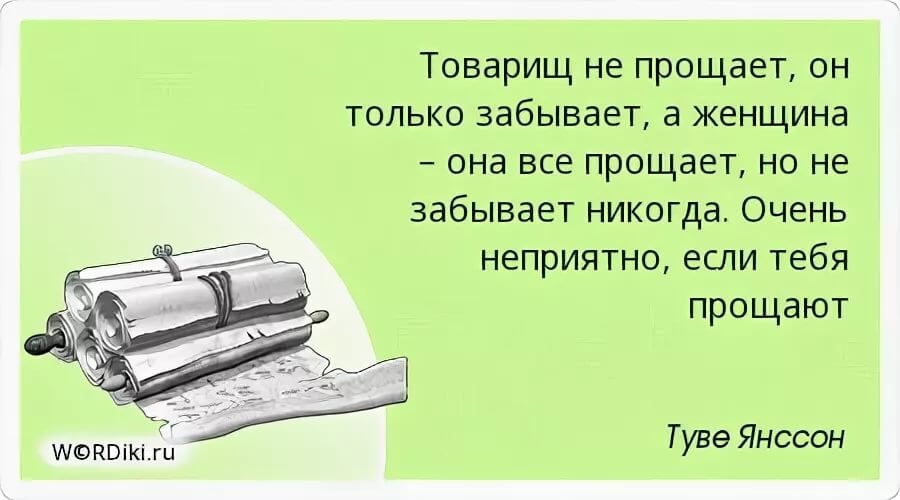 Начните с информационного бюллетеня или начните вести блог, если вы хотите работать над документальной литературой.
Начните с информационного бюллетеня или начните вести блог, если вы хотите работать над документальной литературой.
У меня есть друг Раши Гоэл, специалист по маркетингу. Я думаю, что у нее внутри есть книга, учитывая ее огромный опыт в области маркетинга. Вместо этого она сосредотачивается на том, чтобы каждый месяц писать свой информационный бюллетень, рассказывая об отдельных темах. (Вы можете подписаться на нее здесь.) Я очень горжусь ее подходом, и, поскольку ее информационный бюллетень не является необъятной книгой, она поддерживала его в течение последних двух лет. Она разослала более 37 информационных бюллетеней, и благодаря этому накопила большую писательскую выносливость. Теперь, если она хочет, она может скомпилировать все это и превратить в книгу. Или напишите что-нибудь на другую тему. Она знает, что может писать — она построила свою дисциплину. Но она все еще ждет. Она еще не дошла до этого.
Если вы писатель-беллетрист, научитесь вплетать рассказ в короткие рассказы. Вот как я это сделал. Поэкспериментируйте с флэш-фантастикой, рассказами и даже ведением блога. Попробуйте свои силы в научно-популярном повествовании. Повысьте свою писательскую выносливость . Неудача. Пусть ваши истории не работают в конце, но всегда заканчивают их. Учитесь у них. Поймите форму историй так хорошо, чтобы ваши сны тоже следовали структурированному подходу. И тогда вы достигнете места во времени, когда вы оглянетесь на мили слов позади вас, какие-то дерьмовые, какие-то великолепные, и вы щелкнете пальцами и подумаете: ладно, тогда давайте напишем книгу.
Вот как я это сделал. Поэкспериментируйте с флэш-фантастикой, рассказами и даже ведением блога. Попробуйте свои силы в научно-популярном повествовании. Повысьте свою писательскую выносливость . Неудача. Пусть ваши истории не работают в конце, но всегда заканчивают их. Учитесь у них. Поймите форму историй так хорошо, чтобы ваши сны тоже следовали структурированному подходу. И тогда вы достигнете места во времени, когда вы оглянетесь на мили слов позади вас, какие-то дерьмовые, какие-то великолепные, и вы щелкнете пальцами и подумаете: ладно, тогда давайте напишем книгу.
Вот когда вы начинаете.
Мнение | Думаете, в вас есть книга? Подумай еще раз
Мнение|Думаешь, в тебе есть книга? Подумайте еще раз
https://www.nytimes.com/2002/09/28/opinion/think-you-have-a-book-in-you-think-again.htmlРеклама
Продолжить чтение основной историяМнение
Джозеф Эпштейн
См. статью в исходном контексте с
28 сентября 2002 г., раздел A, стр. 17Купить репринты
Посмотреть на Timesmachine
TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых абонентов.
Согласно недавнему опросу, 81% американцев считают, что у них есть книга, и они должны ее написать. Как автор 14 книг, 15-я будет опубликована следующей весной, я хотел бы использовать это пространство, чтобы сделать все возможное, чтобы отговорить их.
До того, как я впервые это сделал, написание книги казалось прекрасным, даже великим делом. И так кажется до сих пор, за исключением того, что, по правде говоря, гораздо лучше написать книгу, чем писать ее на самом деле. Не пытаясь преувеличить драму трудности письма, быть в середине написания книги почти всегда означает чувствовать себя в состоянии замешательства, сомнения и умственного заточения, сопровождаемого сильным желанием работать вместо этого кладкой кирпича.
Почему так много людей думают, что они могут написать книгу, особенно в то время, когда так много людей, которые действительно пишут книги, на самом деле не имеют в себе книги — или, по крайней мере, не такой, какой могут быть многие другие люди. заставил заботиться? Ежегодно в Америке издается порядка 80 000 книг, большинство из которых не нужны, не нужны и никоим образом не нужны.
Интересно, причина, по которой так много людей думают, что они могут написать книгу, заключается в том, что в наши дни издается так много третьесортных книг, что, по крайней мере, если смотреть со среднего расстояния, кажется, что написать книгу довольно легко. В конце концов, сколько раз человек думал, закончив плохой роман: «Я могу сделать хотя бы не хуже этого»? И печальная правда в том, что вполне может быть, что можно. Но зачем добавлять в кучу хлама?
Помимо очевидной мотивации желания написать книгу — надежды на славу или богатство — я предполагаю, что многие люди, считающие, что у них есть книга «в себе», несомненно, рассматривают ее написание как способ заявить о себе.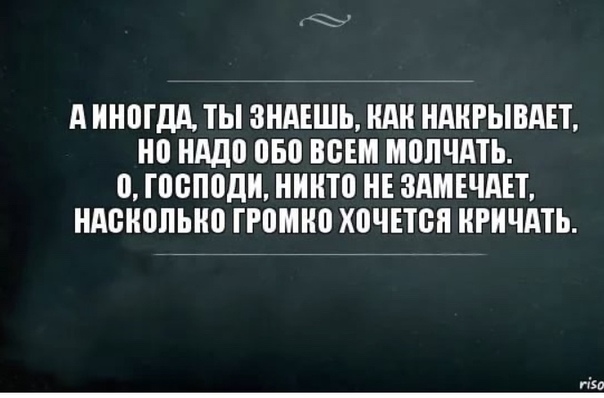 собственное значение. «Возможно, в каждом человеческом сердце, — писал Сэмюэл Джонсон, — таится желание отличиться, которое побуждает каждого человека надеяться, а затем и верить, что природа наделила его чем-то особенным». лучший способ показать это различие, чем в книге?
собственное значение. «Возможно, в каждом человеческом сердце, — писал Сэмюэл Джонсон, — таится желание отличиться, которое побуждает каждого человека надеяться, а затем и верить, что природа наделила его чем-то особенным». лучший способ показать это различие, чем в книге?
Когда-то стремление к личной значимости прекрасно позаботилось о драме, которую привнесла религия. Эта драма, которая жила в каждой человеческой душе, независимо от социального положения, была драмой спасения: достиг бы он неба или нет? Теперь, когда оно ушло из стольких жизней, вместо спасения мы имеем поиск значимости, гораздо более хитрое дело. Если ждет только забвение, как можно оставить свидетельство того, что ты жил? Как дальние потомки узнают, что человек когда-то ходил по земле? Книга, благодатная мысль должна быть: я напишу книгу.
Прошу прощения, если скажу, что это не самый удачный способ борьбы с забвением. Написание книги, вероятно, благодаря быстроте и полноте, с которой книга умрет, сделает понятие забвения еще более ярким.

 Так что это тот момент, когда я предупреждаю, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ты с ума сошел? Вероятность прочесть книгу один к тысяче!
Так что это тот момент, когда я предупреждаю, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ты с ума сошел? Вероятность прочесть книгу один к тысяче!