Нет счастья на земле но счастья нет и выше: Нет правды на земле, но правды нет и выше
Нет правды на земле, но правды нет и выше. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений
Нет правды на земле, но правды нет и выше. Энциклопедический словарь крылатых слов и выраженийВикиЧтение
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений
Серов Вадим Васильевич
Содержание
Нет правды на земле, но правды нет и выше
Из «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» (1830) А. С. Пушкина (1799—1837). Слова Сальери, которыми эта трагедия начинается:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Иносказательно о разочаровании в «высшей» справедливости.
Улица Правды
Улица Правды
Эта улица идет от Разъезжей до Звенигородской улицы как продолжение Большой Московской.
УЛИЦА ПРАВДЫ
УЛИЦА ПРАВДЫ Эта улица идет от Разъезжей до Звенигородской улицы как продолжение Большой Московской. С 20 августа 1739-го по 1829 год она и входила в ее состав; правда, Большая Московская тогда именовалась Офицерской, затем Большой Офицерской. А в 1829-м появилось
5. Народники (идеология социальной правды)
5. Народники (идеология социальной правды) В идейном направлении “социальной правды” будут сочетаться духовный пафос русской традиционной этики и пафос русского “народничества”, широкого общественного движения XIX века. “Социальная правда” будет раскрываться не как
Варварские правды
Варварские правды
ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ (лат. leges barbarorum — законы варваров) — обычное право германских племен, записанное в период между началом V и серединой XI в. К В.п. относятся: Вестготская правда (ее самая ранняя часть записана во 2-й половине V в.), Бургундская правда (конец
leges barbarorum — законы варваров) — обычное право германских племен, записанное в период между началом V и серединой XI в. К В.п. относятся: Вестготская правда (ее самая ранняя часть записана во 2-й половине V в.), Бургундская правда (конец
ВАШИНГТОН: КИНОФАНТАЗИЯ НА ДЮЙМ ОТ ПРАВДЫ
ВАШИНГТОН: КИНОФАНТАЗИЯ НА ДЮЙМ ОТ ПРАВДЫ Сообщение о том, что в Германии захвачена рекордная партия контрабандных ядерных материалов, всерьез обеспокоило США. Прессу особенно встревожило то обстоятельство, что на борту «плутониевого» рейса находился Виктор Сидоренко,
Министерство правды
Министерство правды Из романа-антиутопии «1984» (1949) английского писателя Джорджа Оруэлла (псевдоним Эрика Блэра, 1903—1950). Министерство, лишь формально являющее министерством информации (печати), на самом деле играет роль министерства пропаганды, распространяя лишь ту
Одно слово правды весь мир перетянет
Одно слово правды весь мир перетянет
Из речи, которою произнес (1970) при получении Нобелевской премии («Нобелевская лекция») Александр Исаевич Солженицын (р.
Предрассудок! Он обломок древней правды
Предрассудок! Он обломок древней правды Начальные слова стихотворения «Предрассудок» (1842) поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800—1844).Употребляется как напоминание о том, что следует уважительно относительно к тому, что сейчас кажется нелепым, отжившим: возможно, он
2. 16. В ОГНЕ ПРАВДЫ НЕТ
2. 16. В ОГНЕ ПРАВДЫ НЕТ Чрезвычайные огненные ситуации случаются довольно часто, в том числе – зимой, особенно в жилых домах с печным отоплением. Пожалуй, по повторяемости среди всех бед и несчастий пожары – неоспоримые лидеры. В Смоленске и области в 1997 году произошло 2625
УГОЩАЙТЕСЬ: СЫВОРОТКА ПРАВДЫ…
УГОЩАЙТЕСЬ: СЫВОРОТКА ПРАВДЫ…
…Из зала суда он вышел уже не один: впереди, расчищая дорогу, буром пер один конвойный, сзади, на подхвате, лениво плелись два.
Притча о Сальери — Вопросы литературы
Что главное в образе пушкинского Сальери?
Лживость.
Постоянная натяжка между чувством и мыслью и даже между мыслью и мыслью.
«…Ужель он прав, И я не гений? Гений и злодейство Две вещи несовместные», – говорит он в конце трагедии, как бы потрясаясь словами Моцарта и логическим следствием из них относительно себя.
Но он ведь и без того, без «злодейства», до «злодейства», – всегда знал, что он не гений.
Правда, он надеялся сравняться с гением, не будучи им, и полагал, что это возможно – путем «усильного, напряженного постоянства». Но что он не гений, а только труженик, уповающий победить, так сказать, количеством труда, переимчивостью, кропотливым разгадыванием чужих творческих «тайн» («глубоких, пленительных»!), – это он знал всегда. Он надеялся обмануть саму природу – природу негения да и природу искусства. Однако подлинного самообмана – не было. И потому трагедия души тут, в сущности, исключена, а возможна (и наличествует) только трагедия жизни, если угодно – трагедия карьеры. «Сорвалось!!!»- эта реплика Кречинского, пусть и полная отчаяния, по существу способна исчерпать собою трагедию Сальери. Во всяком случае, ту, которую он сам переживает.
Он надеялся обмануть саму природу – природу негения да и природу искусства. Однако подлинного самообмана – не было. И потому трагедия души тут, в сущности, исключена, а возможна (и наличествует) только трагедия жизни, если угодно – трагедия карьеры. «Сорвалось!!!»- эта реплика Кречинского, пусть и полная отчаяния, по существу способна исчерпать собою трагедию Сальери. Во всяком случае, ту, которую он сам переживает.
Какой уж тут гений, если он сам с самого начала сообщает о себе:
…Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху…
Да, он придал себе все, что можно придать, не имея, однако, того, чего придать невозможно: «священного дара», которым, как открылось впоследствии Сальери, одаряет счастливцев, «безумцев» неразумное, неправое (и, кажется, тоже именно «безумное») «небо»…
Но ведь тут, в этих слова» исповеди, речь о давней, так сказать – начальной, стадии жизни Сальери, его жизни «в искусстве.
Однако этой стадии – «Я сделался ремесленник» – гений не знает: ни в начале, ни в конце своего, художнического, пути. Хотя труд не менее свойствен ему, чем ремесленнику. Но это иной труд.
…Ремесло
Поставил я подножием искусству…
Подножие – значит; основание, основа. И разве так сказал бы об искусстве гений? И разве умный Сальери не знает, по крайней мере после знакомства с Моцартом, что гений так не сказал бы?
Знает. И, как ни горделив Сальери, как ни доволен прошлым своим путем, своей последовательностью и упорством, он избегает называть себя гением: именно слова «ремесленник», «ремесло», а также «наука?> мелькают в его первом монологе на месте «гения» и «искусства».
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнулстепени высокой, –
говорит он дальше, но «степень высокая» снова наводит на мысль о «науке» (в лучшем случае), а то и о цехово-ремесленническом или гильдейском разряде. Тут веет холодной иерархией. Педантизмом уважительной самооценки. А гений? Что знает он об иерархических ступенях – высоких и низких, высших и низших?! Только одно, пожалуй: всё – искусство, что – искусство!..
Тут веет холодной иерархией. Педантизмом уважительной самооценки. А гений? Что знает он об иерархических ступенях – высоких и низких, высших и низших?! Только одно, пожалуй: всё – искусство, что – искусство!..
«Наука» – вот зенит ремесла, ремесленничества и, по Сальери, вполне «адекватный» практический синоним искусства.
…Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп.Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в наукеискушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Какая последовательность, постепенность! Какая рассчитанность и «урочность» дерзанья: «Тогда Уже дерзнул, в науке искушенный…» Сальери планирует дерзанье, планирует «негу творческой мечты» и так уверен в этой «научной» формуле «творческого» пути, что и мы, читатели, не сразу замечаем абсурдность этой строгой последовательности, постепенности, этого планированья!
При чтении «Моцарта и Сальери» вообще случаются аберрации. Говорит Сальери, верует (во что-либо) Сальери, утверждает Сальери, объясняет Сальери, а нам кажется, по крайней мере порою, что говорит… Пушкин. Что это – особенность драматической формы, ее объективная «ловушка», с нашими упрямыми поисками, автора за каждым героем,, или что-то иное? Думаю, аберрациям здесь способствует не столько сама по себе драматическая форма (неизбежное высказывание автором себя, через персонажей) и даже не лежащая в основе «маленькой трагедии» тема творчества, которая особенно побуждает искать самого Пушкина за героями, но специфические черты Сальери как типа.
Что это – особенность драматической формы, ее объективная «ловушка», с нашими упрямыми поисками, автора за каждым героем,, или что-то иное? Думаю, аберрациям здесь способствует не столько сама по себе драматическая форма (неизбежное высказывание автором себя, через персонажей) и даже не лежащая в основе «маленькой трагедии» тема творчества, которая особенно побуждает искать самого Пушкина за героями, но специфические черты Сальери как типа.
Сальери (вообще этот тип) всегда словесно впечатляющ. Красноречив. Он – оратор. Ему свойственна ораторская убедительность. И если представить себе массу, он, пожалуй, скорее завладеет ее вниманием, чем Моцарт или сам Пушкин, если б те выступили в роли ораторов… Можно сказать также, что Сальери – актер. Способный играть «под Пушкина». А хоть бы и «под Шекспира». Или, вернее, берущийся играть все, что сыграть невозможно. Хотя невозможность эта выяснится, пожалуй, не прежде, чем упадет занавес.
И вот, как ни убедительна речь Сальери, монолог его порою «двоится»: в нем слышны два не сливающихся голоса – исповеди и оценки, самого Сальери и Пушкина.
«Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп»… О, Сальери естественно, органично для себя ассоциирует свою работу с научной, суть ее – с анатомическим театром, себя – с анатомом, вооруженным бесстрастным скальпелем или ланцетом. В пределах научной трезвости, исследовательской необходимости находится как будто и такая деталь, что данный анатом сам умерщвляет («умертвив… разъял») объект будущего анатомированья. Но вместе с тем это Пушкин говорит нам о Сальери (а не только герой, уподобляющий себя анатому), это Пушкин «подсовывает» герою естественное, по логике того, но тягчайшее, мрачнейшее при взгляде со стороны сравнение: «как труп»; «разъял, как труп». Сравнение, от которого веет убийством. В первую очередь – убийством (а не страстью к познанию). Это сравнение заставляет особенно вздрогнуть, ибо рядом – слово «музыка». Ибо трупу уподоблена музыка – нечто неубиваемое, вечно живое, не смертное. Ибо, фантастическим образом, умерщвлены ее «звуки», умерщвлена не плоть, а сам дух, нечто особенно сущее, по существу – неубиваемое…
Так подготавливается, «вскользь» пророчится, так образно предвосхищается в трагедии натуральный труп, Труп Моцарта.
«Наука»…»Ремесло»… «Наука»… Вот понятия, соседствующие в пушкинском тексте и в сознании героя со смертью.
Самообмана у того, кто «сделался ремесленник», не было. Самообмана, будто он – гений. Однако некое самообольщение все же с течением времени получило место.
«Предаться неге творческой мечты», «Вкусив восторг и слезы вдохновенья…» Пожалуй, тут именно самообольщенье: экзальтация, взвинченность, принятая за вдохновенье. Недолгое самообольщенье, ибо, «вкусив восторг», Сальери вскоре сам же «жег» свой «труд» – «и холодно смотрел, Как мысль моя и звуки, мной рожденны, Пылая,
с легким дымом исчезали», – сомнительные плоды этого «восторга»и»вдохновенья».
Что способствовало экзальтации? Аскеза, точно «урок», наложенная на себя Сальери, потому что он убежден, что вдохновенье предполагает не только твердый черед, срок своего прихода («Тогда Уже», когда – «в науке искушенный»), но и особые, чрезвычайные условия жизненной обстановки: «Нередко, просидев в безмолвной келье Два, три дня, позабыв и сон я пищу…» – вот как поджидает, призывает к себе Сальери вдохновенье. Даром, что Моцарт, к примеру, «готовясь» (весьма бессознательно, конечно, готовясь) к своему бессмертному «Реквиему», – «играл… на полу С моим мальчишкой»!..
Даром, что Моцарт, к примеру, «готовясь» (весьма бессознательно, конечно, готовясь) к своему бессмертному «Реквиему», – «играл… на полу С моим мальчишкой»!..
Что есть у Сальери – так это воля. Железная воля. Но воля, как, собственно, и аскеза, подразумевающая способность к жесткому самоограниченью, жизни в«келье» и т. п., не является безусловным залогом духа. Ах, воистину: «Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей», – как говорил нам Пушкин. Или, на свой лад, – мудрец, хоть и «простец», Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».
Воля Сальери направлена по ложному пути. Она служит не выявленью лучшей природы этого человека (в предположеньи, что истинное, доброе, «светлое» лежит изначально в природе всякого человека), но всестороннему насилию над природой. Стать не собою – вот задача, вот умозрительнейшая цель, которую поставил перед собою Сальери. Стать художником, стать творцом. Вопреки своим данным, своему рожденью. Вопреки врожденной, «генетической» доминанте, не предполагающей в нем «гения». И потому «железная воля» Сальери – это несвобода. Это не свобода, а насилие. Тщеславное (продиктованное тщеславьем) насилие над собой завершается преступнейшим насилием над другим – над Моцартом. Так мстит попранная природа. Так первое, исходное насилие порождает цепь, «цепную реакцию» насилий.
Вопреки врожденной, «генетической» доминанте, не предполагающей в нем «гения». И потому «железная воля» Сальери – это несвобода. Это не свобода, а насилие. Тщеславное (продиктованное тщеславьем) насилие над собой завершается преступнейшим насилием над другим – над Моцартом. Так мстит попранная природа. Так первое, исходное насилие порождает цепь, «цепную реакцию» насилий.
Самообольщенье Сальери по части творческой неги и вдохновенья кратко, непрочно. Ибо откуда ж бы иначе взяться затем признанию, которое так противоречит «восторгу» и «неге»: «Усильным, напряженным постоянством… Достигнул степени высокой»? Есть ли что более противоположное неге, чем напряженье? Чем эти эпитеты?.. Самообольщенье Сальери столь непрочно, что вскоре он прямо причислит себя к «чадам праха», способным лишь к «бескрылому желанью»: «… Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь!» – скажет Сальери…
Впрочем, трудолюбивый Сальери на время как будто даже и покорил «искусство дивное» (или то, что кажется ему таковым). Но именно покорил. Взял силою. «Усильностью». «Слава Мне улыбнулась; я в сердцах людей Нашел созвучия своим созданьям». Но неглубока, призрачна эта «усильная» власть, эта непосильная победа… Сальери не знает этого. Вернее, какое-то время не знает: «Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой; также Трудами и успехами друзей, Товарищей моих…» Какое-то время он беспечен. Как Моцарт… То есть «почти» как Моцарт. Ибо беспечность коренится не в натуре его, но в факте успеха, славы и вся зависит от успеха и славы. Его «умиротворяет» не труд сам по себе, но труд, сопряженный с «успехом, славой». Его счастье («Я счастлив был…») связано с внешними относительно жизни души обстоятельствами. Ему не страшны успехи «товарищей… в искусстве дивном» лишь постольку, поскольку те ему именно товарищи – ровня (а быть может, и ниже его) и лишь покуда их «успехи» не грозят затмить его собственного «успеха», обеспечиваясь именно степенью «усердия», в чем Сальери никак не отстанет…
Но именно покорил. Взял силою. «Усильностью». «Слава Мне улыбнулась; я в сердцах людей Нашел созвучия своим созданьям». Но неглубока, призрачна эта «усильная» власть, эта непосильная победа… Сальери не знает этого. Вернее, какое-то время не знает: «Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой; также Трудами и успехами друзей, Товарищей моих…» Какое-то время он беспечен. Как Моцарт… То есть «почти» как Моцарт. Ибо беспечность коренится не в натуре его, но в факте успеха, славы и вся зависит от успеха и славы. Его «умиротворяет» не труд сам по себе, но труд, сопряженный с «успехом, славой». Его счастье («Я счастлив был…») связано с внешними относительно жизни души обстоятельствами. Ему не страшны успехи «товарищей… в искусстве дивном» лишь постольку, поскольку те ему именно товарищи – ровня (а быть может, и ниже его) и лишь покуда их «успехи» не грозят затмить его собственного «успеха», обеспечиваясь именно степенью «усердия», в чем Сальери никак не отстанет…
Возмутитель этого счастья, этого добродушия, этой беспечности- Моцарт.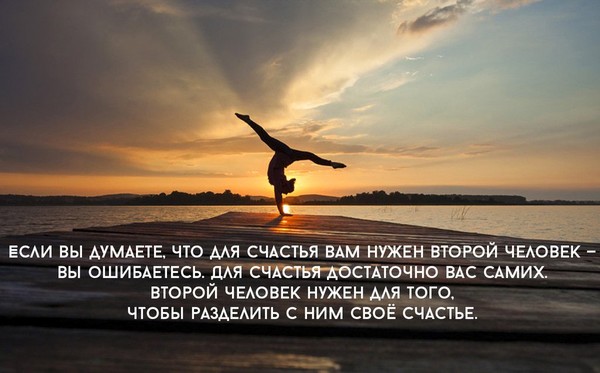 «Гуляка праздный». Его искусство вызывает к бодрствованию истинную – угрюмую, ревнивую, мрачную – душу Сальери. Она мрачна, ибо живет подневольной жизнью – ради «искусства дивного». Ибо томит, давит и гнет ее насилие Сальери над собой. Насилие, продиктованное самолюбием и выкладками рассудка. Организуемое железной волей.
«Гуляка праздный». Его искусство вызывает к бодрствованию истинную – угрюмую, ревнивую, мрачную – душу Сальери. Она мрачна, ибо живет подневольной жизнью – ради «искусства дивного». Ибо томит, давит и гнет ее насилие Сальери над собой. Насилие, продиктованное самолюбием и выкладками рассудка. Организуемое железной волей.
* * *
«Родился я с любовию к искусству…» – с самого начала объявляет Сальери, и это принимают за аксиому – очевидную правду его «рождения», его души. Но ведь это же ложь!
Сальери, родился со склонностью к искусству, способностью опознавать (осторожно скажем: опознавать, а не – чувствовать!) красоту, а вернее – силу искусства. Но – без любви к искусству.
«Слезы Невольные и сладкие», которые текли у него, когда он в детстве слушал, как «высоко Звучал орган в старинной церкви нашей», – это слезы некоего мечтательного умиления (уж не собою ли, в частности; не своим ли «пониманьем»?), это слезы чувствительности, но не любви. Любви – не до надменности. Даже и к посторонним, вне ее лежащим вещам. Она и их согревает, а на худой конец – не замечает их,, как бы летя поверху, живя естественно полною своей полнотой. А Сальери, при своих «сладких слезах» («невольных и сладких»), которые текли, пока он слушал орган, «надменно… отрекся» от всего прочего, от «праздных забав» и «наук, чуждых музыке». Инстинктом нехудожника он «отверг» мир, полагая, что жизнь, плещущая за стенами «старинной церкви нашей» или «безмолвной кельи», мешает искусству. «Музыка» не распахивала перед ним мир, а только сужала. А надменность – не оттого ли, что Сальери, еще «ребенком будучи», видел (грезил, мечтал, воображал) себя где-то на высокой вершине («степени высокой», точке высокой) этого «сужающегося»ввысь, точно шпиль готического собора, мира?
Даже и к посторонним, вне ее лежащим вещам. Она и их согревает, а на худой конец – не замечает их,, как бы летя поверху, живя естественно полною своей полнотой. А Сальери, при своих «сладких слезах» («невольных и сладких»), которые текли, пока он слушал орган, «надменно… отрекся» от всего прочего, от «праздных забав» и «наук, чуждых музыке». Инстинктом нехудожника он «отверг» мир, полагая, что жизнь, плещущая за стенами «старинной церкви нашей» или «безмолвной кельи», мешает искусству. «Музыка» не распахивала перед ним мир, а только сужала. А надменность – не оттого ли, что Сальери, еще «ребенком будучи», видел (грезил, мечтал, воображал) себя где-то на высокой вершине («степени высокой», точке высокой) этого «сужающегося»ввысь, точно шпиль готического собора, мира?
Так видит гордыня, а не любовь. Честолюбие, а не «самоотверженье». Тщеславие, а не вольная радость, светлая печаль или боль, Горячие, а может быть, даже и страстные слезы этого ребенка ослепляли, а не просветляли его.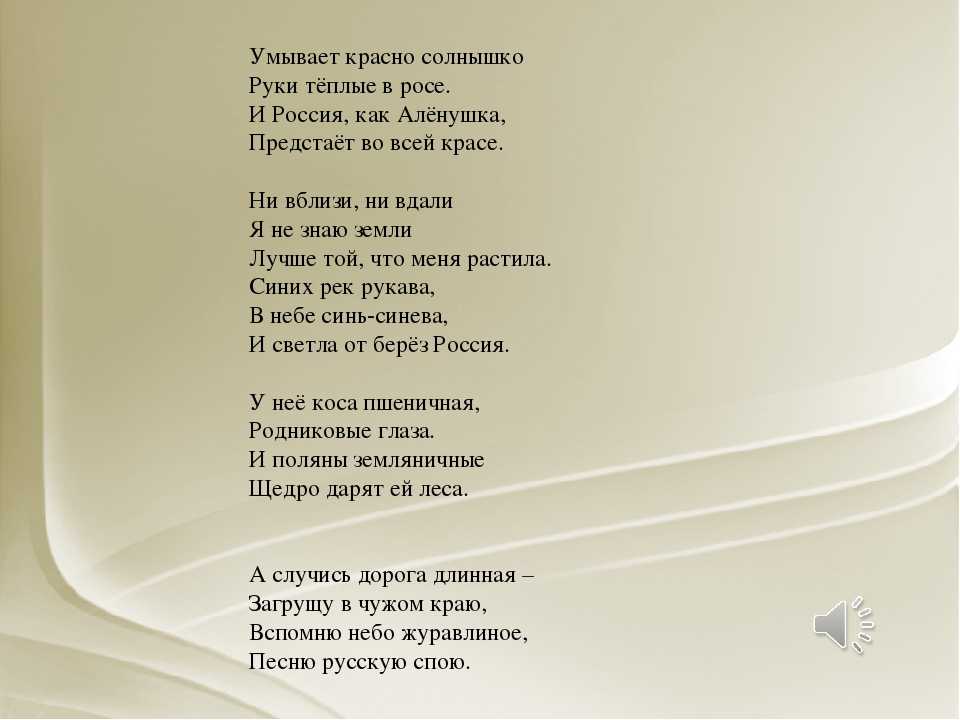
«Ребенком будучи»…» Но полно: был ли Сальери ребенком? Это себе невозможно представить. Ибо он, конечно же, из людей, которые никогда не знали детства, юности, молодости (в особенности же – детства!) и у которых всегда была зрелость, то есть искушенность («в науке» и во всем видимом им бытии). И знак тому – эта Сальериева надменность, присущая ему «с детства», словно по праву «знания», врожденной «умудренности» и «высшей» правоты… («Я знаю, я», – станет он позже уверять Моцарта с какой-то особенной интонацией превосходства, даже и в видимой «раздавленности»…)
Что Сальери влеком был не чистым призванием и даже просто – не призванием к «музыке», узнаем от него самого: «…Предался Одной музыке. Труден первый шаг И скучен первый путь».
Так не бывает при истинном призвании, при вольном влечении к искусству! Разве ж мыслима скука пути, «первого» или какого-либо иного, для художника? Ну, а «первый шаг» как раз менее всего «труден», ибо юный творец слишком мало знает еще о совершенстве, с которым горько соизмеряет свой труд взыскательная творческая зрелость!. . Скучно же может быть тому, кто не без принуждения (пусть самопринуждения) вступил на путь («музыки» или другого искусства), отдавая себе отчет в длине этого пути, манящего дальней наградой, которая, по Сальери, не столько заключена в самой «музыке», сколько приходит извне. Тогда, конечно же, скучен «первый путь». Скучно – знать, что впереди еще столько – строго исчисленных – ступеней. Скучно – стоять на первой, озирая неумолимую эту, вожделенную даль… «Труден первый шаг», когда он не столько внутренняя потребность (при которой куда трудней – не шагнуть!), сколько принуждение (пусть и самопринуждение), еще не вошедшее в привычку. Тут действует воля, а не порыв (к которому «трудность», конечно же, просто неприложима!). Ну и трудно – еще бы!-«перстам» придавать «послушную, сухую беглость», когда душа скучает, не «дерзая» еще «предаться неге творческой мечты»…
. Скучно же может быть тому, кто не без принуждения (пусть самопринуждения) вступил на путь («музыки» или другого искусства), отдавая себе отчет в длине этого пути, манящего дальней наградой, которая, по Сальери, не столько заключена в самой «музыке», сколько приходит извне. Тогда, конечно же, скучен «первый путь». Скучно – знать, что впереди еще столько – строго исчисленных – ступеней. Скучно – стоять на первой, озирая неумолимую эту, вожделенную даль… «Труден первый шаг», когда он не столько внутренняя потребность (при которой куда трудней – не шагнуть!), сколько принуждение (пусть и самопринуждение), еще не вошедшее в привычку. Тут действует воля, а не порыв (к которому «трудность», конечно же, просто неприложима!). Ну и трудно – еще бы!-«перстам» придавать «послушную, сухую беглость», когда душа скучает, не «дерзая» еще «предаться неге творческой мечты»…
А что тут работа «перстами», именно перстами, вовсе безотносительная к душе, говорит сам Сальери, поминая «послушную, сухую беглость».
«Сухой» по-русски – синоним «бездушного».
Чему ж «послушны» стали «персты» Сальери? Его воле. Железной воле. Принуждению, постепенно вытеснившему всякую свободу.
«…Преодолел Я ранние невзгоды», – говорит он, твердо встав на путь «безотказного», успешного ремесла.
Лживость и в том, что до Моцарта он «никогда… зависти не знал»:
О, никогда! – ниже, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.
Но разве не зависть делает уместной эту справку: «диких парижан», которых «пленить умел» Пиччини?
Правда, тут еще легкая зависть – в сравнении с той «глубокой», «мучительной», что привела Сальери к убийству Моцарта. Но не следует верить и этому «добродушию» – в связи с Пиччини и Глюком; Сальери «не завидовал», то есть не завидовал смертно, или не 6б1л еще, как он сам говорит, «змеей, людьми растоптанною, вживе Песок и пыль грызущею бессильно», – потому что не видел еще серьезной причины для настоящей, влекущей к убийству зависти. Дело в том, что Пиччини не убедил его в безусловной нерукотворности искусства. И не потому, что сам Пиччини был ремесленник, но потому, что для того, чтобы поколебать такого рационалиста, как Сальери, бывает недостаточно таланта, а нужен именно ослепительный, «всесокрушающий»гений – типа Моцарта… Нужен гений в полном расцвете его сил, в полном развитии его всепокоряющей славы, – так что недостаточно даже, быть может, «Ифигении начальных звуков»… Так велика вера истинного рационалиста в ratio. На такой высокий пьедестал ставит он рассудок, «науку»г усердье, труд. Так не верит он в тайны мира, природы, искусства. Ведь вот что говорит он о Глюке: «…Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны…»Открыл тайны, а не указал на тайны… А открытое можно разрабатывать, «осваивать», доходить до «предела», воспринимаемого как конечная, «полная» истина… Тут и впрямь нужны, даже незаменимы сальери. Ибо гений устремился бы дальше: к новым, новейшим тайнам, а вовсе не пошел бы «вслед за ним (Глюком.
Дело в том, что Пиччини не убедил его в безусловной нерукотворности искусства. И не потому, что сам Пиччини был ремесленник, но потому, что для того, чтобы поколебать такого рационалиста, как Сальери, бывает недостаточно таланта, а нужен именно ослепительный, «всесокрушающий»гений – типа Моцарта… Нужен гений в полном расцвете его сил, в полном развитии его всепокоряющей славы, – так что недостаточно даже, быть может, «Ифигении начальных звуков»… Так велика вера истинного рационалиста в ratio. На такой высокий пьедестал ставит он рассудок, «науку»г усердье, труд. Так не верит он в тайны мира, природы, искусства. Ведь вот что говорит он о Глюке: «…Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны…»Открыл тайны, а не указал на тайны… А открытое можно разрабатывать, «осваивать», доходить до «предела», воспринимаемого как конечная, «полная» истина… Тут и впрямь нужны, даже незаменимы сальери. Ибо гений устремился бы дальше: к новым, новейшим тайнам, а вовсе не пошел бы «вслед за ним (Глюком. – Т. Г.) Безропотно, как тот, кто заблуждался И встречным послан в сторону иную…».
– Т. Г.) Безропотно, как тот, кто заблуждался И встречным послан в сторону иную…».
«…Встречным послан в сторону иную»… Тут – вся случайность пути Сальери, этого безропотного ведомого. Путь тут диктуется не изнутри, он не заведомо, органически присущ, но указуется кем-то извне. Тут вся несамобытность героя, всецело и «безропотно» зависимого от вожатого.
Из Глюка Сальери почерпнул ложное представление о тайнах, которые якобы можно научиться «открывать» и, во всяком случае, успешно «разрабатывать»… В каком-то смысле это и впрямь применимо к музыке. Однако – лишь постольку, поскольку имеются в виду «тайны», а точнее, секреты контрапункта, а не сила, могущество оригинального содержания. Надо ли говорить, что Глюк не повинен в адаптированных представленьях Сальери о тайнах? Тайнах, которые требуют ясновидения, тайнослышания, а не подразумевают некий доступный всякому жаждущему добровольцу «шифр» к ним?..
Что Сальери «не завидовал» Глюку, Пиччини, молодому Моцарту, при том характере, который очерчен Пушкиным, – это свидетельствует не о любви Сальери к искусству, не о бескорыстии, а только о непонимании искусства, непонимании его принципиальной, глубинной сущности – недоверии к неподкупности ее. Когда Сальери говорит о «любви горящей, самоотверженьи», якобы присущих его отношению к искусству, – это ложь. Ибо это любовь к искусству в учете выдуманной его, искусства, природы. Той, а вернее, такой природы, которая предусматривает место, почетное место для самого Сальери и предполагает даже возможность для не-гения сравняться с гением, а быть может, и превзойти его. То есть природа искусства исчислялась Сальери от природы отдельного человека, данного человека – своей собственной природы. От природы субъективной, относительной, частно-единичной и хоть бы отнюдь не совершенной. По такому рассуждению, искусство не «единосущно» (Блок), и тем самым оно «демократично» – доступно обручению с ним каждого желающего, а тем паче труженика, «усердца».
Когда Сальери говорит о «любви горящей, самоотверженьи», якобы присущих его отношению к искусству, – это ложь. Ибо это любовь к искусству в учете выдуманной его, искусства, природы. Той, а вернее, такой природы, которая предусматривает место, почетное место для самого Сальери и предполагает даже возможность для не-гения сравняться с гением, а быть может, и превзойти его. То есть природа искусства исчислялась Сальери от природы отдельного человека, данного человека – своей собственной природы. От природы субъективной, относительной, частно-единичной и хоть бы отнюдь не совершенной. По такому рассуждению, искусство не «единосущно» (Блок), и тем самым оно «демократично» – доступно обручению с ним каждого желающего, а тем паче труженика, «усердца».
Эта выдуманная природа искусства вкоренилась в сознании Сальери. Потому что у него такое сознание. Сознание, в котором прочно удерживается лишь прагматическая, своекорыстная мысль,
Эгоцентризм, любовь к. себе у Сальери столь безграничны или столь для него органичны, что если ему откроется когда-нибудь, что природа искусства – иная, чем как представлял он себе, что искусство вовсе не озабочено судьбой честолюбивого труженика, судьбою именно и лично Сальери, он убьет не себя, потерпевшего поражение, – он убьет торжествующее искусство, то есть живого носителя его. Чтобы тот стал – «как труп».
Чтобы тот стал – «как труп».
Какое уж тут «самоотверженье»? Тут – отверженье хоть бы и целого мира ради самоутвержденья, ради себя, ради своей «правоты» и славы!.. «Самоотверженье» Сальери следует понимать как систему сравнительно малых, физических и бытовых жертв ради большой и вполне ощутимой выгоды – славы, Это «любовь горящая» – ради награды. Это некая коммерческая сделка, предполагающая, впрочем, справедливость, но – слишком арифметическую справедливость: получить не меньше, чем потратил или отдал…
Однако мир стоит, «держится» отнюдь не на арифметической справедливости. В этом «расчетном», бухгалтерском смысле он даже и прямо несправедлив! Точно так же, как мир, «несправедливо», своевольно искусство. Поздно, поздно, лишь в связи с расцветом гения Моцарта, начинает догадываться Сальери, что искусство (да и само «небо») – неразумно, «несправедливо», «неправо»:
…О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья.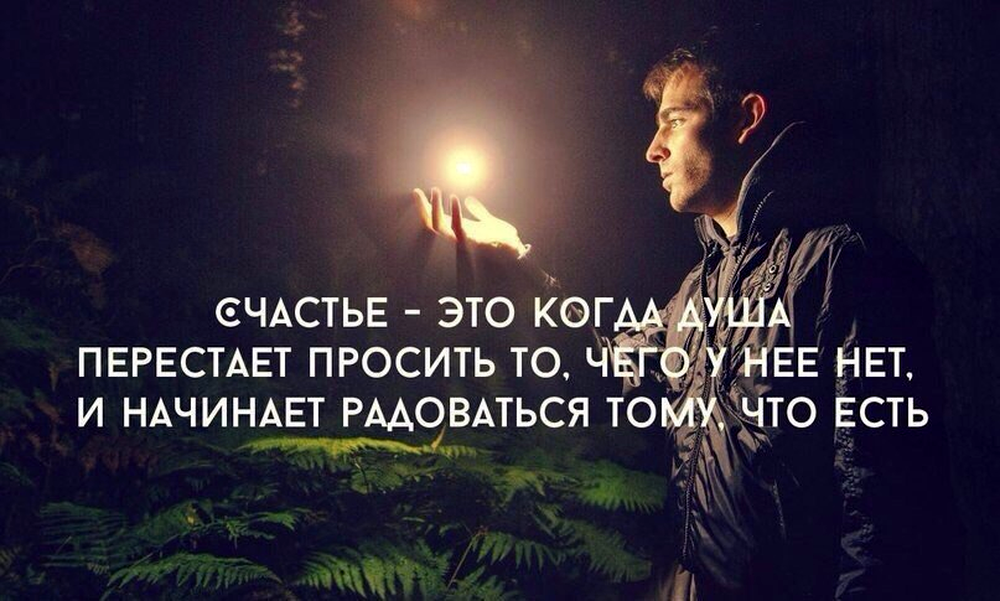
Трудов, усердия, молений послан –
А озаряет голову безумца,
Гулякипраздного?..
«Небо» отвергло «договор», предложенный ему некогда «честным» Сальери: за труды, усердие и даже моления не наградило его «священным даром», «бессмертным гением». Вот откуда «богоборческий», внешне трагический и глубокий, а на деле грубо рационалистический, грубо атеистический, сухой афоризм: «…Нет правды на земле. Но правды нет – и выше»! Не забудем, что это говорит не Пушкин, а – Сальери. Что это скептицизм, «нигилизм» не Пушкина, а его героя: да не поддастся читатель той аберрации, о которой шла речь!
Для Сальери невозможна вера, вера в любовь к «небу» или искусству, ибо для него недействительно то, что не подчиняется логике, неподвластно «алгебре», ученому исчисленью. Правда, верховная правда – точно как и искусство, – по Сальери, имеет бытие только в том случае, когда дает гарантии лично ему, Сальери. Когда вписывает в себя то, что желаемо им, Сальери. Что «заслужено» им – его усердьем и трудами, меру которых, как и меру награды за них, он, Сальери, устанавливает сам. Правда отсчитывается от интересов Сальери, заслоняющих или подменяющих, в глазах героя, весь объективный мир. Отсюда и некая пародийность трагического «откровения» Сальери: «…Но правды нет – и выше». Пародийность, проясняющаяся с постижением этого характера.
Что «заслужено» им – его усердьем и трудами, меру которых, как и меру награды за них, он, Сальери, устанавливает сам. Правда отсчитывается от интересов Сальери, заслоняющих или подменяющих, в глазах героя, весь объективный мир. Отсюда и некая пародийность трагического «откровения» Сальери: «…Но правды нет – и выше». Пародийность, проясняющаяся с постижением этого характера.
Драма разума, обнаружившего, что мир и, в частности, само «небо» с этим разумом разошлись, – вот драма Сальери.
Эта драма повсеместно разыгрывалась в Европе XVIII века. А Сальери – человек этого «просвещенного», «разумного» и «научного» века, хотя в то же время он, конечно же, и человек «древний», «самого старого письма», и потому в любую эпоху смахивающий все-таки на анахронизм. Хоть бы и будучи «с веком наравне», он все-таки вечно стар, и мы не в силах представить себе его ребенком или пылким, «зеленым» юношей: в его груди – «искушенное» («в науке», «знании»), седое, ветхое сердце. Оно неподвижно и потому-то жаждет остановить мир, «небо», ушедшие от «правоты» календарного какого-либо века.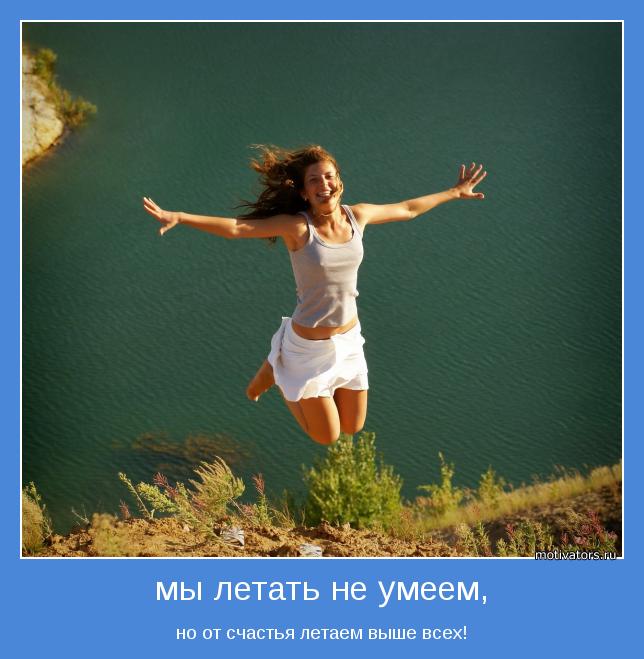 Не согласовать себя с«небом», космосом, но уподобить «небо» себе, поверяя его «алгеброй» – всей «просвещенной» косностью математически обобщаемого на всю природу единичного духа… В этом, философском, смысле Сальери, конечно же, анахронизм перед Пушкиным 30-х годов XIX столетия, как и перед «ребячески» простодушным Моцартом, никогда не знавшим пут теории, деспотизма разума или«закона»; потому что он ведь — «гуляка праздный», преданный «вольному искусству», «безумец» тож…
Не согласовать себя с«небом», космосом, но уподобить «небо» себе, поверяя его «алгеброй» – всей «просвещенной» косностью математически обобщаемого на всю природу единичного духа… В этом, философском, смысле Сальери, конечно же, анахронизм перед Пушкиным 30-х годов XIX столетия, как и перед «ребячески» простодушным Моцартом, никогда не знавшим пут теории, деспотизма разума или«закона»; потому что он ведь — «гуляка праздный», преданный «вольному искусству», «безумец» тож…
Драма самочинного, самодовлеющего разума- это драма индивидуализма. Но индивидуалист безусловный, вроде Сальери, не может принять для мужественного переживания эту драму. Он не станет расплачиваться собою за «несовершенство», то есть «неразумность», нерационалистичность, миропорядка. Вера в первенство и совершенство разума столь велика, что Сальери не допустит «перекладыванья» ошибки, вины с «неразумной», «больной» головы на свою – «здоровую». Алгебраическую. Трудовую. Логическую. И он еще раз попытается обмануть мир, обмануть собственную драму, обмануть «небо», представив дело так, будто его, Сальери, личная драма – это драма не его, а как раз именно (неразумного, неправого) «неба»! И он попытается заставить платить за него, за собственную его, Сальери, ошибку, – «небо». И «небо», по приговору Сальери, должно будет заплатить Моцартом.
Алгебраическую. Трудовую. Логическую. И он еще раз попытается обмануть мир, обмануть собственную драму, обмануть «небо», представив дело так, будто его, Сальери, личная драма – это драма не его, а как раз именно (неразумного, неправого) «неба»! И он попытается заставить платить за него, за собственную его, Сальери, ошибку, – «небо». И «небо», по приговору Сальери, должно будет заплатить Моцартом.
Моцарт будет убит. Моцарт не может не быть убит. Этого требует весь разум, вся логика, вся рационалистическая природа Сальери! Тогда-то и восстановится «справедливость». Математическая справедливость. Логическая справедливость, а между тем (если воспользоваться выраженьем Белинского) «справедливость, парадоксальная в отношении к истине». Тогда-то и учредится «правда» – неотличимая от «алгебры-), «разума» или неподвижного, глухого сердца…
И когда яд уже брошен в стакан Моцарта, Сальери плачет.
Вчитались ли мы в «эти слезы»?
Они кажутся – по инерции нашей совести – слезами глубокого душевного потрясения, родственного раскаянию… Тем более, что Сальери просит погубленного им, отравленного уже Моцарта: «Продолжай, спеши Еще наполнить звуками мне душу…» Вот и мнится, что это горчайшие слезы, запоздалые слезы истинной, разом воспрявшей, хоть и запоздалой, любви. Однако это не так!.. Сальери и впрямь испытывает глубокое душевное волнение. Но это не горькое, а счастливое волнение. Миг убийства Моцарта – это для Сальери «звездный час». «Звездный час» его сухой, исковерканной, врожденной ему рационалистской души. Ведь вот что говорит он (вслушаемся; да не заслонят нам эти, на миг умилившие нас слезы строгой действительности пушкинского текста!):
Однако это не так!.. Сальери и впрямь испытывает глубокое душевное волнение. Но это не горькое, а счастливое волнение. Миг убийства Моцарта – это для Сальери «звездный час». «Звездный час» его сухой, исковерканной, врожденной ему рационалистской души. Ведь вот что говорит он (вслушаемся; да не заслонят нам эти, на миг умилившие нас слезы строгой действительности пушкинского текста!):
…Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член!..
«Долг» – это, в частности, восстановленье «справедливости», попранной «несправедливым», «неправым» небом. Характерно: не совесть, а долг воодушевляет Сальери. Сознание наполненного долга
сладко, «звездно» переполняет его. А если ему также «и больно» («и больно и приятно»), то это потому, что «звездный час»-час не простого, «односложного», идиллического блаженства: это некая симфония ощущений с доминантой взволнованного торжества, глубокого ликованья, прорывающегося сквозь все другие, разнозначные, разновеликие ощущенья. Ведь это час напряженья всех сил, отпущенных человеку!
Ведь это час напряженья всех сил, отпущенных человеку!
Но для чего это: «Продолжай, спеши Еще наполнить звуками мне душу…»? Это не столько любовь к «звукам», сколько некое сладострастье, острейшая из всех сладость – миг наивысшего самоутвержденья: вот ведь как труден, тяжек, огромен «долг», исполненный им, Сальери; это, быть может, в сущности, даже подвиг: вот ведь кого убил он, человек долга!.. Сальери, конечно, не в силах сейчас толком, с академизмом и словесной вескостью, обычно присущей ему, оценить эти падающие «звуки». Но главное: что убил он того, кто и в час смерти неотлучен от музыки, кто есть воплощенная музыка, гармония, а иными словами, «бессмертный гений», – это открыто для Сальери даже в миг острого, почти застилающего сознанье волнения, глубокого его потрясенья собою. Моцарт последним часом своим, этим фактом музыки, звучащей даже и в такой, последний его, миг, невольно подтверждает величину, значительность содеянного Сальери. Величину совершенного злодейства, или «тяжкого долга»… Этот «долг» столь слит с существом Сальери, столь бескорыстно-корыстен, столь гармоничен относительно его души, что исполнение его, это практическое торжество гармонии между разумом и эгоизмом, это убийство, уподобляет Сальери своему физическому исцеленью: «Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!..»
Величину совершенного злодейства, или «тяжкого долга»… Этот «долг» столь слит с существом Сальери, столь бескорыстно-корыстен, столь гармоничен относительно его души, что исполнение его, это практическое торжество гармонии между разумом и эгоизмом, это убийство, уподобляет Сальери своему физическому исцеленью: «Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!..»
И лишь на миг испытывает он – не стыд, но как будто неловкость перед Моцартом. А скорее – неловкость за Моцарта, ничего не понимающего в этой «звездной» минуте. «Друг Моцарт, эти слезы… Не замечай их», – говорит он. Потому что это слезы не над Моцартом, не о Моцарте, не по Моцарту – «эти слезы» суть слезы острейшего, досель небывалого еще в такой мере («впервые лью»!) самовосхищенья Сальери…
Рационалист незнаком с категорией совести. Она всецело замещена у него долгом.
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.
Есть ли счастье помимо Бога?
Подумайте о своей жизни, точнее о своем дне, и составьте список вещей, которые делают вас счастливыми. Теперь, что, если бы все эти вещи были лишены вас, могли бы вы по-прежнему быть счастливы? Будет ли этот день хорошим или плохим днем? Стоит ли жить? Я боюсь, что многие из нас ответят на эти вопросы безжалостным «нет».
Теперь, что, если бы все эти вещи были лишены вас, могли бы вы по-прежнему быть счастливы? Будет ли этот день хорошим или плохим днем? Стоит ли жить? Я боюсь, что многие из нас ответят на эти вопросы безжалостным «нет».
Хотя в определенном смысле мы созданы для счастья, самая истинная и высшая форма счастья находится в нашем триедином Боге. Но давным-давно глубоко в ткань нашего существа было посажено ядовитое семя, которое пустило корни и принесло плоды неудовлетворенности. Этим семенем была ложь о том, что нам нужно что-то кроме Бога, чтобы быть счастливыми в этой жизни.
Истинное счастье невозможно найти без Бога
Конечно, есть много атеистов, мусульман, буддистов и «никто», которые нашли счастье в мире, отвергая Бога Библии. Я не утверждаю, что нет счастья вне Иисуса, но что истинное счастье, глубочайшую и наиболее удовлетворяющую форму счастья нельзя найти вне Господа.
Если счастье — это удовлетворенное удовольствие, то, безусловно, все мы испытываем его в разное время в своей жизни. Но если наше счастье находится вне Бога, то оно должно быть найдено в мире, в наших обстоятельствах или в нас самих, а эти вещи хрупки, преходящи и часто обманчивы. Единственное счастье, которое мы можем иметь вне Бога, временно, что приводит нас к разочарованию и даже отчаянию, когда оно исчезает. Я знаю, что испытывал это много раз.
Но если наше счастье находится вне Бога, то оно должно быть найдено в мире, в наших обстоятельствах или в нас самих, а эти вещи хрупки, преходящи и часто обманчивы. Единственное счастье, которое мы можем иметь вне Бога, временно, что приводит нас к разочарованию и даже отчаянию, когда оно исчезает. Я знаю, что испытывал это много раз.
Истинное счастье не может быть найдено без Бога, потому что удовольствие без Него никогда не оспаривается и всегда касается. Истинное счастье не может быть найдено в отношениях, богатстве, статусе или достижениях, потому что все эти вещи могут быть уничтожены довольно быстро.
Истинное счастье можно найти только в Боге
Наш Бог вечен, Его цель совершенна, и мы навеки Его. Мы находим удовольствие в Боге, который создал нас, дает нам все и все делает для нашего блага. Да, мы наслаждаемся дарами, которые Он дает нам, но то, что делает эти дары такими особенными, это не то, что нам дается, а Тот, кто их дает. Даже если дар отнят по тревожным обстоятельствам, Даритель навсегда остается с нами.
Даже если дар отнят по тревожным обстоятельствам, Даритель навсегда остается с нами.
Жизнь меняется, но Бог и Его благодать неизменны. Вот почему Иов мог сказать: «Господь дает, и Господь забирает, да будет имя Господне благословенно». и почему Иаков мог сказать: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда встречаете различного рода испытания», и почему Иисус мог сказать: «Блаженны плачущие». Ибо наше истинное и глубочайшее счастье находится в Боге, а не в Его дарах.
Если мы собираемся быть счастливыми, по-настоящему счастливыми, тогда мы должны смотреть за дары, которыми мы наслаждаемся, когда дни легки для Бога, Который дает их. И когда дни темны, мы должны смотреть за наши болезненные обстоятельства на Бога, который любит нас и укрепляет нас.
Чтобы обрести истинное счастье, вы должны взирать на Господа Иисуса, находить красоту в Его характере, влюбляться в Его работу, благоговейно относиться к тому, что Он сделал для вас, и к тому будущему, которое у вас есть в Нем. В Нем мы имеем неизреченную радость, особенно посреди испытаний и искушений.
В Нем мы имеем неизреченную радость, особенно посреди испытаний и искушений.
Глядя на Иисуса,
Джен Торн выросла в Германии, а затем провела подростковые годы в Африке, где ее родители были миссионерами. Она переехала в Соединенные Штаты, чтобы поступить в колледж, и поступила в Библейский институт Муди в Чикаго, где познакомилась со своим мужем. Они женаты уже двадцать два года, у них четверо детей. Джен живет в пригороде Чикаго, где ее муж является пастором Братства Искупителей. Джен увлечена богословием и связью с повседневной жизнью.
Люди не созданы для того, чтобы быть счастливыми, так что перестаньте пытаться
Огромная индустрия счастья и позитивного мышления, оцениваемая в 11 миллиардов долларов США в год, помогла создать иллюзию, что счастье — это реальная цель. Погоня за мечтой о счастье — очень американская концепция, экспортированная в остальной мир через массовую культуру. Действительно, «стремление к счастью» является одним из «неотъемлемых прав» США. К сожалению, это помогло создать ожидание, которое реальная жизнь упорно не оправдывает.
К сожалению, это помогло создать ожидание, которое реальная жизнь упорно не оправдывает.
Потому что, даже когда все наши материальные и биологические потребности удовлетворены, состояние устойчивого счастья все равно останется теоретической и неуловимой целью, как обнаружил Абд-ар-Рахман III, халиф Кордовы в десятом веке. Он был одним из самых могущественных мужчин своего времени, который наслаждался военными и культурными достижениями, а также земными удовольствиями своих двух гаремов. Однако к концу своей жизни он решил сосчитать точное количество дней, в течение которых он чувствовал себя счастливым. Их было ровно 14.
Счастье, по выражению бразильского поэта Винисиуса де Мораеса, «похоже на перышко, летящее по воздуху. Летает легко, но недолго». Счастье — это человеческая конструкция, абстрактная идея, не имеющая эквивалента в реальном человеческом опыте. Положительные и отрицательные аффекты находятся в мозгу, но устойчивое счастье не имеет биологической основы. И, возможно, удивительно, я считаю, что этому есть чему радоваться.
Природа и эволюция
Люди не созданы для того, чтобы быть счастливыми или даже довольными. Вместо этого мы созданы в первую очередь для выживания и размножения, как и любое другое существо в мире природы. Состояние удовлетворенности не поощряется природой, потому что оно ослабит нашу защиту от возможных угроз нашему выживанию.
Тот факт, что эволюция отдала предпочтение развитию большой лобной доли нашего мозга (которая дает нам отличные исполнительные и аналитические способности) над естественной способностью быть счастливым, многое говорит нам о приоритетах природы. Различные географические местоположения и схемы в мозге связаны с определенными неврологическими и интеллектуальными функциями, но счастье, будучи простой конструкцией без неврологической основы, не может быть найдено в мозговой ткани.
На самом деле специалисты в этой области утверждают, что неспособность природы отсеять депрессию в эволюционном процессе (несмотря на очевидные минусы с точки зрения выживания и размножения) связана именно с тем, что депрессия как адаптация играет полезную роль в разы невзгод, помогая депрессивному человеку выйти из рискованных и безнадежных ситуаций, в которых он или она не может победить.
Нравственность
Нынешняя мировая индустрия счастья уходит своими корнями в христианские кодексы морали, многие из которых говорят нам, что у любого несчастья, которое мы можем испытать, есть моральная причина. Они часто говорят, что это происходит из-за наших собственных моральных недостатков, эгоизма и материализма. Они проповедуют состояние добродетельного психологического равновесия через отречение, непривязанность и сдерживание желания.
На самом деле, эти стратегии просто пытаются найти лекарство от нашей врожденной неспособности постоянно радоваться жизни, поэтому нам следует утешаться знанием того, что несчастье на самом деле не наша вина. Это вина нашего природного дизайна. Он есть в нашей схеме.
Сторонники нравственно правильного пути к счастью также не одобряют упрощение пути к удовольствию с помощью психотропных препаратов. Джордж Бернард Шоу сказал: «У нас не больше прав потреблять счастье, не производя его, чем потреблять богатство, не производя его». Благополучие, по-видимому, нужно заслужить, что доказывает, что оно не является естественным состоянием.
Джордж Бернард Шоу сказал: «У нас не больше прав потреблять счастье, не производя его, чем потреблять богатство, не производя его». Благополучие, по-видимому, нужно заслужить, что доказывает, что оно не является естественным состоянием.
Жители Дивного нового мира Олдоса Хаксли живут совершенно счастливой жизнью с помощью «сомы», наркотика, который делает их послушными, но довольными. В своем романе Хаксли подразумевает, что свободный человек неизбежно должен страдать от тяжелых эмоций. Учитывая выбор между эмоциональными мучениями и безмятежностью содержания, я подозреваю, что многие предпочтут последнее.
Но «сомы» не существует, так что проблема не в том, что доступ к надежному и постоянному удовлетворению химическими средствами незаконен; скорее это невозможно. Химические вещества изменяют сознание (что иногда бывает полезно), но поскольку счастье не связано с конкретным функциональным паттерном мозга, мы не можем воспроизвести его химически.
Счастливые и несчастные
Наши эмоции смешанные и нечистые, беспорядочные, запутанные и временами противоречивые, как и все остальное в нашей жизни.
