Мураками текст свободная: Мураками — Свободная текст песни, слова
аккорды для гитары, текст песни, аппликатуры аккордов
На этой странице разберем аккорды песни «Свободная» для гитары, которую исполняет Мураками.
EМИ AЛЯ DРЕ GСОЛЬ BСИ EМИ
- 0..9
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- Ж
- З
- И
- К
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- У
- Х
- Ц
- Ч
- Ш
- Щ
- Э
- Ю
- Я
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Тональность
Печать
Am Закружиться юлою G F Чтобы увидеть черных мух Am G Дай закутить или не стоит F Чух-чух-чух Припев: Dm Фонари сбежались C На последний танец Dm И я уже не справлюсь E С собой Am G Километрами вольность Dm Отправляться до нельзя Am G За чертою банальности Dm Отыщу свою песню F G Am G На свободе, на вершине земли F G Am На последнем вздохе не сумели На свободе, не вершине земли На последнем вздохе не смогли Закрывайся собою А дальше нам куда За нереальной чертою Раз, два. .. раз и два Припев Запечатана кем-то Только для чего А задаваться вопросами Знаешь так легко Припев: Фонари сбежались Лишь на белый танец И я уже не справлюсь Прощай Am G Утонула в одиночестве Dm Королева не плачет Am G Оторваться себя от общества Dm Ничего не значит F G Я спущу себя по лестнице Am Чтоб не возвращаться F G Am Знаешь просто я F G Am Знаешь просто я F G Знаешь просто я... Am Начинаю прощаться
Песня «Свободная», которую исполняет Мураками, подойдет для разбора гитаристу любого уровня. Это очень простая, но красивая песня. В каждой компании наверняка кто-то захочет ее спеть и сыграть на гитаре. Аккорды и текст песни были составлены и проверены опытными гитаристами.
На сайте предусмотрена возможность транспонировать аккорды в удобную тональность, включать автоматическую прокрутку и распечатать аккорды. Для удобство предоставлены все аппликатуры аккордов, которые встречаются в песне «Свободная».
Читать онлайн «Беседы о музыке с Сэйдзи Одзавой», Харуки Мураками – ЛитРес, страница 2
Караян и Гульд, третий фортепианный концерт Бетховена
Мураками: Сегодня послушаем Третий фортепианный концерт Бетховена в исполнении Караяна и Гульда. Не студийная, а концертная запись 1957 года в Берлине. Берлинский филармонический оркестр.
Звучит первая часть, заканчивается долгая прочувствованная оркестровая увертюра, вступает фортепиано Гульда. Наконец они с оркестром сливаются воедино [3.19].
Мураками: Оркестр и пианист сейчас не совпали.
Одзава: Да, разошлись. И тут тоже вступили неправильно.
Мураками: Они что, не согласовывают этого заранее?
Одзава: Согласовывают, конечно. Но если есть солист, как здесь, – подстраивается, как правило, оркестр…
Мураками: Караян и Гульд в те годы были в разных весовых категориях.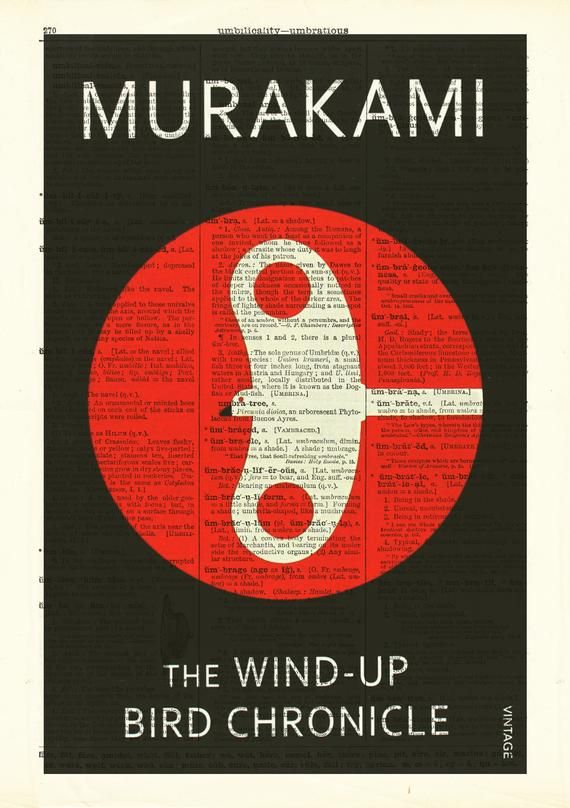
Одзава: Да. Пятьдесят седьмой год, значит, Гульд не так давно дебютировал.
Мураками: Вот как я это вижу: первое вступление оркестра звучит очень по-бетховенски, совершенно по-немецки. А молодому Гульду хочется немного от этого отступить, отпустить, создавать свою музыку. Из-за разницы в видении между ними нет согласованности, то и дело чувствуется разлад. Но в целом – нормально.
Одзава: Музыка Гульда – в принципе свободная музыка. И еще кое-что. Гульд – канадец, не европеец, живет в Северной Америке. Он не из немецкоязычной страны, и это, пожалуй, его главное отличие от маэстро Караяна. В маэстро музыка Бетховена проросла корнями, и это уже до мозга костей немецкая музыка, добротная симфония. К тому же маэстро явно не собирается подстраиваться под музыку Гульда.
Мураками: То есть Караян скрупулезно создает свою музыку, а дальше делай что хочешь. Вот почему фортепианное соло или каденция Гульда звучат как нечто чужеродное. Не согласованное с тем, что есть до и после.
Одзава: Между тем маэстро Караян, похоже, этого не замечает.
Мураками: Не замечает. Он погружен в собственный мир. А Гульд мгновенно сдался и работает сам по себе. Ощущение, будто Караян строит музыку в вертикальной проекции, а Гульд видит ее в горизонтальной.
Одзава: А это интересно, слушать вот так музыку. Какой другой дирижер мог бы исполнить концерт так, словно это симфония, ничуть не думая о солисте?
Гульд и Бернстайн, третий фортепианный концерт Бетховена
Мураками: Сейчас я поставлю тот же Третий фортепианный концерт Бетховена, но записанный двумя годами позже Караяна, в пятьдесят девятом году. Официальная студийная запись симфонического оркестра Колумбия в исполнении Гульда под руководством Бернстайна и с участием музыкантов Нью-Йоркской филармонии.
Звучит оркестровая увертюра. С такой прямотой, словно кто-то неистово швыряет глину о каменную стену.
Одзава: Да, это уже не маэстро Караян. И не симфония. Оркестр звучит, как бы это сказать, совершенно старомодно.
Мураками: Раньше я этого не замечал, но сразу после Караяна звучит и правда довольно замшело. Хотя прошло всего два года.
Одзава: Да, старомодно.
Мураками: Это не может быть связано с качеством записи?
Одзава: Может. Но дело не только в этом. Хотя микрофоны действительно стоят слишком близко к инструментам. В Америке раньше все так писали. Запись маэстро Караяна больше ориентирована на общее звучание.
Мураками: Видимо, американской публике нравился более решительный, мертвый звук.
Вступает фортепиано Гульда [3.31].
Одзава: Это через два года?
Мураками: За три года до скандального концерта Брамса и через два после Караяна. Манера слегка изменилась за эти два года.
Одзава: Да, это уже похоже на Гленна. Гораздо непринужденнее. Но только, не знаю, стоит ли об этом говорить… Не подумайте, будто я сравниваю маэстро Караяна и Бернстайна… В музыке есть такое понятие – направление. Направленность в буквальном смысле этого слова. У маэстро Караяна оно врожденное – умение строить длинные фразы. Он и нас учил так делать. Если сравнить его и Бернстайна, Ленни строит фразы, руководствуясь природным даром, но не умеет делать этого осознанно и продуманно. А вот маэстро Караяну стоит только захотеть – и он сумеет построить любую фразу по своему желанию. Неважно, у Бетховена или у Брамса. Особенно – у Брамса. Иногда он делает это даже в ущерб общей согласованности. От своих учеников, включая меня, он требовал того же.
У маэстро Караяна оно врожденное – умение строить длинные фразы. Он и нас учил так делать. Если сравнить его и Бернстайна, Ленни строит фразы, руководствуясь природным даром, но не умеет делать этого осознанно и продуманно. А вот маэстро Караяну стоит только захотеть – и он сумеет построить любую фразу по своему желанию. Неважно, у Бетховена или у Брамса. Особенно – у Брамса. Иногда он делает это даже в ущерб общей согласованности. От своих учеников, включая меня, он требовал того же.
Мураками: В ущерб общей согласованности…
Одзава: В том смысле, что его не пугает отсутствие точного совпадения. Главное – жирная длинная линия. То самое направление. Направленность. В музыке она, кстати, включает в себя «связку». Направление бывает коротким и долгим.
На фоне фортепиано, постепенно усиливаясь, звучит оркестр.
Одзава: Вот эти три звука – это тоже направление. Вот тут, слышите: ла, ла, ла. Кто-то умеет это делать, а кто-то нет. Такое нарастание.
Мураками: Выходит, у Бернстайна направление – это не столько умственный расчет, сколько физическое действие.
Одзава: Да, пожалуй.
Мураками: Хорошо, если все получилось, а если нет? Может не получиться?
Одзава: Конечно. И в отличие от него маэстро Караян заранее четко задает направление и требует от оркестра так же четко ему следовать.
Мураками: То есть музыка складывается у него в голове еще до исполнения.
Одзава: Да, примерно так.
Мураками: А у Бернстайна иначе.
Одзава: Он скорее действует по наитию, инстинктивно…
Гульд свободно, вольготно исполняет соло [4.33-5.23].
Одзава: Вот тут Гленн работает уже по-настоящему свободно.
Мураками: То есть Бернстайн, в отличие от Караяна, дает солисту свободу и создает музыку, в известной степени подстраиваясь под его исполнение. Так получается?
Одзава: Пожалуй, да. По крайней мере в этом произведении. Но в случае с Брамсом, видимо, оказалось не так просто, возникли сложности. Я имею в виду Первый фортепианный концерт.
Я имею в виду Первый фортепианный концерт.
Гульд в сольной партии плавно замедляет темп и удлиняет фразу [5.01-5.07].
Одзава: Слышали, как плавно он сейчас замедлился? В этом весь Гленн.
Мураками: Свободно варьирует ритм. Понятно, что это его манера, но аккомпанировать, должно быть, непросто?
Одзава: Еще как непросто.
Мураками: Для этого на репетиции важно поймать дыхание друг друга и подстроиться?
Одзава: Да. Но музыканты его уровня умеют подстроиться даже при непосредственном исполнении. Вычислить друг друга… Да, вычислить. Как бы это сказать… в общем, тут вопрос доверия. Лично мне доверяют. Вид у меня порядочный (смеется). Солисты, бывает, такое вытворяют – делают что хотят (смеется). И если все складывается, получается очень интересно. Музыка тогда льется свободно.
Звучит фортепианное соло, нисходящий пассаж. Вступает оркестр [7.07-7.11].
Одзава: Слышали спуск? Перед вступлением оркестра Гленн раз – и вставляет звук.
Мураками: Что значит «вставляет»?
Одзава: Посылает дирижеру сигнал: «Вступайте здесь». Этого нет в партитуре.
Близится конец первой части, фортепиано переходит к знаменитой длинной каденции [13.06].
Одзава: Он играет вот так, сидя на низком стуле (принимает позу, утонув глубоко в кресле). Как такая поза называется? Не знаю.
Мураками: Гульд тогда уже был популярен?
Одзава: Да, он был популярен. Я очень обрадовался знакомству с ним. Кстати, при встрече он никогда не подавал руки. Постоянно носил перчатки.
Мураками: Он вообще был странным человеком.
Одзава: Я немного общался с ним в Торонто и мог бы много чего рассказать. Бывал у него в гостях… [Примечание Мураками: К сожалению, несколько рассказанных эпизодов не могут быть изложены в книге.]
Звучит заключительная часть каденции. Темп меняется с головокружительной быстротой.
Мураками: То, как он обращается со звуком, – полная свобода.
Одзава: Действительно гениально. И убедительно. Вообще, его исполнение сильно расходится с партитурой. Но отторжения не вызывает.
Мураками: Получается, с партитурой расходятся не только каденция и соло?
Одзава: Нет, не только. Великолепное исполнение.
Заканчивается первая часть [17.11]. Я снимаю иглу с пластинки.
Мураками: Вообще-то я услышал запись Гульда и Бернстайна еще в школе и влюбился в этот Концерт до минор. Конечно, мне нравится первая часть, но во второй есть потрясающее место, где Гульд поддерживает оркестр своим арпеджио.
Одзава: Где деревянные духовые.
Мураками: Точно. Там, где у другого пианиста просто аккомпанемент, у Гульда – полное ощущение контрапункта. Мне всегда нравилось это место. Совершенно ни на кого не похоже.
Одзава: Все дело в уверенности. Давайте послушаем. Я как раз изучаю это произведение. Мы исполним его с Мицуко Утидой в Нью-Йорке, с оркестром Сайто Кинэн.
Мураками: Жду с нетерпением.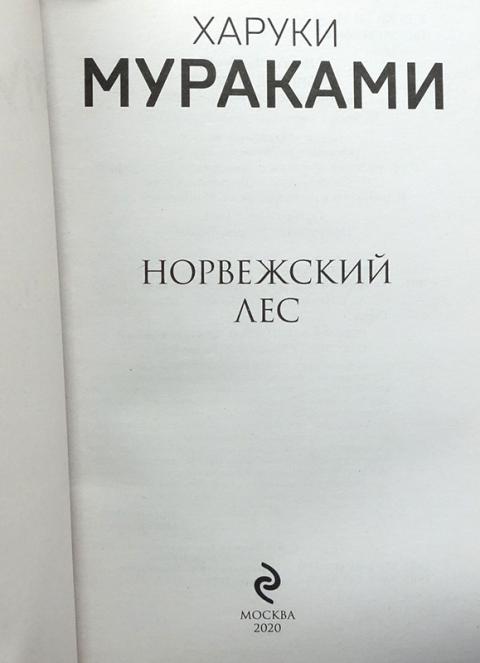 Очень интересно, каким будет ваше исполнение.
Очень интересно, каким будет ваше исполнение.
Перевернув пластинку, ставлю вторую часть. Но сначала мы пьем горячий чай ходзитя с моти[1].
Мураками: Наверное, сложно дирижировать второй частью?
Одзава: Крайне сложно.
Мураками: Довольно медленно. Хотя красиво.
Звучит фортепианное соло, затем тихо вступает оркестр [1.19].
Мураками: Здесь оркестр звучит уже не так жестко, как в предыдущем фрагменте.
Одзава: Да, стало лучше.
Мураками: До этого чувствовалась натянутость?
Одзава: Пожалуй.
Мураками: Думаю, в первой части отчетливо слышно противостояние между солистом и дирижером. По вступлению к первой части исполнителей этого концерта можно разделить на «противоборствующих» и «взаимодействующих». На концертной записи Рубинштейна и Тосканини сорок четвертого года они вообще будто ссорятся. Вы слышали?
Одзава: Нет, не слышал.
Звучит фрагмент, где к деревянным духовым присоединяется арпеджио Гульда [4.
19-5.27].
Одзава: Вот оно. То, о чем вы говорили.
Мураками: Да, оно самое. Вроде бы аккомпанемент, но здесь туше, причем явно намеренное.
Одзава: Да, точно не аккомпанемент. По крайней мере, в представлении Гленна.
Гульд заканчивает фразу, делает мгновенную паузу, затем переходит к следующей фразе [5.40].
Одзава: Вот здесь. Где он делает паузу. Это полностью его инициатива. В этом весь Гленн. В том, как он берет паузы.
За этим следует красивое и изящное переплетение фортепиано и оркестра.
Одзава: Все, это уже полностью царство Гульда. Он безраздельно владеет ситуацией. В Азии очень важно «ма» – умение правильно взять паузу[2]. Но и на западе есть музыканты, которые это понимают, такие как Гульд. Не все, конечно. Рядовые музыканты этого не делают. Но такие, как он, умеют.
Мураками: Значит, рядовые музыканты этого не делают?
Одзава: Нет. А если и делают, то не так естественно. Не могут стянуть к себе все нити. Умение сделать паузу – по сути своей искусство красиво стянуть к себе все нити. Будь ты европеец или азиат, главное – делать это виртуозно.
Не могут стянуть к себе все нити. Умение сделать паузу – по сути своей искусство красиво стянуть к себе все нити. Будь ты европеец или азиат, главное – делать это виртуозно.
Мураками: За все время вы записали это произведение только с Рудольфом Сёркином.
Одзава: Да, единственный раз, с Сёркином. Мы с ним записали все концерты. Должны были записать и всего Брамса, но не успели. Сёркин заболел и умер.
Мураками: Очень жаль.
В исполнении оркестра тихо звучит длинная фраза.
Мураками: Наверное, оркестру сложно тянуть в таком медленном темпе?
Одзава: Конечно, сложно.
В медленном темпе фортепиано переплетается с оркестром.
Одзава: Ой, не совпали.
Мураками: И правда, слышался сбой.
Одзава: Здесь, пожалуй, излишне свободно. Я сейчас считал [метр]. Пожалуй, все-таки слишком свободно.
Мураками: Хотя Караян с Гульдом, чье исполнение мы только что слышали, тоже часто не совпадали.
В крайне медленном темпе звучит фортепианное соло.
Мураками: Мало кто из пианистов способен сыграть вторую часть не слишком медленно, так, чтобы зал не заскучал.
Одзава: Это верно.
Заканчивается вторая часть [10.47].
Одзава: Впервые это произведение я исполнял с пианистом Байроном Дженисом. В Чикаго, на «Равинии». [Примечание Мураками. Ежегодный летний музыкальный фестиваль в пригороде Чикаго. В основном с участием музыкантов Чикагского симфонического оркестра.]
Мураками: Байрон Дженис, да, есть такой пианист.
Одзава: Затем с Альфредом Бренделем. С ним Третий фортепианный концерт Бетховена мы исполнили в Зальцбурге. После этого, кажется, с Мицуко Утидой. И только потом с Сёркином.
Сёркин и Бернстайн, третий фортепианный концерт БЕТХОВЕНА
Мураками: Послушайте, пожалуйста, еще одно исполнение Третьего концерта.
Одзава: Давайте послушаем.
Начинается первая часть.
Самое начало, быстрый темп оркестра.
Одзава: И снова совсем другое звучание. Это быстро! Да, быстро. Да они просто несутся.
Мураками: Грубо?
Одзава: Да, грубо, еще и несутся к тому же.
Мураками: С точки зрения ансамблизма тоже резковато.
Одзава: Да, резковато.
Вступление оркестра заканчивается, в таком же сверхэнергичном темпе врывается фортепиано [3.08].
Одзава: Тоже порывисто.
Мураками: Оба стараются бежать. Но скользят.
Одзава: Дирижер явно дирижирует на два, не на четыре. Размер получается не четырехчастный, а двухчастный.
Мураками: Получается, он вынужден использовать двухчастный размер из-за слишком быстрого темпа?
Одзава: В старых партитурах иногда встречается двухчастный размер. Хотя сейчас правильным считается 4/4. В начале он явно дирижирует на 2/2. Отсюда и скольжение.
Мураками: То есть, в зависимости от темпа произведения, дирижер решает, будет ли размер четырехчастным или двухчастным?
Одзава: Верно. Если исполнять достаточно медленно, размер определенно будет 4/4. Согласно последним исследованиям, правильный размер для этого произведения – четырехчастный. Но когда я учился, можно было дирижировать как на 2/2, так и на 4/4.
Если исполнять достаточно медленно, размер определенно будет 4/4. Согласно последним исследованиям, правильный размер для этого произведения – четырехчастный. Но когда я учился, можно было дирижировать как на 2/2, так и на 4/4.
Мураками: Я не знал. Это Сёркин и Леонард Бернстайн, Нью-Йоркский филармонический оркестр. Запись шестьдесят четвертого года. Через пять лет после Гульда.
Одзава: Довольно странное исполнение.
Мураками: Куда так торопиться.
Одзава: Невообразимо.
Мураками: Мне казалось, играть вот так, наскоком – совсем не в духе Рудольфа Сёркина. Или в те годы это было модно?
Одзава: Может быть. Это же шестьдесят четвертый? В моду как раз вошло старинное исполнение. В принципе, для него характерны быстрый темп и малая реверберация. И короткие смычки у струнных. Возможно, дело в этом. Я бы сказал «исполнили залпом». Совершенно не по-немецки.
Мураками: Нью-Йоркской филармонии это вообще свойственно?
Одзава: По сравнению с Берлинской или Венской ей, конечно, недостает немецкого духа.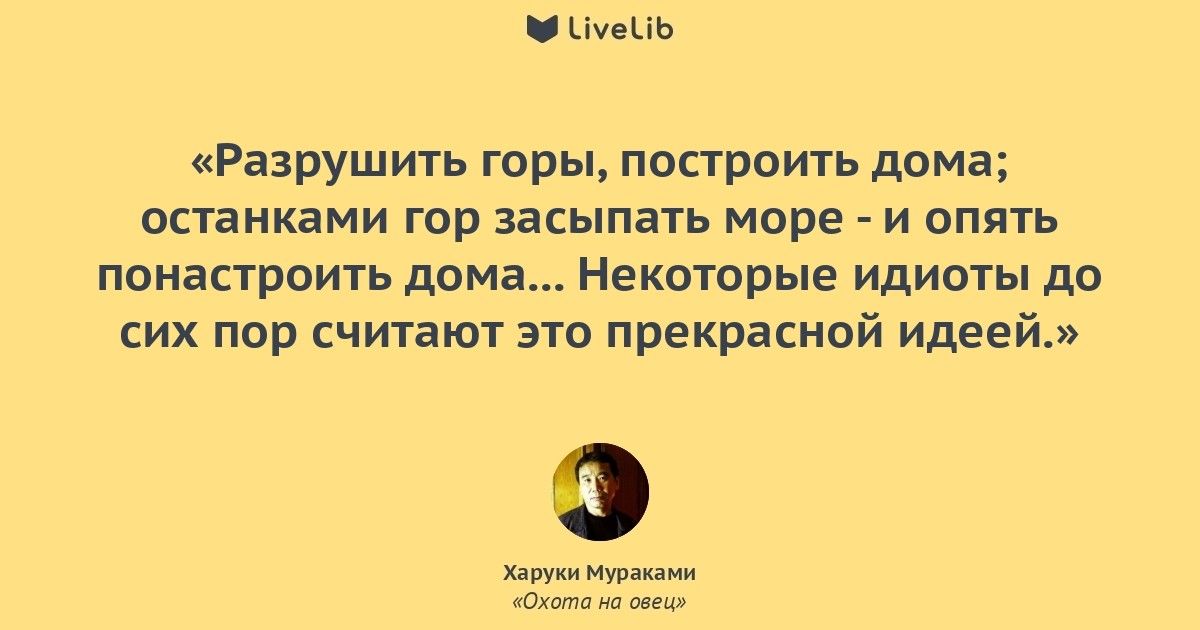
Мураками: Бостонский оркестр другой, верно?
Одзава: Да, он мягче. Бостонский так не работает. Ему такое не понравится.
Мураками: А Чикагский ближе к Нью-Йоркскому?
Одзава: Да. А вот Кливлендский так не исполнил бы. Он ближе к Бостонскому. Поспокойнее, без резкостей. Да ладно оркестр, я не могу поверить, что это играет Сёркин. Ох, как скользит.
Мураками: Может, Бернстайн хотел противопоставить свое исполнение караяновскому Бетховену?
Одзава: Возможно. Но Ленни и последнюю часть Девятой симфонии Бетховена исполнял в крайне медленном темпе. Думаю, записи не осталось, но я видел по телевизору. Выступление было в Зальцбурге. Значит, либо Берлинская, либо Венская филармония. Настолько медленно, что хотелось кричать: «Эй, это уж слишком!» Помните, квартет в конце? Вот там.
Во что бы то ни стало хотел исполнять немецкую музыку
Мураками: Сначала была Нью-Йоркская филармония, и только потом вы отправились в Берлин?
Одзава: Да. После Берлина я работал ассистентом у Ленни в Нью-Йоркской филармонии, а потом маэстро Караян позвал меня обратно в Берлин.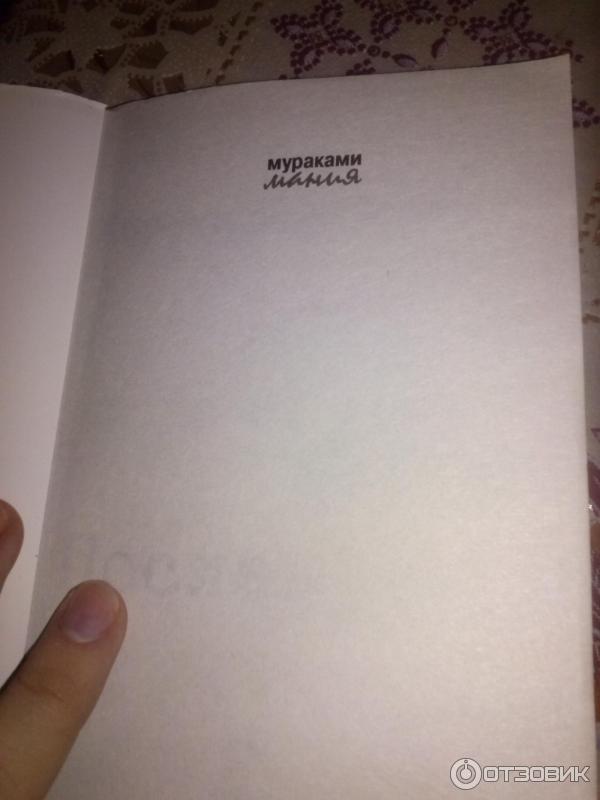 Там я дебютировал. Именно в Берлине получил свой первый дирижерский гонорар. Исполнял Маки Исии, Бориса Блахера и симфонию Бетховена. Не то Первую, не то Вторую.
Там я дебютировал. Именно в Берлине получил свой первый дирижерский гонорар. Исполнял Маки Исии, Бориса Блахера и симфонию Бетховена. Не то Первую, не то Вторую.
Мураками: Как долго вы пробыли в Нью-Йорке?
Одзава: Два с половиной года. Шестьдесят первый, шестьдесят второй и часть шестьдесят третьего. В шестьдесят четвертом дирижировал уже в Берлинской филармонии.
Мураками: Но это же совершенно разное звучание. Я имею в виду Нью-Йоркскую и Берлинскую филармонии того времени.
Одзава: Да, совершенно разное. Как и сейчас. Несмотря на развитие связей и культурную глобализацию, более активную миграцию исполнителей между оркестрами, они и сегодня звучат совершенно по-разному.
Мураками: И все же в первой половине шестидесятых звук Нью-Йоркской филармонии был особенно жестким, даже агрессивным.
Одзава: Да, это эпоха Ленни. Взять хотя бы его Малера – звучит очень жестко. Но такого скольжения я раньше не слышал.
Мураками: На записи Гульда, которую мы недавно прослушали, звук хоть и не скользит, но довольно сухой. Американской публике нравилась такая манера?
Американской публике нравилась такая манера?
Одзава: Не думаю.
Мураками: И все же отличие диаметральное.
Одзава: Говорят, один и тот же оркестр звучит по-разному у разных дирижеров. Особенно это заметно у американских оркестров.
Мураками: То есть у европейских оркестров звук не сильно зависит от дирижера?
Одзава: Звучание Берлинской или Венской филармонии почти не зависит от дирижера.
Мураками: После ухода Бернстайна в Нью-Йоркской филармонии сменилось много постоянных дирижеров. [Зубин] Мета, [Курт] Мазур…
Одзава: [Пьер] Булез…
Мураками: Но в целом не сказал бы, что звучание оркестра изменилось.
Одзава: Согласен с вами.
Мураками: Я слышал Нью-Йоркскую филармонию с разными дирижерами, но звук был достаточно предсказуем. Интересно почему?
Одзава: Репетиционная муштра – это не про Ленни.
Мураками: Он больше занят собой.
Одзава: Да. Гений, и этим все сказано. А может, подготовительная работа с оркестром – не его конек. Педагог он был выдающийся, но скорее не как практик.
Педагог он был выдающийся, но скорее не как практик.
Мураками: Но ведь звучание оркестра для дирижера – все равно что авторский стиль для писателя. Неужели он не хотел отточить собственный стиль? Он же требовал определенного уровня исполнения…
Одзава: Это да.
Мураками: Или дело в том самом «направлении», о котором вы недавно говорили?
Одзава: В нем тоже, но главное, он не объяснял, как нужно играть.
Мураками: Что значит «не объяснял, как нужно играть»?
Одзава: Не объяснял, как должен играть тот или иной инструмент. Ленни, как правило, не давал рекомендаций, каким способом добиться созвучия. Вот маэстро Караян делал это виртуозно.
Мураками: Что значит «каким способом»?
Одзава: То есть как добиться ансамблевого звучания. Он этому не учил. Вернее, не мог научить. Потому что у него оно врожденное, гениальность, если хотите.
Мураками: То есть он не мог четко объяснить оркестру: «Здесь ты играй так, а ты вот так»?
Одзава: Если точнее, то хороший профессиональный дирижер дает оркестру установку: сейчас слушайте этот инструмент, а сейчас – вот этот.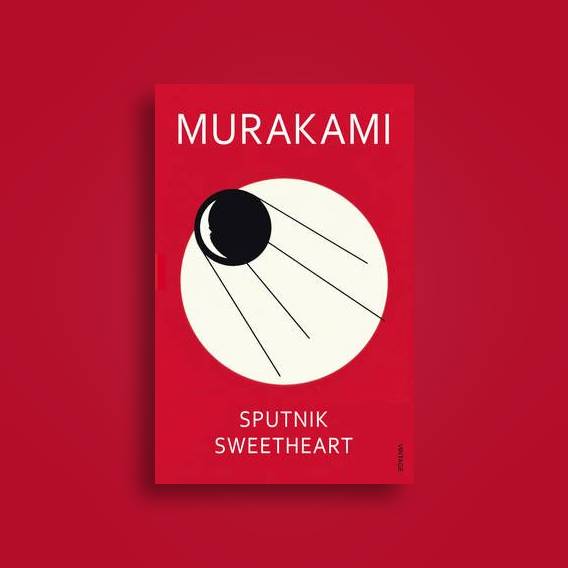 Тогда оркестр звучит ансамблево.
Тогда оркестр звучит ансамблево.
Мураками: Выходит, оркестранты постоянно слушают тот или иной инструмент.
Одзава: Да. Сейчас слушают виолончель, потом гобой. Примерно так. Маэстро Караяну это удавалось гениально. На репетициях он давал конкретные указания. Ленни так работать с оркестром не умел. Даже не то чтоб не умел – ему это было неинтересно.
Мураками: Но в голове он, конечно, знал, какого звучания хочет добиться?
Одзава: Конечно, знал.
Мураками: Но не мог объяснить как.
Одзава: Не мог. И это тем более странно, поскольку Ленни действительно выдающийся педагог. Он разработал великолепный курс для Гарварда. Знаменитые лекции, которые потом издали. Делал ли он нечто подобное для оркестра? Нет, не делал. В его работе с оркестром обучение отсутствовало как таковое.
Мураками: Невероятно.
Одзава: То же самое можно сказать о его отношении к нам, ассистентам. Мы видели в нем наставника, ждали, когда он чему-то научит. Но Ленни считал иначе. Говорил, что мы коллеги… в смысле – сослуживцы. Говорил: «Делайте мне замечания, если что-то не так. Я буду делать вам, а вы обязательно мне». Такое, знаете ли, стремление правильного американца к равноправию. Когда он босс, но не наставник.
Говорил, что мы коллеги… в смысле – сослуживцы. Говорил: «Делайте мне замечания, если что-то не так. Я буду делать вам, а вы обязательно мне». Такое, знаете ли, стремление правильного американца к равноправию. Когда он босс, но не наставник.
Мураками: Совсем не по-европейски.
Одзава: Да, совсем иначе. А поскольку к оркестру он относился так же, подготовиться было в принципе невозможно. Потому что любая подготовка – это усилия. Его эгалитаризм приводил к тому, что не дирижер выговаривал оркестрантам, а они ему. Я не раз это наблюдал. Ладно бы оркестранты огрызались в шутку, но нет, они вели себя очень дерзко, открыто конфликтовали. В любом другом оркестре это исключено.
Спустя много лет я оказался в похожей ситуации, когда начал работать с оркестром Сайто Кинэн. Со многими музыкантами Сайто Кинэн нас связывало долгое сотрудничество. Сейчас их уже меньше, но первые лет десять они активно выражали свое мнение. Так сложилось. Не всем нравилось работать в такой обстановке. Особенно новичкам. Одни жаловались, что такой подход неприемлем, поскольку мы теряем массу времени, выслушивая всех подряд. Другие – что маэстро недостаточно учитывает мнение каждого. Хотя я охотно всех слушал.
Особенно новичкам. Одни жаловались, что такой подход неприемлем, поскольку мы теряем массу времени, выслушивая всех подряд. Другие – что маэстро недостаточно учитывает мнение каждого. Хотя я охотно всех слушал.
Но в случае с Ленни то не был добровольный музыкальный коллектив единомышленников. Ленни имел дело с постоянным оркестром суперпрофессионалов. Я не раз видел, как из-за его эгалитарного подхода репетиция затягивалась.
Мураками: При этом он не особо прислушивался к чужому мнению.
Одзава: Думаю, он очень старался быть «правильным американцем». И, возможно, в какой-то момент слегка перегнул палку.
Мураками: И все же одно дело имидж, а другое – когда не можешь добиться нужного звучания. Наверняка это раздражает?
Одзава: Думаю, да. Все его звали Ленни, по имени. Меня тоже часто зовут Сэйдзи, но в его случае это было не просто обращение. Случалось, оркестранты, не разобравшись, начинали препираться: «Эй, Ленни, здесь надо играть по-другому». Пока выясняли, что к чему, репетиция останавливалась. В результате заканчивали с опозданием.
В результате заканчивали с опозданием.
Мураками: Такой подход годится, когда в оркестре все хорошо, музыканты на подъеме, и звук тогда получается отличный, в противном случае это все усложняет.
Одзава: Да, пропадает единение. Я с этим столкнулся. На заре Сайто Кинэн одни звали меня Сэйдзи, другие – господин Одзава или маэстро. Помню, я подумал, что у Ленни мы работали в таких же условиях.
Мураками: С Караяном такого не было?
Одзава: Во всяком случае, он никого не слушал. Если оркестр звучал не так, как ему нужно, виноват был всегда оркестр. И он заставлял работать, пока не получал нужного звучания.
Мураками: Четко и ясно.
Одзава: У Ленни на репетициях стоял гвалт. Мне всегда это казалось неправильным. В Бостоне, если кто-то болтал, я пристально на него смотрел. Разговоры тут же смолкали. Ленни так не делал.
Мураками: А Караян?
Одзава: Мне казалось, что маэстро Караян пресекает такое на корню. Но однажды, незадолго до смерти, он приехал в Японию с Берлинской филармонией. Шла репетиция. Готовили Девятую симфонию Малера. Она была не из японской программы, ее предстояло исполнять уже после возвращения в Берлин. То есть не на завтрашнем концерте. Понятное дело, оркестру не хотелось репетировать еще и ее. Я наблюдал репетицию из зала, музыканты болтали. Когда маэстро останавливал исполнение, чтобы сделать какое-то замечание, они начинали приглушенно переговариваться. Тогда он обернулся ко мне и громко сказал: «Ну что, Сэйдзи, видел ты когда-нибудь на репетиции такой шумный оркестр?» (Смеется.) Я не знал, что ответить.
Шла репетиция. Готовили Девятую симфонию Малера. Она была не из японской программы, ее предстояло исполнять уже после возвращения в Берлин. То есть не на завтрашнем концерте. Понятное дело, оркестру не хотелось репетировать еще и ее. Я наблюдал репетицию из зала, музыканты болтали. Когда маэстро останавливал исполнение, чтобы сделать какое-то замечание, они начинали приглушенно переговариваться. Тогда он обернулся ко мне и громко сказал: «Ну что, Сэйдзи, видел ты когда-нибудь на репетиции такой шумный оркестр?» (Смеется.) Я не знал, что ответить.
Мураками: Вероятно, в те годы его авторитет немного упал, в Берлинской филармонии было много нюансов.
Одзава: В конце концов они помирились, ситуация выправилась. Но до этого отношения были натянутые.
Мураками: На репетициях я часто вижу, как вы даете оркестру конкретные указания при помощи мимики. Делаете специальное лицо.
Одзава: Хм… Сложно сказать… Точно не знаю…
Мураками: А у Бостонского оркестра звучание зависит от дирижера?
Одзава: Да, зависит.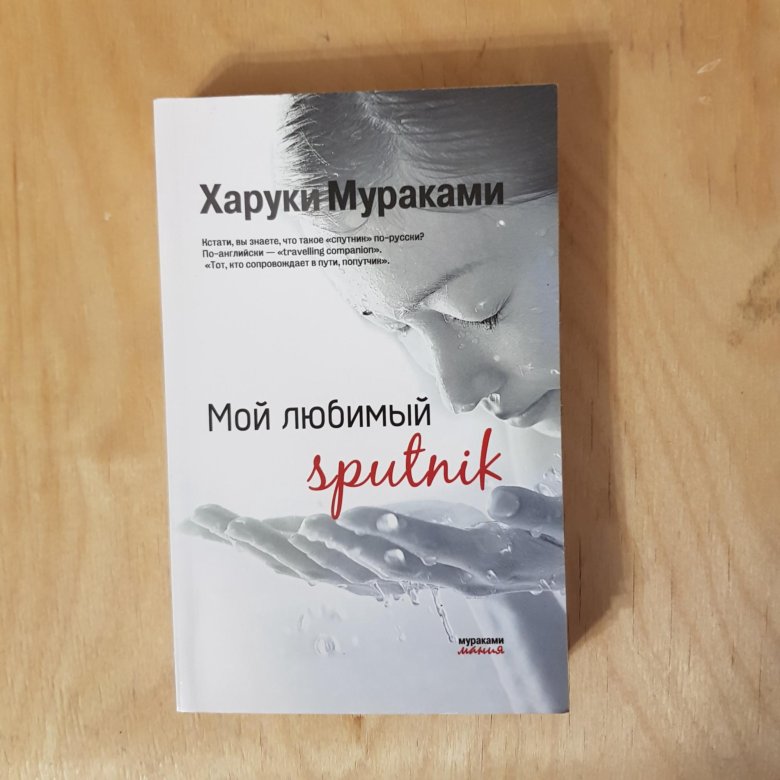
Мураками: Долгое время постоянным дирижером там был [Шарль] Мюнш, потом [Эрих] Лайнсдорф, затем вы, верно?
Одзава: После Лайнсдорфа был [Уильям] Стайнберг.
Мураками: Точно.
Одзава: Через три-четыре года после того, как я стал дирижером, звук изменился. Появилась немецкая манера исполнения, так называемая «внутриструнная». Когда струны глубже забирают смычком. Звук тогда получается более массивным. До этого звучание Бостонского оркестра было легче, красивее. Потому что раньше они в основном исполняли французскую музыку. Заметно влияние Мюнша и [Пьера] Монтё. Монтё, хоть и не был музыкальным руководителем, приезжал довольно часто. Лайнсдорф тоже не очень-то немец по духу.
Мураками: С вашим приходом звук изменился.
Одзава: Я во что бы то ни стало хотел исполнять немецкую музыку. Например, Брамса и Бетховена, Брукнера, Малера. Потому и требовал, чтобы струнные перешли на «внутриструнную» манеру игры. Концертмейстер, который этому противился, в итоге ушел. [Джозеф] Силверстайн – по совместительству помощник дирижера. Ему не нравилась такая манера. Говорил, что звук получается грязным. Он долго упорствовал, но поскольку дирижером все же был я, ему пришлось уйти. Он потом начал самостоятельную карьеру, был музыкальным руководителем Симфонического оркестра Юты.
[Джозеф] Силверстайн – по совместительству помощник дирижера. Ему не нравилась такая манера. Говорил, что звук получается грязным. Он долго упорствовал, но поскольку дирижером все же был я, ему пришлось уйти. Он потом начал самостоятельную карьеру, был музыкальным руководителем Симфонического оркестра Юты.
Мураками: Но ведь вы работали с Парижским оркестром. И можете исполнять любую музыку.
Одзава: Поскольку я учился у маэстро Караяна, в основном это все-таки была немецкая музыка. Затем я отправился в Бостон, мне нравился Мюнш, и я начал исполнять французов. Всего Равеля, всего Дебюсси. Параллельно делал записи. Я изучил французскую музыку, когда начал работать уже в Бостоне. Маэстро Караян меня этому не учил. До этого я исполнял разве что «Послеполуденный отдых фавна».
Мураками: Вот как? Я думал, вы всегда были сильны во французской музыке.
Одзава: Ну что вы. До того момента я ею совсем не занимался. Из Берлиоза, например, исполнял только «Фантастическую симфонию». Остального Берлиоза исполнил уже по просьбе звукозаписывающих компаний.
Остального Берлиоза исполнил уже по просьбе звукозаписывающих компаний.
Мураками: Берлиоз сложный? Бывает, слушаю его и ничего не понимаю.
Одзава: Не то чтобы сложный, скорее безумный. Непонятный. Может, поэтому он подходит азиатским исполнителям. Делай что хочешь. Как-то в Риме я исполнял оперу Берлиоза «Бенвенуто Челлини». Творил что хотел, и публике нравилось.
Мураками: С немецкой музыкой это категорически невозможно.
Одзава: Верно. Еще у Берлиоза есть реквием. Как же его… да, «Большая заупокойная месса». В ней восемь литавр. Так вот, там я тоже мог делать все что хочу. Полная свобода. Впервые я исполнил его в Бостоне и потом еще много где. Когда умер Мюнш, в память о нем мы играли этот реквием в Зальцбурге с его Оркестром Парижа.
Мураками: То есть в Бостоне вы исполняли французскую музыку не столько по своей воле, сколько по просьбе звукозаписывающих компаний.
Одзава: Верно. К тому же и оркестр хотел исполнять французскую музыку. Они позиционировали себя как оркестр французской музыки. Так что большая часть репертуара была мне в новинку.
Так что большая часть репертуара была мне в новинку.
Мураками: Работая в Германии, вы в основном исполняли немецкую музыку.
Одзава: Да, маэстро Караян – это почти всегда немецкая музыка. Хотя он исполнял Бартока.
Мураками: Но в Бостоне вы терпеливо и неспешно ввели «внутриструнную» технику, подготовив тем самым почву для немецкой музыки.
Одзава: Да. И тогда немецкие дирижеры – такие как [Клаус] Теннштедт или Мазур – искренне полюбили Бостонский симфонический оркестр и стали ежегодно приезжать.
Мураками — Телеграмма: тексты и песни
- 2009 | M2
Общая длительность:49 min
01 | Сердечко-клевер | Мураками | Телеграмма | 02 / 10″> | 03:20 | |
Композиторы: Вагапова Д. — Латыпов Р. — Бережной С. | ||||||
02 | ПроУрал | Мураками | Телеграмма | 03:51 | ||
Композиторы: Вагапова Д. | ||||||
03 | Мандарины | Мураками | Телеграмма | 33 / 10″> | 04:31 | |
Композиторы: Вагапова Д. | ||||||
04 | Жанна Д’Арк | Мураками | Телеграмма | 04:02 | ||
Композиторы: Вагапова Д. | ||||||
05 | Свободная | Мураками | Телеграмма | 32 / 10″> | 05:35 | |
Композиторы: Вагапова Д. — Латыпов Р. | ||||||
06 | 0 км | Мураками | Телеграмма | 05:35 | ||
Композиторы: Вагапова Д. — Латыпов Р. | ||||||
07 | Щастье | Мураками | Телеграмма | 08 / 10″> | 03:45 | |
Композиторы: Вагапова Д. — Бережной С. | ||||||
08 | Гений (тебе) | Мураками | Телеграмма | 05:12 | ||
Композиторы: Вагапова Д. — Бережной С. | ||||||
09 | Каре-зелёная | Мураками | Телеграмма | 45 / 10″> | 04:01 | |
Композиторы: Вагапова Д. — Латыпов Р. — Бережной С. | ||||||
10 | Идеально | Мураками | Телеграмма | 02:54 | ||
Композиторы: Вагапова Д. — Бережной С. | ||||||
11 | Время | Мураками | Телеграмма | 11 / 10″> | 04:05 | |
Композиторы: Вагапова Д. — Латыпов Р. — Бережной С. | ||||||
12 | Телеграмма | Мураками | Телеграмма | 02:34 | ||
Композиторы: Вагапова Д. — Бережной С. | ||||||
Вторая атака на пекарню
Вторая атака на пекарню Я до сих пор не уверен, что сделал правильный выбор, когда рассказал жене о нападении на пекарню. Но тогда, возможно, это не было бы вопросом правильного и неправильного. То есть неправильный выбор может привести к правильным результатам, и наоборот. Я сам придерживаюсь мнения, что на самом деле мы вообще ничего не выбираем . Всякое случается. Или нет.
Я сам придерживаюсь мнения, что на самом деле мы вообще ничего не выбираем . Всякое случается. Или нет.
Если посмотреть на это с этой точки зрения, так уж получилось, что я рассказал жене о нападении на пекарню. Я не собирался поднимать эту тему — я совсем забыл об этом, — но это и не было из тех вещей типа «теперь, когда вы об этом упомянули».
О нападении на пекарню мне напомнил невыносимый голод. Он ударил незадолго до двух часов ночи. Мы съели легкий ужин в шесть, забрались в постель в девять тридцать и легли спать. Мы почему-то проснулись в одно и то же время. Через несколько минут муки обрушились с силой торнадо на Волшебник страны Оз . Это были ужасные, непреодолимые приступы голода.
В нашем холодильнике не было ни одного предмета, который технически можно было бы отнести к категории продуктов питания. У нас была бутылка французской заправки, шесть банок пива, две сморщенные луковицы, пачка масла и коробка дезодоранта для холодильника. Всего две недели супружеской жизни позади, и нам еще предстояло установить точное супружеское взаимопонимание в отношении правил диетического поведения. Не говоря уже о чем-либо еще.
Всего две недели супружеской жизни позади, и нам еще предстояло установить точное супружеское взаимопонимание в отношении правил диетического поведения. Не говоря уже о чем-либо еще.
В то время я работал в юридической фирме, а она работала секретарем в школе дизайна. Мне было то ли двадцать восемь, то ли двадцать девять — почему я не могу точно вспомнить год нашей свадьбы? — а она была на два года и восемь месяцев моложе. Продукты были последним, о чем мы думали.
Мы оба были слишком голодны, чтобы снова заснуть, но просто лежать было больно. С другой стороны, мы были слишком голодны, чтобы делать что-то полезное. Мы встали с постели и направились на кухню, оказавшись за столом друг напротив друга. Что могло вызвать такие сильные приступы голода?
Мы по очереди открывали дверцу холодильника и надеялись, но сколько бы раз мы ни заглядывали внутрь, содержимое никогда не менялось. Пиво, лук, масло, заправка и дезодорант. Можно было бы обжарить лук в масле, но не было никаких шансов, что эти две сморщенные луковицы смогут заполнить наши пустые желудки. Лук предназначен для того, чтобы его ели с другими вещами. Это не та еда, которую вы употребляете для утоления аппетита.
Лук предназначен для того, чтобы его ели с другими вещами. Это не та еда, которую вы употребляете для утоления аппетита.
«Не желаете ли мадам обжарить в дезодоранте французскую заправку?»
Я ожидал, что она проигнорирует мою попытку пошутить, и она это сделала. «Давай сядем в машину и поищем круглосуточный ресторан», — сказал я. «Должен быть один на шоссе».
Она отвергла это предложение. «Мы не можем. Ты не должен ходить куда-нибудь поесть после полуночи». В этом она была старомодна.
Я вздохнул один раз и сказал: «Похоже, нет».
Всякий раз, когда моя жена высказывала такое мнение (или тезис) тогда, это звучало в моих ушах авторитетом откровения. Может быть, это то, что происходит с молодоженами, я не знаю. Но когда она сказала мне это, я начал думать, что это был какой-то особый голод, не такой, который можно было бы утолить простым приемом похода в круглосуточный ресторан на шоссе.
Особый вид голода. И что это может быть?
Могу представить здесь в виде киноизображения.
Во-первых, я в маленькой лодке, плывущей по тихому морю. Два , Смотрю вниз и вижу в воде пик вулкана, торчащий со дна океана. Три , вершина кажется довольно близкой к поверхности воды, но насколько близко я не могу сказать. Четыре , это потому, что гиперпрозрачность воды мешает восприятию расстояния.
Это довольно точное описание образа, который возник в моем сознании в течение двух-трех секунд между тем моментом, когда моя жена сказала, что отказывается идти в круглосуточный ресторан, и тем, как я согласился со своим «пожалуй, нет». Не будучи Зигмундом Фрейдом, я, конечно, не мог сколько-нибудь точно проанализировать, что означает этот образ, но интуитивно понял, что это откровение. Вот почему, несмотря на почти гротескную интенсивность моего голода, я почти автоматически согласился с ее тезисом (или заявлением).
Мы сделали единственное, что могли: открыли пиво. Это было намного лучше, чем есть тот лук. Пиво она не очень любила, поэтому мы разделили банки, две ей, четыре мне. Пока я пил первую, она обшарила кухонные полки, как белка в ноябре. В конце концов, она нашла пакет, на дне которого было четыре масляных печенья. Они были остатками, мягкими и сырыми, но мы съели по две, смакуя каждую крошку.
Пока я пил первую, она обшарила кухонные полки, как белка в ноябре. В конце концов, она нашла пакет, на дне которого было четыре масляных печенья. Они были остатками, мягкими и сырыми, но мы съели по две, смакуя каждую крошку.
Бесполезно. На этом нашем голоде, огромном и бескрайнем, как Синайский полуостров, сдобное печенье и пиво не оставили и следа.
Время сочилось сквозь тьму, как свинцовая гиря из рыбьих внутренностей. Я прочитал печать на алюминиевых пивных банках. Я посмотрел на часы. Я посмотрел на дверцу холодильника. Я перевернул страницы вчерашней газеты. Краем открытки я соскреб крошки печенья со стола.
«Я никогда в жизни не была так голодна», — сказала она. «Интересно, имеет ли это какое-то отношение к браку?»
«Возможно», сказал я. «А может и нет.»
Пока она охотилась за новыми кусочками еды, я перегнулся через борт лодки и посмотрел на вершину подводного вулкана. Прозрачность океанской воды вокруг лодки вызывала у меня чувство беспокойства, как будто где-то за моим солнечным сплетением открылась впадина — герметически закрытая пещера, не имеющая ни входа, ни выхода. Что-то в этом странном чувстве отсутствия — в этом чувстве экзистенциальной реальности небытия — напоминало парализующий страх, который вы можете испытать, взобравшись на самый верх шпиля. Эта связь между голодом и акрофобией стала для меня новым открытием.
Что-то в этом странном чувстве отсутствия — в этом чувстве экзистенциальной реальности небытия — напоминало парализующий страх, который вы можете испытать, взобравшись на самый верх шпиля. Эта связь между голодом и акрофобией стала для меня новым открытием.
Тут-то мне и пришло в голову, что однажды у меня уже был подобный опыт. Мой желудок тогда был таким же пустым… Когда?… О, конечно, это было…
«Время нападения на пекарню», — услышал я свой собственный голос.
«Нападение на пекарню? О чем вы говорите?»
И началось.
«Однажды я пристроил пекарню. Давным-давно. Небольшая пекарня. Неизвестная. Хлеб был ничего особенного. Тоже неплох. Управлял им старик, который все делал сам. Пекла утром, а когда распродала, закрывала на день».
«Если вы собирались напасть на пекарню, то почему именно эту?»
«Ну, не было смысла нападать на большую пекарню. Мы хотели только хлеба, а не денег. Мы были нападающими, а не грабителями. »
»
«Мы? Кто мы?»
«Тогда мой лучший друг. Десять лет назад. Мы были так разорены, что не могли купить зубную пасту. Еды никогда не хватало.
«Я не понимаю.» Она пристально посмотрела на меня. Ее глаза могли искать угасшую звезду на утреннем небе. «Почему ты не устроился на работу? Ты мог бы работать после школы. Это было бы проще, чем нападать на пекарни».
«Мы не хотели работать. Мы были абсолютно уверены в этом.»
«Ну, теперь ты работаешь, не так ли?»
Я кивнул и сделал еще глоток пива. Потом я протер глаза. Какая-то пивная грязь просочилась в мой мозг и боролась с голодными муками.
«Времена меняются. Люди меняются», — сказал я. — Давай вернемся спать. Нам нужно рано вставать.
«Мне не хочется спать. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о нападении на пекарню.»
«Нечего рассказывать. Никаких действий. Никаких волнений.»
«Успех?»
Я отказался от сна и открыл еще одно пиво. Как только она заинтересовалась историей, она должна выслушать ее полностью.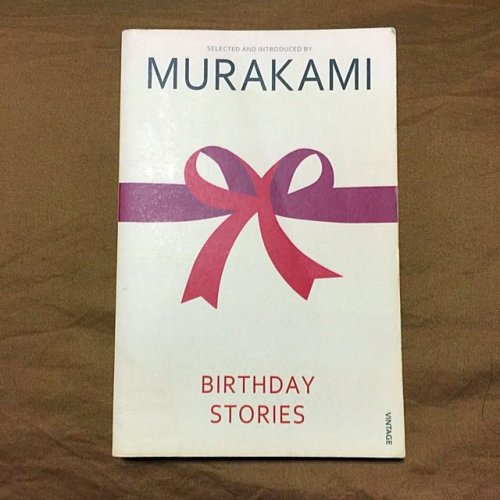 Просто она такая.
Просто она такая.
«Ну, вроде как удалось. А вроде и нет. Мы получили то, что хотели. Но в качестве ограбления это не сработало. Булочник дал нам хлеб прежде, чем мы успели его забрать.»
«Свободен?»
«Не совсем, нет. Это самая сложная часть.» Я покачал головой. Пекарь был фанатом классической музыки, и когда мы пришли, он слушал альбом увертюр Вагнера. Поэтому он заключил с нами сделку. хлеб, сколько мы хотели. Я обсудил это с моим приятелем, и мы подумали, хорошо. Это не будет работой в прямом смысле этого слова, и это никому не повредит. Итак, мы положили наши ножи обратно в сумку, пододвинул пару стульев и выслушал увертюры до Tannhäuser и Летучий Голландец .»
«И после этого ты получил свой хлеб?»
«Правильно. Почти все, что у него было в магазине. Засунул в нашу сумку и отнес домой. Кормил нас дня четыре-пять.» Я сделал еще глоток. Подобно беззвучным волнам подводного землетрясения, моя сонливость заставила мою лодку долго и медленно покачиваться.
«Конечно, мы выполнили свою миссию. Мы получили хлеб. Но нельзя сказать, что мы совершили преступление. Это был скорее обмен. Мы слушали с ним Вагнера, а взамен получили свой хлеб. С юридической точки зрения это было больше похоже на коммерческую сделку».
— Но слушать Вагнера — не работа, — сказала она.
«О нет, ни в коем случае. Если бы пекарь настоял на том, чтобы мы помыли ему посуду, или вымыли окна, или еще что-нибудь, мы бы ему отказали. Но он этого не сделал. LP от начала до конца. Никто не мог этого предвидеть. Я имею в виду Вагнера? Это было похоже на то, как пекарь наложил на нас проклятие. Теперь, когда я думаю об этом, мы должны были отказаться. Мы должны были угрожать ему нашими ножами и взял чертов хлеб. Тогда бы не было никаких проблем».
«У вас была проблема?»
Я снова протер глаза.
«Вроде. Ничего, на что можно было бы указать. Но после этого все начало меняться. Это был своего рода поворотный момент. Например, я вернулся в университет, закончил его, начал работать в фирме и готовился к экзамену на адвоката, встретил тебя и женился. Больше я никогда ничего подобного не делал. Больше никаких нападений на пекарню».
Больше я никогда ничего подобного не делал. Больше никаких нападений на пекарню».
«Это все?»
«Да, на этом все.» Я допил остатки пива. Теперь все шесть банок исчезли. Шесть язычков лежали в пепельнице, как чешуя русалки.
Конечно, неправда, что в результате нападения на пекарню ничего не произошло. Было много вещей, на которые можно было легко указать, но я не хотел говорить об этом с ней.
«Итак, этот твой друг, чем он сейчас занимается?»
«Понятия не имею. Что-то случилось, что-то вроде ерунды, и мы перестали околачиваться вместе. С тех пор я его не видел. Не знаю, что он делает.»
Какое-то время она молчала. Вероятно, она почувствовала, что я не рассказал ей всю историю. Но она не была готова давить на меня.
— И все-таки, — сказала она, — поэтому вы и расстались, не так ли? Непосредственной причиной было нападение на пекарню.
«Возможно, так. Я думаю, это было более интенсивно, чем любой из нас думал. Мы говорили об отношении хлеба к Вагнеру в течение нескольких дней после этого.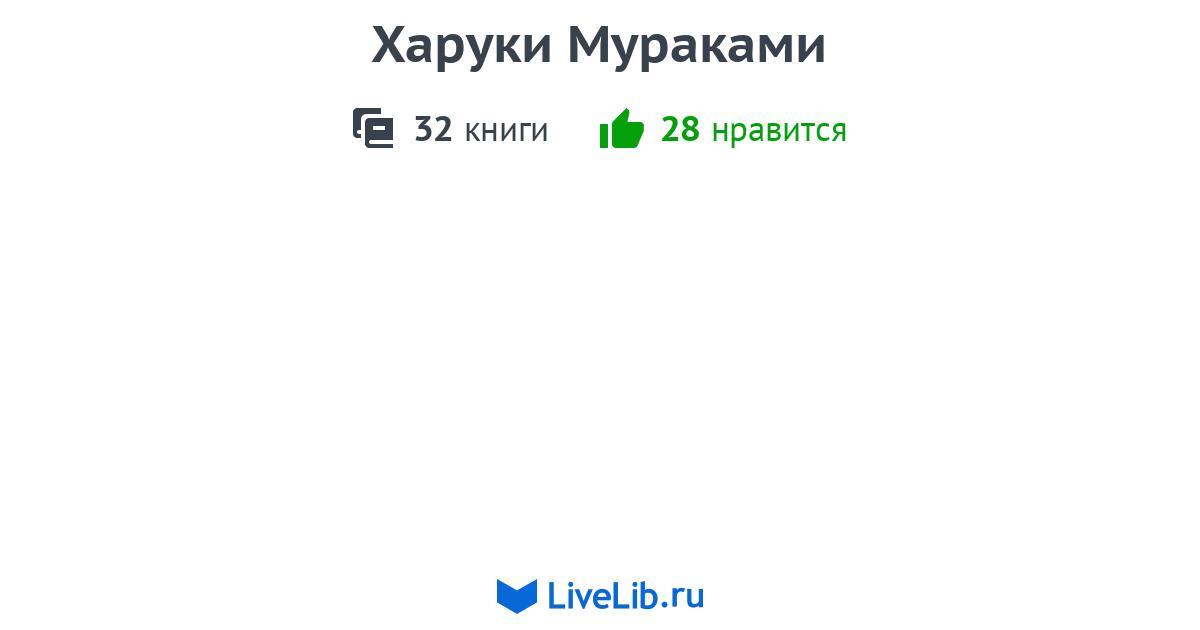 Мы продолжали спрашивать себя, правильный ли мы сделали выбор. Мы не могли решить. Из Конечно, если трезво посмотреть, мы сделали правильный выбор. Никто не пострадал. Каждый получил то, что хотел. он преуспел в своей вагнеровской пропаганде, а нам удалось набить морду хлебом.0005
Мы продолжали спрашивать себя, правильный ли мы сделали выбор. Мы не могли решить. Из Конечно, если трезво посмотреть, мы сделали правильный выбор. Никто не пострадал. Каждый получил то, что хотел. он преуспел в своей вагнеровской пропаганде, а нам удалось набить морду хлебом.0005
«Но даже при этом у нас было ощущение, что мы совершили ужасную ошибку. И почему-то эта ошибка так и осталась там, неразрешенной, бросая темную тень на нашу жизнь. Вот почему я употребил слово «проклятие». Это правда. Это было похоже на проклятие».
«Думаешь, он у тебя еще есть?»
Я взял шесть язычков из пепельницы и сложил их в алюминиевое кольцо размером с браслет.
«Кто знает? Я не знаю. Могу поспорить, что мир полон проклятий. Трудно сказать, какое проклятие заставляет что-то идти не так.»
«Это неправда.» Она посмотрела прямо на меня. — Ты можешь сказать, если подумаешь об этом. И если ты сам лично не снимешь проклятие, оно останется с тобой, как зубная боль.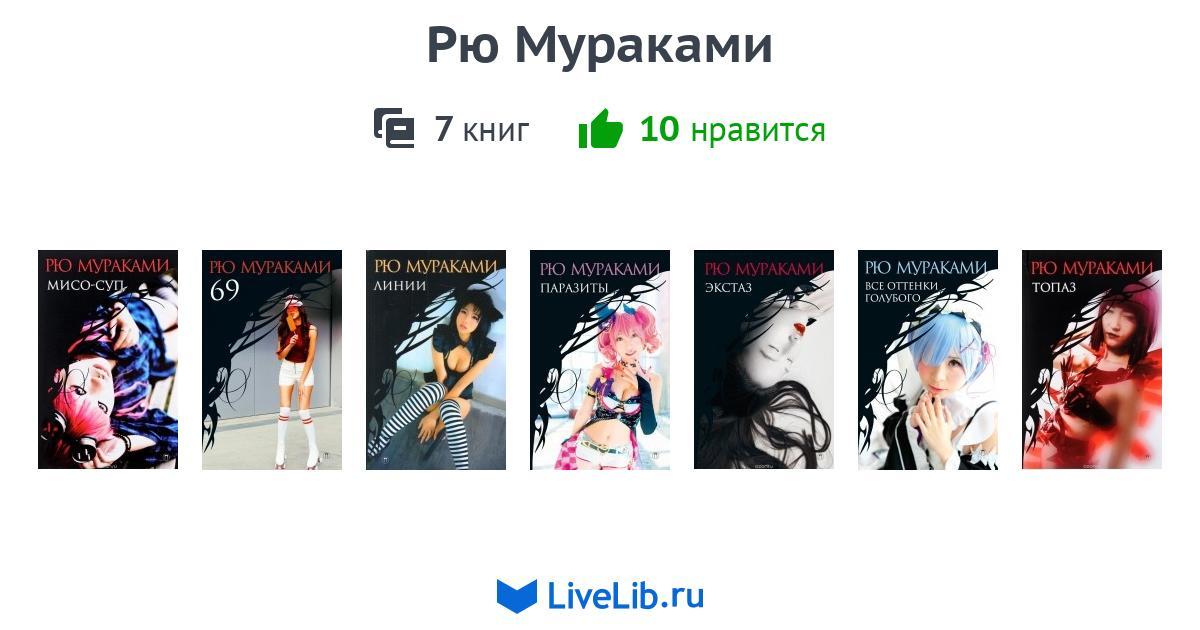 Оно будет мучить тебя, пока ты не умрешь. И не только тебя. Меня тоже. »
Оно будет мучить тебя, пока ты не умрешь. И не только тебя. Меня тоже. »
«Ты?»
«Ну, теперь я твой лучший друг, не так ли? Почему, по-твоему, мы оба так голодны? Я никогда, никогда, ни разу в жизни не чувствовала такого голода, пока не вышла за тебя замуж. Не надо. ты считаешь это ненормальным? Твоё проклятие действует и на меня».
Я кивнул. Затем я разорвал кольцо язычков и положил их обратно в пепельницу. Я не знал, права ли она, но я чувствовал, что она что-то поняла.
Чувство голода вернулось, сильнее, чем когда-либо, и от него сильно болела голова. Каждый приступ моего живота передавался в сердцевину моей головы по тросу сцепления, как будто мои внутренности были оснащены всевозможными сложными механизмами.
Я еще раз взглянул на свой подводный вулкан. Вода стала еще чище, чем прежде, — гораздо чище. Если не присматриваться, можно даже не заметить, что он там есть. Казалось, что лодка парит в воздухе, и ей абсолютно не на что опереться. Я мог видеть каждый маленький камешек на дне. Все, что мне нужно было сделать, это протянуть руку и коснуться их.
Я мог видеть каждый маленький камешек на дне. Все, что мне нужно было сделать, это протянуть руку и коснуться их.
«Мы живем вместе всего две недели, — сказала она, — но все это время я ощущала какое-то странное присутствие». Она посмотрела мне прямо в глаза и сложила руки на столе, переплетя пальцы. «Конечно, я до сих пор не знал, что это проклятие. Это все объясняет. Ты под проклятием».
«Какое присутствие?»
«Как будто с потолка свисает тяжелая пыльная занавеска, которую не стирали годами.»
«Может быть, это не проклятие. Может быть, это просто я», — сказал я и улыбнулся.
Она не улыбнулась.
— Нет, это не ты, — сказала она.
«Хорошо, допустим, ты прав. Предположим, это проклятие. Что я могу с этим поделать?»
«Атаковать другую пекарню. Немедленно. Сейчас. Это единственный способ.»
«Сейчас?»
«Да. Сейчас. Пока ты еще голоден. Ты должен закончить то, что не доделал.»
«Но уже полночь. Пекарня сейчас открыта?»
«Найдем.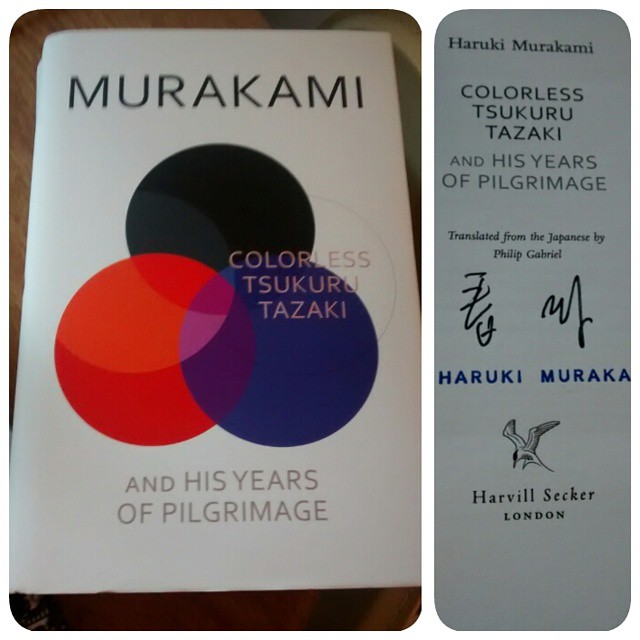 Токио большой город. Должна быть хотя бы одна круглосуточная пекарня.»
Токио большой город. Должна быть хотя бы одна круглосуточная пекарня.»
Мы сели в мою старую Corolla и в 2:30 ночи начали мотаться по улицам Токио в поисках пекарни. Мы были там, я сжимал руль, она в кресле штурмана, мы вдвоем осматривали улицу, как голодные орлы в поисках добычи. На заднем сиденье растянулся длинный и жесткий, как дохлая рыба, автоматический дробовик «Ремингтон». Его раковины сухо шуршали в кармане ветровки моей жены. У нас было две черные лыжные маски в бардачке. Почему у моей жены был дробовик, я понятия не имел. Или лыжные маски. Никто из нас никогда не катался на лыжах. Но она не объяснила, и я не спросил. Семейная жизнь странная, я чувствовал.
Безупречно оборудованная, мы все же не смогли найти круглосуточную пекарню. Я ехал по пустынным улицам от Йойоги до Синдзюку, потом до Йоцуи и Акасаки, Аоямы, Хироо, Роппонги, Дайканьямы и Сибуи. В ночном Токио было много людей и магазинов, но не было пекарен.
Дважды нам попадались патрульные машины.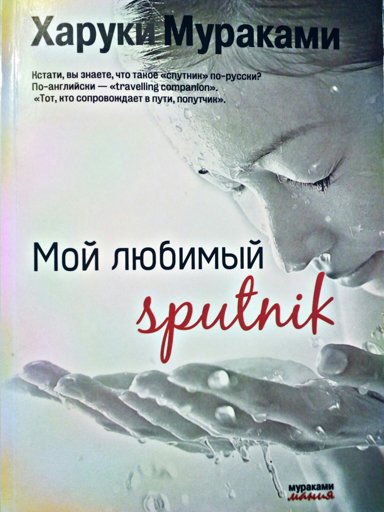 Один скорчился на обочине дороги, пытаясь выглядеть незаметным. Другой медленно догнал нас и прокрался мимо, наконец удаляясь вдаль. Оба раза я промок под мышками, но моя жена никогда не теряла сосредоточенности. Она искала эту пекарню. Каждый раз, когда она меняла положение тела, патроны для дробовика в ее кармане шуршали, как гречневая шелуха в старомодной подушке.
Один скорчился на обочине дороги, пытаясь выглядеть незаметным. Другой медленно догнал нас и прокрался мимо, наконец удаляясь вдаль. Оба раза я промок под мышками, но моя жена никогда не теряла сосредоточенности. Она искала эту пекарню. Каждый раз, когда она меняла положение тела, патроны для дробовика в ее кармане шуршали, как гречневая шелуха в старомодной подушке.
— Давай забудем, — сказал я. «В это время ночи пекарни не работают. Вы должны планировать такие вещи, иначе…»
«Остановите машину!»
Я ударил по тормозам.
«Вот это место», сказала она.
У магазинов на улице были опущены ставни, образуя темные безмолвные стены по обеим сторонам. Вывеска парикмахерской висела в темноте, как искривленный леденящий стеклянный глаз. Ярдах в двухстах впереди виднелась яркая вывеска «Макдоналдс», но больше ничего.
«Я не вижу никакой пекарни», сказал я.
Не говоря ни слова, она открыла бардачок и вытащила моток ленты на тканевой основе.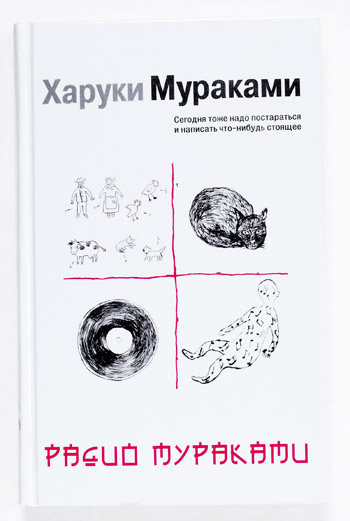 Держа это, она вышла из машины. Я вышел со своей стороны. Встав на колени перед передним концом, она оторвала кусок скотча и закрыла номера на номерном знаке. Затем она подошла к задней части и сделала то же самое. В ее движениях была отработанная эффективность. Я стоял на обочине и смотрел на нее.
Держа это, она вышла из машины. Я вышел со своей стороны. Встав на колени перед передним концом, она оторвала кусок скотча и закрыла номера на номерном знаке. Затем она подошла к задней части и сделала то же самое. В ее движениях была отработанная эффективность. Я стоял на обочине и смотрел на нее.
— Мы возьмем этот «Макдональдс», — сказала она так хладнокровно, как будто объявляла, что мы будем есть на ужин.
— «Макдоналдс» — это не пекарня, — указал я ей.
«Это как пекарня», сказала она. «Иногда приходится идти на компромисс. Поехали».
Я подъехал к Макдональдсу и припарковался на стоянке. Она протянула мне завернутый в одеяло дробовик.
— Я никогда в жизни не стрелял из ружья, — запротестовал я.
«Вы можете не стрелять. Просто держите его. Хорошо? Делайте, как я говорю. Мы сразу заходим, и как только они говорят «Добро пожаловать в Макдональдс», мы надеваем маски. Понятно?»
«Конечно, но…»
«Тогда тыкаешь пистолетом им в лицо и собираешь всех рабочих и клиентов. Быстро. Я сделаю все остальное.»
Быстро. Я сделаю все остальное.»
«Но—»
«Как ты думаешь, сколько гамбургеров нам понадобится? Тридцать?»
«Думаю да.» Вздохнув, я взял дробовик и немного откинул одеяло. Существо было тяжелым, как мешок с песком, и черным, как темная ночь.
«Мы действительно должны это делать?» — спросил я наполовину у нее, наполовину у себя.
«Конечно, есть.»
Девушка за прилавком в кепке Макдональдса одарила меня улыбкой Макдональдса и сказала: «Добро пожаловать в Макдональдс». Я не думал, что девушки будут работать в Макдональдсе поздно ночью, поэтому ее вид на секунду смутил меня. Но только на секунду. Я поймала себя и натянула маску. Столкнувшись с этим внезапно замаскированным дуэтом, девушка уставилась на нас.
Очевидно, что в руководстве по гостеприимству McDonald’s ничего не сказано о том, как действовать в подобной ситуации. Она начала произносить фразу, которая идет после «Добро пожаловать в Макдональдс», но ее рот, казалось, напрягся, и слова не выходили. Тем не менее, как полумесяц на рассвете, намек на профессиональную улыбку задержался на уголках ее губ.
Тем не менее, как полумесяц на рассвете, намек на профессиональную улыбку задержался на уголках ее губ.
Так быстро, как я только мог, я развернул ружье и направил его в сторону столов, но единственными посетителями была молодая пара — возможно, студенты, — и они лежали лицом вниз на пластиковом столе и крепко спали. Их две головы и две чашки с клубничным молочным коктейлем стояли на столе, как авангардная скульптура. Они спали сном мертвых. Они не выглядели способными помешать нашей операции, поэтому я направил дробовик обратно на прилавок.
Всего было трое работников McDonald’s. Девушка за прилавком, менеджер — парень с бледным яйцевидным лицом, вероятно, лет под тридцать — и тип студента на кухне — тонкая тень парня без ничего на лице, что вы может читаться как выражение. Они вместе стояли за кассой, глядя в дуло моего дробовика, как туристы, заглядывающие в колодец инков. Никто не кричал, никто не делал угрожающих движений. Пистолет был настолько тяжелым, что мне пришлось положить ствол на кассу, а палец на спусковом крючке.
«Я дам вам деньги», сказал менеджер хриплым голосом. «Они собрали его в одиннадцать, поэтому у нас не так много, но вы можете получить все. Мы застрахованы».
«Опустите передний ставень и выключите вывеску», сказала жена.
«Подождите», сказал менеджер. «Я не могу этого сделать. Я буду нести ответственность, если закроюсь без разрешения».
Моя жена медленно повторила свой приказ. Он казался разорванным.
— Лучше делай, что она говорит, — предупредил я его.
Он посмотрел на дуло ружья стоп-регистра, потом на жену, а потом снова на ружье. Наконец он смирился с неизбежным. Он выключил вывеску и нажал кнопку на электрощите, которая опустила жалюзи. Я не спускал с него глаз, опасаясь, что он может включить охранную сигнализацию, но, видимо, в Макдональдсе нет охранной сигнализации. Возможно, никому и в голову не приходило нападать на одного из них.
Передние ставни издавали громадный грохот, когда закрывались, как пустое ведро, разбиваемое бейсбольной битой, но пара, спящая за столом, все еще была без сознания.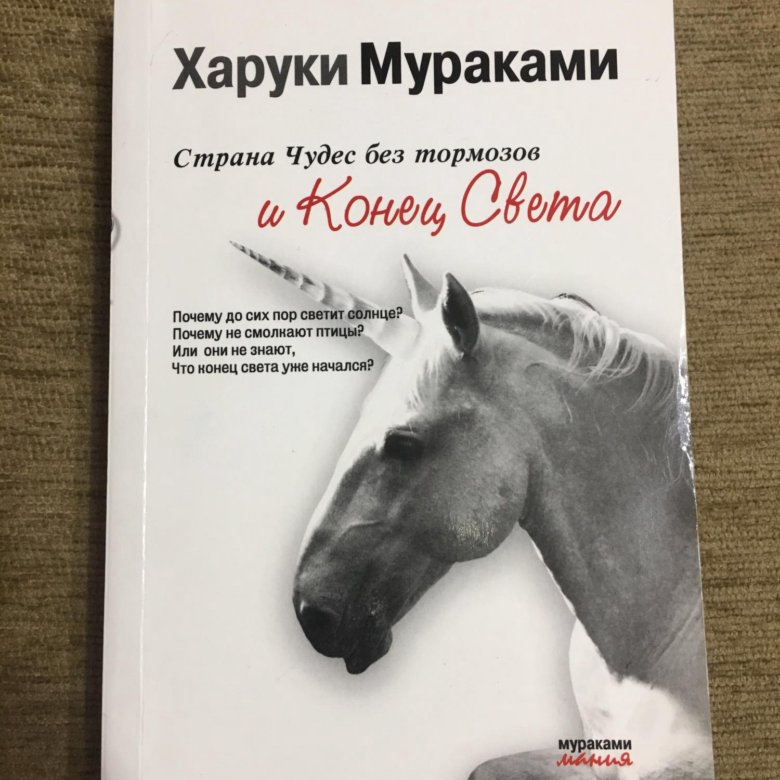 К слову о крепком сне: я не видел ничего подобного уже много лет.
К слову о крепком сне: я не видел ничего подобного уже много лет.
«Тридцать биг-маков. На вынос», — сказала моя жена.
«Позвольте мне просто дать вам деньги,» умолял менеджер. «Я дам тебе больше, чем тебе нужно. Ты можешь пойти купить еды в другом месте. Это испортит мои счета и…»
— Лучше делай, что она говорит, — снова сказал я.
Они втроем пошли на кухню и начали готовить тридцать биг-маков. Студент поджарил котлеты на гриле, менеджер положил их в булочки, а девушка их завернула. Никто не сказал ни слова.
Я прислонился к большому холодильнику, целясь в сковородку. Мясные котлеты выстроились на сковороде, как коричневый горошек, шипя. Запах пота жареного мяса проникал в каждую пору моего тела, словно рой микроскопических жуков, растворяясь в моей крови и циркулируя в самых дальних уголках, а затем собираясь в моей герметически закрытой голодной пещере, цепляясь за ее розовые стены.
Рядом росла груда гамбургеров в белой упаковке. Я хотел схватить и разорвать их, но не был уверен, что такой поступок будет соответствовать нашей цели. Я должен был ждать. В жаркой кухне я начал потеть под своей лыжной маской.
Я хотел схватить и разорвать их, но не был уверен, что такой поступок будет соответствовать нашей цели. Я должен был ждать. В жаркой кухне я начал потеть под своей лыжной маской.
Люди из Макдональдса украдкой посматривают на дуло дробовика. Я почесал уши мизинцем левой руки. У меня всегда чешутся уши, когда я нервничаю. Тыкая пальцем в ухо через шерсть, я заставляла ствол качаться вверх-вниз, что, казалось, беспокоило их. Он не мог сработать случайно, потому что я был на предохранителе, но они этого не знали, и я не собирался им говорить.
Моя жена пересчитала готовые гамбургеры и сложила их в две сумки для покупок, по пятнадцать гамбургеров в сумке.
«Зачем тебе это?» — спросила меня девушка. «Почему бы тебе просто не взять деньги и не купить что-нибудь, что тебе нравится? Что хорошего в том, чтобы съесть тридцать Биг-Маков?»
Я покачал головой.
Моя жена объяснила: «Нам очень жаль, правда. Но не было открытых пекарен. Если бы они были, мы бы напали на булочную».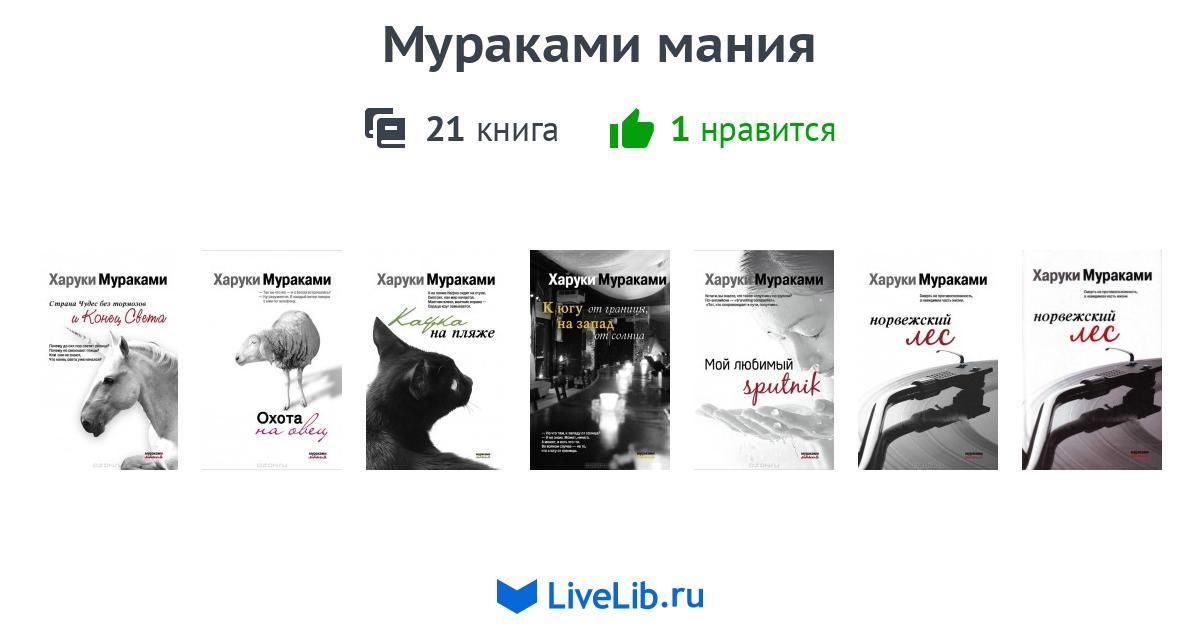
Кажется, это их удовлетворило. По крайней мере, больше вопросов не задавали. Потом моя жена заказала у девушки две большие кока-колы и заплатила за них.
«Мы воруем хлеб, больше ничего», — сказала она. Девушка ответила сложным движением головы, то ли кивком, то ли встряхиванием. Вероятно, она пыталась сделать и то, и другое одновременно. Я думал, что имею некоторое представление о том, что она чувствовала.
Затем моя жена вытащила из кармана клубок бечевки — она пришла со всем необходимым — и привязала их к столбу так искусно, как будто пришивала пуговицы. Она спросила, не болит ли пуповина, не хочет ли кто-нибудь в туалет, но никто не сказал ни слова. Я завернул пистолет в одеяло, она подобрала пакеты с покупками, и мы вышли. Посетители за столиком еще спали, как парочка глубоководных рыб. Что понадобилось, чтобы пробудить их от столь глубокого сна?
Мы ехали полчаса, нашли пустую стоянку у здания и заехали. Там мы съели гамбургеры и выпили колу. Я отправил шесть биг-маков в пещеру своего желудка, и она съела четыре. Оставалось двадцать биг-маков на заднем сиденье. Наш голод — тот голод, который, казалось, может длиться вечно, — исчез с рассветом. Первые лучи солнца окрасили грязные стены здания в фиолетовый цвет и заставили гигантскую рекламную башню SONY BETA сиять с болезненной яркостью. Вскоре к визгу шин шоссейных грузовиков присоединилось щебетание птиц. Радио американских вооруженных сил играло ковбойскую музыку. Мы разделили сигарету. После этого она положила голову мне на плечо.
Оставалось двадцать биг-маков на заднем сиденье. Наш голод — тот голод, который, казалось, может длиться вечно, — исчез с рассветом. Первые лучи солнца окрасили грязные стены здания в фиолетовый цвет и заставили гигантскую рекламную башню SONY BETA сиять с болезненной яркостью. Вскоре к визгу шин шоссейных грузовиков присоединилось щебетание птиц. Радио американских вооруженных сил играло ковбойскую музыку. Мы разделили сигарету. После этого она положила голову мне на плечо.
«И все же, а нам это было действительно необходимо?» Я попросил.
«Конечно было!» С одним глубоким вздохом она уснула рядом со мной. Она была мягкой и легкой, как котенок.
Оставшись один, я перегнулся через край своей лодки и посмотрел на морское дно. Вулкан исчез. В спокойной глади воды отражалась синева неба. Маленькие волны, словно шелковая пижама, развевающаяся на ветру, плескались о борт лодки. Ничего другого не было.
Я растянулся на дне лодки и закрыл глаза, ожидая, когда прилив унесет меня туда, где мне и место.
Харуки Мураками Последние статьи | The New Yorker
Витрина
Случайная коллекция
Как я накопил больше футболок, чем могу хранить.
Фантастика
Неудавшееся королевство
«Чем искреннее он пытался объяснить вещи, тем больше туман неискренности нависал над всем».
Художественная литература
Исповедь о Шинагаве Обезьяне
Художественная литература
с Битлз
«Использовал ее, как дымовая? Или в тот осенний день я увидел не реального человека, а какое-то видение?»
Личная история
Отказ от кошки
Воспоминания о моем отце.
Fiction
Cream
Fiction
The Wind Cave
Fiction
Kino
Fiction
Scheherazade
Художественная литература
вчера
Художественная литература
Samsa в любви
«Samsa Is не имел идеи, где он был, или он был, или он был. Все, что он знал, это то, что теперь он человек по имени Грегор Замза. И как он это узнал?
Page-Turner
Boston, from One Citizen of the World Who Calls Himself a Runner
Fiction
Town of Cats
Художественная литература
НЛО в Кусиро
Жизнь и письма
Бегущий писатель
Учимся преодолевать дистанцию.
Художественная литература
Обезьяна Синагава
«Жизнь без имени, по ее мнению, была похожа на сон, от которого ты никогда не проснешься».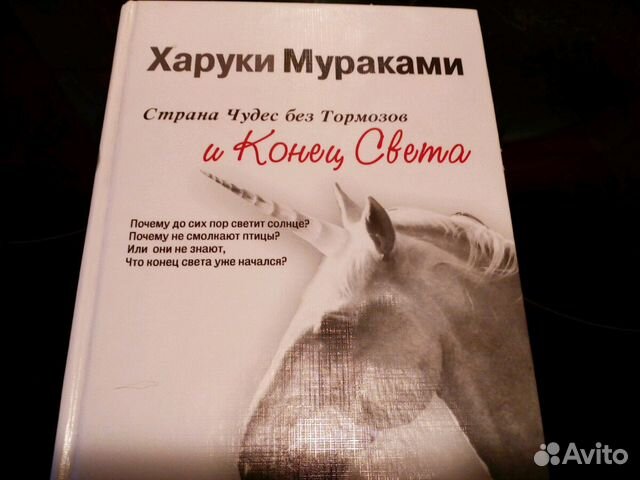
Художественная литература
Год спагетти
Художественная литература
Стоун с почечной формой
033030303 Сентябрьский.
Где я могу его найти
Художественная литература
Охотничий нож
Другие истории
Витрина
Коллекция футболок Accidental, которые я могу хранить больше, чем я имею
900
Фантастика
Неудавшееся королевство
«Чем искреннее он пытался объяснить вещи, тем больше туман неискренности нависал над всем».
Художественная литература
Признания обезьяны из Синагавы
Художественная литература
С «Битлз»
«Она исчезла, как дым? Или в тот осенний день я увидел не реального человека, а какое-то видение?»
Личная история
Отказ от кошки
Воспоминания о моем отце.
Фантастика
Cream
Fiction
The Wind Cave
Fiction
Kino
Fiction
Scheherazade
Художественная литература
Вчера
Художественная литература
Влюбленный Самса
«Самса понятия не имел, где ему быть, или что ему делать, он понятия не имел, где он был. Все, что он знал, это то, что теперь он человек по имени Грегор Замза. И как он это узнал?
Все, что он знал, это то, что теперь он человек по имени Грегор Замза. И как он это узнал?
Page-Turner
Boston, from One Citizen of the World Who Calls Himself a Runner
Fiction
Town of Cats
Художественная литература
НЛО в Кусиро
Жизнь и письма
Бегущий писатель
Учимся преодолевать дистанцию.
Художественная литература
Обезьяна Синагава
«Жизнь без имени, по ее мнению, была похожа на сон, от которого ты никогда не проснешься».
Художественная литература
Год спагетти
Художественная литература
Стоун с почечной формой
033030303 Сентябрьский.
Где я могу его найти
Художественная литература
Охотничий нож
Другие истории
«Сливки», Харуки Мураками | The New Yorker
Итак, я рассказываю своему младшему другу о странном происшествии, которое произошло, когда мне было восемнадцать. Точно не помню, зачем я это затеял. Это просто случилось, когда мы разговаривали. Я имею в виду, это было то, что произошло давно. Древняя история. Вдобавок ко всему, я так и не смог прийти к какому-либо заключению по этому поводу.
— Тогда я уже закончил школу, но еще не учился в колледже, — объяснил я. «Я был тем, кого называют академическим ронином , студентом, который провалил вступительный экзамен в университет и ждет новой попытки.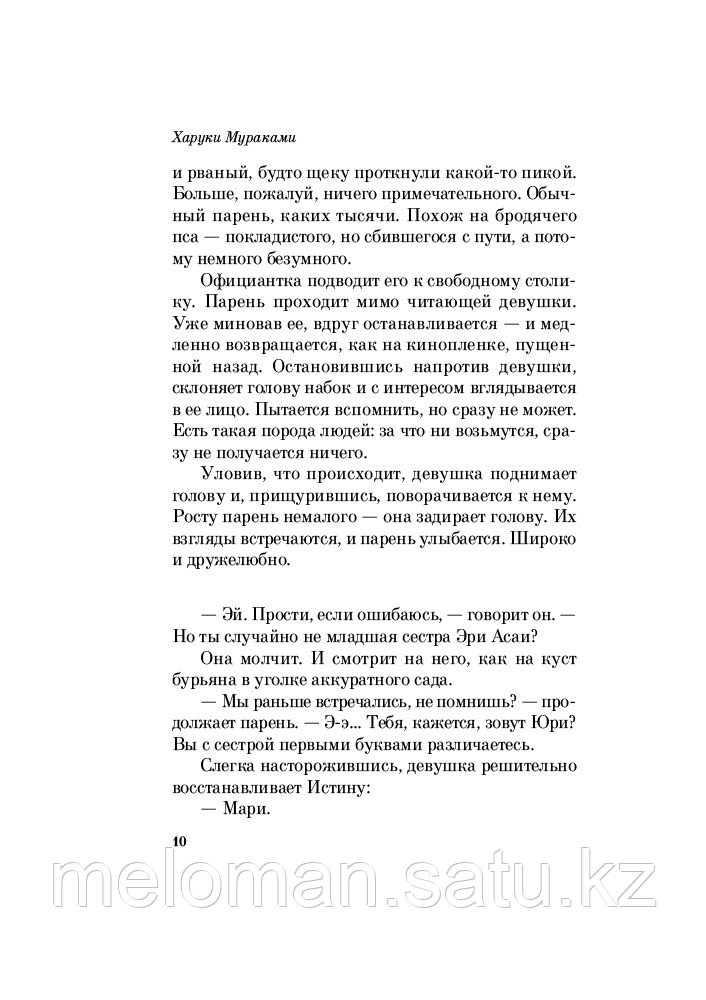 Все как-то повисло в воздухе, — продолжал я, — но это меня не сильно беспокоило. Я знал, что могу поступить в приличный частный колледж, если захочу. Но мои родители настояли на том, чтобы я поступила в национальный университет, поэтому я сдала экзамен, заранее зная, что это будет провал. И, конечно же, я потерпел неудачу. В то время в экзамене национального университета был обязательный раздел по математике, и я совершенно не интересовался математическими вычислениями. Весь следующий год я провел, убивая время, словно создавая алиби. Вместо того, чтобы посещать подготовительную школу, чтобы подготовиться к повторной сдаче экзамена, я зависал в местной библиотеке, продираясь через толстые романы. Мои родители, должно быть, решили, что я учусь там. Но, эй, это жизнь. Мне было гораздо приятнее читать всего Бальзака, чем вникать в принципы исчисления».
Все как-то повисло в воздухе, — продолжал я, — но это меня не сильно беспокоило. Я знал, что могу поступить в приличный частный колледж, если захочу. Но мои родители настояли на том, чтобы я поступила в национальный университет, поэтому я сдала экзамен, заранее зная, что это будет провал. И, конечно же, я потерпел неудачу. В то время в экзамене национального университета был обязательный раздел по математике, и я совершенно не интересовался математическими вычислениями. Весь следующий год я провел, убивая время, словно создавая алиби. Вместо того, чтобы посещать подготовительную школу, чтобы подготовиться к повторной сдаче экзамена, я зависал в местной библиотеке, продираясь через толстые романы. Мои родители, должно быть, решили, что я учусь там. Но, эй, это жизнь. Мне было гораздо приятнее читать всего Бальзака, чем вникать в принципы исчисления».
В начале октября того же года я получил приглашение на фортепианный концерт от девушки, которая училась в школе на год позже меня и брала уроки игры на фортепиано у того же учителя, что и я.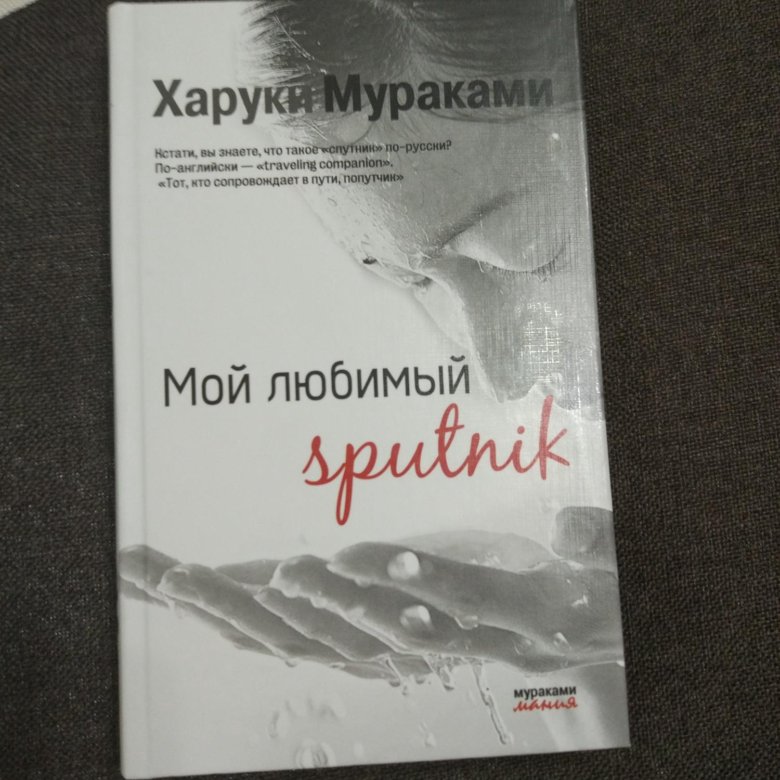 Однажды мы вдвоем сыграли короткую пьесу Моцарта для фортепиано в четыре руки. Но когда мне исполнилось шестнадцать, я перестал ходить на уроки и с тех пор ее не видел. Поэтому я не мог понять, почему она прислала мне это приглашение. Была ли она заинтересована во мне? Ни за что. Она, безусловно, была привлекательна, хотя и не в моем вкусе с точки зрения внешности; она всегда была модно одета и посещала дорогую частную школу для девочек. Совсем не из тех, кто влюбляется в такого заурядного парня, как я.
Однажды мы вдвоем сыграли короткую пьесу Моцарта для фортепиано в четыре руки. Но когда мне исполнилось шестнадцать, я перестал ходить на уроки и с тех пор ее не видел. Поэтому я не мог понять, почему она прислала мне это приглашение. Была ли она заинтересована во мне? Ни за что. Она, безусловно, была привлекательна, хотя и не в моем вкусе с точки зрения внешности; она всегда была модно одета и посещала дорогую частную школу для девочек. Совсем не из тех, кто влюбляется в такого заурядного парня, как я.
Когда мы играли эту пьесу вместе, она кисло смотрела на меня каждый раз, когда я брал не ту ноту. Она была лучшей пианисткой, чем я, а я был склонен чрезмерно напрягаться, поэтому, когда мы вдвоем сидели рядом и играли, я путал много нот. Мой локоть тоже несколько раз ударялся о ее. Это было не такое уж сложное произведение, и, тем более, у меня была часть полегче. Каждый раз, когда я все портил, у нее было такое выражение лица. И она цокала языком — негромко, но достаточно громко, чтобы я могла это уловить. Я до сих пор слышу этот звук, даже сейчас. Этот звук, возможно, даже имел какое-то отношение к моему решению отказаться от фортепиано.
Я до сих пор слышу этот звук, даже сейчас. Этот звук, возможно, даже имел какое-то отношение к моему решению отказаться от фортепиано.
Во всяком случае, мои отношения с ней сводились к тому, что мы учились в одной фортепианной школе. Мы бы обменялись приветствиями, если бы столкнулись там друг с другом, но я не помню, чтобы мы когда-либо делились чем-то личным. Так что неожиданное приглашение на ее концерт (не сольный, а групповой с тремя пианистками) застало меня врасплох — по сути, сбило с толку. Но чего у меня в тот год было в избытке, так это времени, поэтому я отправила ответную открытку, сказав, что приду. Одна из причин, по которой я сделал это, заключалась в том, что мне было любопытно узнать, что скрывается за приглашением, если действительно был мотив. Зачем после стольких лет присылать мне неожиданное приглашение? Может быть, она стала гораздо более искусной пианисткой и хотела показать мне это. Или, возможно, было что-то личное, что она хотела передать мне. Другими словами, я все еще выяснял, как лучше всего использовать свое чувство любопытства, и в процессе бился головой обо все, что угодно.
Концертный зал находился на вершине одной из гор Кобе. Я подъехал к линии поезда Ханкю как можно ближе, затем сел в автобус, который ехал вверх по крутой извилистой дороге. Я вышел на остановке у самого верха и после короткой прогулки прибыл на концертную площадку скромных размеров, которая принадлежала и управлялась огромным бизнес-конгломератом. Я не знал, что здесь, в таком неудобном месте, на вершине горы, в тихом, престижном жилом районе, есть концертный зал. Как вы понимаете, в мире было много вещей, о которых я не знал.
Я подумал, что должен принести что-нибудь в знак признательности за то, что меня пригласили, поэтому в цветочном магазине рядом с вокзалом я выбрал букет цветов, который, казалось, соответствовал случаю, и завернул их в букет. Автобус как раз подошел, и я запрыгнул в него. Был холодный воскресный полдень. Небо было затянуто густыми серыми тучами, и казалось, что в любую минуту может начаться холодный дождь. Хотя ветра не было. На мне был тонкий простой свитер под серой курткой в елочку с оттенком синего, а через плечо висел холщовый мешок.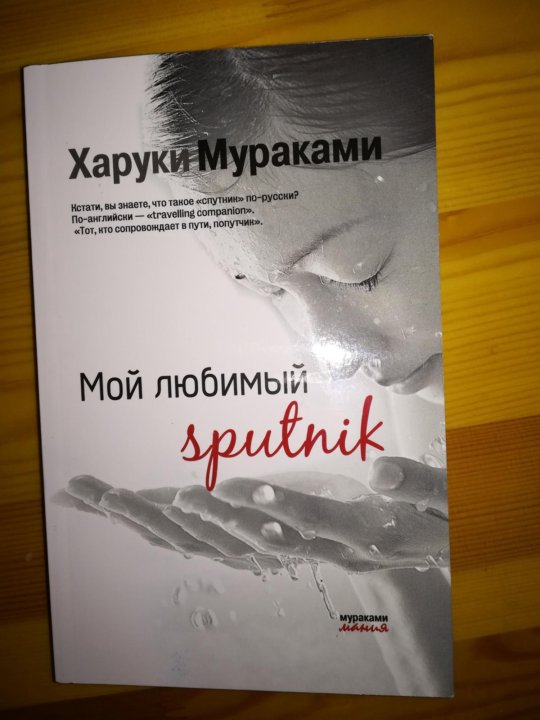 Куртка была слишком новой, сумка слишком старой и изношенной. А в моих руках был этот безвкусный букет красных цветов, завернутый в целлофан. Когда я сел в автобус, украшенный таким образом, другие пассажиры продолжали поглядывать на меня. Или, может быть, им просто казалось, что они это сделали. Я чувствовал, как мои щеки краснеют. Тогда я краснел при малейшей провокации. И краснота ушла навсегда.
Куртка была слишком новой, сумка слишком старой и изношенной. А в моих руках был этот безвкусный букет красных цветов, завернутый в целлофан. Когда я сел в автобус, украшенный таким образом, другие пассажиры продолжали поглядывать на меня. Или, может быть, им просто казалось, что они это сделали. Я чувствовал, как мои щеки краснеют. Тогда я краснел при малейшей провокации. И краснота ушла навсегда.
«Зачем я здесь?» — спрашивал я себя, сидя, сгорбившись, и охлаждая ладонями раскрасневшиеся щеки. Мне не особо хотелось ни видеть эту девушку, ни слушать фортепианный концерт, так зачем же я тратил все свои карманные деньги на букет и ехал на вершину горы унылым воскресным ноябрьским днем? Что-то, должно быть, было не так со мной, когда я бросил ответную открытку в почтовый ящик.
Чем выше мы поднимались в гору, тем меньше пассажиров было в автобусе, и к тому времени, как мы подъехали к моей остановке, остались только я и водитель. Я вышел из автобуса и пошел по приглашению вверх по пологой улице. Каждый раз, когда я поворачивал за угол, гавань ненадолго появлялась в поле зрения, а затем снова исчезала. Пасмурное небо было тусклого цвета, словно покрытое свинцом. В гавани стояли огромные подъемные краны, торчащие в воздух, как усики каких-то неуклюжих существ, выползших из океана.
Каждый раз, когда я поворачивал за угол, гавань ненадолго появлялась в поле зрения, а затем снова исчезала. Пасмурное небо было тусклого цвета, словно покрытое свинцом. В гавани стояли огромные подъемные краны, торчащие в воздух, как усики каких-то неуклюжих существ, выползших из океана.
Дома на вершине склона были большими и роскошными, с массивными каменными стенами, впечатляющими парадными воротами и гаражами на две машины. Все живые изгороди из азалий были аккуратно подстрижены. Я услышал, что где-то лает огромная собака. Она громко залаяла три раза, а потом, как будто кто-то сильно отругал ее, резко остановилась, и все вокруг стихло.
Пока я следил за простой картой в приглашении, меня поразило смутное, обескураживающее предчувствие. Что-то просто было не так. Во-первых, на улицах мало людей. С тех пор, как я вышел из автобуса, я не увидел ни одного пешехода. Мимо проехали две машины, но они ехали вниз по склону, а не вверх. Если бы здесь действительно должен был состояться сольный концерт, я ожидал бы увидеть больше людей. Но вся округа была неподвижна и безмолвна, словно густые тучи наверху поглотили все звуки.
Но вся округа была неподвижна и безмолвна, словно густые тучи наверху поглотили все звуки.
Я неправильно понял?
Я вынул приглашение из кармана пиджака, чтобы перепроверить информацию. Может быть, я неправильно прочитал это. Я внимательно просмотрел его, но не нашел ничего плохого. У меня была правильная улица, правильная автобусная остановка, правильные дата и время. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и снова отправился в путь. Единственное, что я мог сделать, это пойти в концертный зал и посмотреть.
Когда я наконец добрался до здания, большие стальные ворота были плотно заперты. Толстая цепь обвивала ворота и удерживалась на месте тяжелым висячим замком. Вокруг никого не было. Через узкий проем в воротах я увидел приличную парковку, но там не было припарковано ни одной машины. Между брусчаткой проросли сорняки, и стоянка выглядела так, будто ею давно не пользовались. Несмотря на все это, большая табличка у входа говорила мне, что это именно тот концертный зал, который я искал.
Я нажал кнопку домофона рядом с подъездом, но никто не ответил. Я подождал немного, затем снова нажал кнопку, но ответа так и не последовало. Я посмотрел на часы. Концерт должен был начаться через пятнадцать минут. Но не было никаких признаков того, что ворота будут открыты. Краска местами слезла с него, и он начал ржаветь. Я не мог придумать, что делать дальше, поэтому еще раз нажал кнопку интеркома, удерживая ее дольше, но результат был тот же, что и раньше — глубокая тишина.
Не зная, что делать, я прислонился спиной к воротам и простоял там минут десять. У меня была слабая надежда, что вскоре появится кто-то еще. Но никто не пришел. Не было никаких признаков движения ни внутри ворот, ни снаружи. Ветра не было. Ни щебетания птиц, ни лая собак. Как и прежде, наверху лежал сплошной покров серых облаков.
В конце концов я сдался — что еще я мог сделать? — и тяжелыми шагами пошел обратно по улице к автобусной остановке, совершенно не понимая, что происходит. Единственным ясным моментом во всей этой ситуации было то, что сегодня здесь не будет фортепианного концерта или любого другого мероприятия. Все, что я мог сделать, это отправиться домой с букетом красных цветов в руке. Моя мать, несомненно, спросит: «Для чего цветы?», и мне придется дать какой-то правдоподобный ответ. Я хотел выбросить их в мусорное ведро на станции, но они были — по крайней мере для меня — довольно дорогими, чтобы просто выбросить их.
Все, что я мог сделать, это отправиться домой с букетом красных цветов в руке. Моя мать, несомненно, спросит: «Для чего цветы?», и мне придется дать какой-то правдоподобный ответ. Я хотел выбросить их в мусорное ведро на станции, но они были — по крайней мере для меня — довольно дорогими, чтобы просто выбросить их.
Чуть ниже по склону располагался уютный небольшой парк размером с участок под дом. В дальнем конце парка, вдали от улицы, находилась наклонная стена из натурального камня. Это был едва ли парк — в нем не было ни фонтана, ни детской площадки. Все, что там было, — это маленькая беседка, прибитая посредине. Стены беседки представляли собой косую решетку, заросшую плющом. Вокруг росли кусты, а на земле лежали плоские квадратные ступени. Трудно сказать, для чего предназначался парк, но за ним регулярно кто-то ухаживал; деревья и кусты были аккуратно подстрижены, вокруг не было ни сорняков, ни мусора. Поднимаясь на холм, я прошел мимо парка, не заметив его.
Я пошел в парк, чтобы собраться с мыслями и сел на скамейку возле беседки. Я чувствовал, что должен подождать в этом районе еще немного, чтобы посмотреть, как будут развиваться события (насколько я знал, люди могут внезапно появиться), и как только я сел, я понял, как я устал. Это была какая-то странная усталость, как будто я уже давно утомился, но не замечал ее и только теперь до меня дошло. Из беседки открывался панорамный вид на гавань. К причалу пришвартовались несколько крупных контейнеровозов. С вершины горы сложенные друг на друга металлические контейнеры выглядели не чем иным, как маленькими жестянками, которые вы держите на своем столе, чтобы хранить монеты или скрепки.
Я чувствовал, что должен подождать в этом районе еще немного, чтобы посмотреть, как будут развиваться события (насколько я знал, люди могут внезапно появиться), и как только я сел, я понял, как я устал. Это была какая-то странная усталость, как будто я уже давно утомился, но не замечал ее и только теперь до меня дошло. Из беседки открывался панорамный вид на гавань. К причалу пришвартовались несколько крупных контейнеровозов. С вершины горы сложенные друг на друга металлические контейнеры выглядели не чем иным, как маленькими жестянками, которые вы держите на своем столе, чтобы хранить монеты или скрепки.
Через некоторое время я услышал мужской голос вдалеке. Не натуральный голос, а усиленный динамиком. Я не мог уловить, о чем идет речь, но после каждой фразы была ярко выраженная пауза, и голос говорил точно, без тени эмоций, как будто пытаясь максимально объективно передать что-то чрезвычайно важное. Мне пришло в голову, что, возможно, это было личное послание, адресованное мне, и мне одному. Кто-то возьмет на себя труд рассказать мне, где я ошибся, что я упустил из виду. Обычно я бы так не подумал, но почему-то меня это так поразило. Я внимательно слушал. Голос становился все громче и понятнее. Должно быть, это исходило из громкоговорителя на крыше автомобиля, который медленно поднимался по склону, казалось, совсем не торопясь. Наконец я понял, что это было: машина, транслирующая христианское послание.
Кто-то возьмет на себя труд рассказать мне, где я ошибся, что я упустил из виду. Обычно я бы так не подумал, но почему-то меня это так поразило. Я внимательно слушал. Голос становился все громче и понятнее. Должно быть, это исходило из громкоговорителя на крыше автомобиля, который медленно поднимался по склону, казалось, совсем не торопясь. Наконец я понял, что это было: машина, транслирующая христианское послание.
— Все умрут, — сказал голос спокойным монотонным голосом. «Каждый человек рано или поздно уходит из жизни. Никто не может избежать смерти или суда, который последует за ним. После смерти каждый будет строго судим за свои грехи».
Я сидел на скамейке и слушал это сообщение. Мне показалось странным, что кто-то занимается миссионерской работой в этом заброшенном жилом районе на вершине горы. Все люди, которые жили здесь, владели несколькими автомобилями и были богаты. Я сомневался, что они искали спасения от греха. А может они были? Доход и статус могут быть не связаны с грехом и спасением.
«Но всем тем, кто ищет спасения в Иисусе Христе и кается в своих грехах, Господь простит их грехи. Они избегут огня Ада. Верь в Бога, ибо только верующие в Него обретут спасение после смерти и обретут жизнь вечную».
Я ждал, когда машина христианской миссии появится передо мной на улице и расскажет больше о суде после смерти. Думаю, я, должно быть, надеялся услышать слова, сказанные ободряющим, решительным голосом, какими бы они ни были. Но машина так и не появилась. И в какой-то момент голос стал становиться тише, менее отчетливым, и вскоре я уже ничего не слышал. Машина, должно быть, повернула в другом направлении, подальше от того места, где я был. Когда та машина исчезла, я почувствовал себя так, будто весь мир бросил меня.
Внезапно меня осенила мысль: может быть, все это было мистификацией, которую состряпала девушка. Эта идея — или, я бы сказал, догадка — возникла из ниоткуда. По какой-то причине, которую я не мог понять, она намеренно дала мне ложную информацию и воскресным днем вытащила меня на вершину отдаленной горы..jpg) Может быть, я сделал что-то, из-за чего у нее возникла личная неприязнь ко мне. Или, может быть, без особой причины я показался ей таким неприятным, что она не выдержала. А она прислала мне приглашение на несуществующий сольный концерт и теперь злорадствовала — хохотала до упаду, — видя (вернее, воображая), как она меня надула и каким жалким и смешным я, должно быть, выгляжу.
Может быть, я сделал что-то, из-за чего у нее возникла личная неприязнь ко мне. Или, может быть, без особой причины я показался ей таким неприятным, что она не выдержала. А она прислала мне приглашение на несуществующий сольный концерт и теперь злорадствовала — хохотала до упаду, — видя (вернее, воображая), как она меня надула и каким жалким и смешным я, должно быть, выгляжу.
Хорошо, но стал бы человек придумывать такой запутанный сюжет, чтобы кого-то беспокоить, просто назло? Даже распечатка открытки, должно быть, потребовала некоторых усилий. Неужели кто-то может быть таким злым? Я не мог вспомнить, что я когда-либо делал, чтобы заставить ее ненавидеть меня так сильно. Но иногда, сами того не осознавая, мы топчем чувства людей, задеваем их самолюбие, заставляем их чувствовать себя плохо. Я размышлял о возможности этой немыслимой ненависти, о недоразумениях, которые могли иметь место, но не нашел ничего убедительного. И пока я бесплодно блуждал по этому лабиринту эмоций, я чувствовал, что мой разум сбивается с пути. Прежде чем я это осознал, у меня возникли проблемы с дыханием.
Прежде чем я это осознал, у меня возникли проблемы с дыханием.
Раньше такое случалось со мной раз или два в год. Я думаю, это должно быть гипервентиляция, вызванная стрессом. Меня что-то смущало, горло сжимало, и я не мог набрать достаточно воздуха в легкие. Я паниковала, как будто меня подхватывало стремительное течение и я вот-вот утону, и мое тело замерзало. Все, что я мог сделать в то время, это присесть, закрыть глаза и терпеливо ждать, пока мое тело вернется к своим обычным ритмам. Когда я стал старше, я перестал испытывать эти симптомы (и в какой-то момент я тоже перестал так легко краснеть), но в подростковом возрасте меня все еще беспокоили эти проблемы.
На скамейке у беседки я крепко зажмурил глаза, согнулся и стал ждать, пока меня высвободят из этого завала. Может быть, пять минут, может быть, пятнадцать. Я не знаю, как долго. Все это время я наблюдал, как странные узоры появлялись и исчезали в темноте, и я медленно считал их, изо всех сил стараясь восстановить контроль над своим дыханием. Мое сердце бешено колотилось в грудной клетке, словно внутри бегала перепуганная мышь.
Мое сердце бешено колотилось в грудной клетке, словно внутри бегала перепуганная мышь.
Я так сосредоточился на счете, что мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать присутствие другого человека. Мне казалось, что кто-то стоит передо мной и наблюдает за мной. Осторожно, очень медленно, я открыл глаза и немного поднял голову. Мое сердце все еще колотилось.
Незаметно для меня старик сел на скамейку напротив меня и смотрел прямо на меня. Молодому человеку нелегко судить о возрасте пожилого человека. Для меня они все выглядели как старики. Шестьдесят, семьдесят — какая разница? Они уже не молоды, вот и все. На этом мужчине был голубовато-серый шерстяной кардиган, коричневые вельветовые брюки и темно-синие кроссовки. Казалось, что прошло много времени с тех пор, как они были новыми. Не то, чтобы он выглядел потрепанным или что-то в этом роде. Его седые волосы были густыми и жесткими на вид, а над ушами торчали пучки, похожие на крылья купающихся птиц. Он был без очков. Я не знал, как долго он был там, но у меня было ощущение, что он наблюдал за мной довольно долгое время.
Я не знал, как долго он был там, но у меня было ощущение, что он наблюдал за мной довольно долгое время.
Я был уверен, что он собирается сказать: «Ты в порядке?» или что-то в этом роде, потому что я, должно быть, выглядел так, как будто у меня проблемы (и это действительно было так). Это было первое, что пришло мне в голову, когда я увидел старика. Но он ничего не сказал, ни о чем не спросил, только крепко сложил черный зонт, который держал как трость. У зонта была деревянная ручка янтарного цвета, и он выглядел достаточно прочным, чтобы в случае необходимости послужить оружием. Я предположил, что он жил по соседству, так как больше у него ничего не было с собой.
Я сидел, пытаясь успокоить дыхание, старик молча наблюдал. Его взгляд не дрогнул ни на мгновение. Мне стало не по себе — как будто я забрела на чей-то задний двор без разрешения — и мне захотелось встать со скамейки и как можно быстрее отправиться на автобусную остановку. Но по какой-то причине я не мог встать на ноги. Прошло время, и вдруг старик заговорил.
Прошло время, и вдруг старик заговорил.
«Круг со множеством центров».
Я посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Лоб у него был очень широкий, нос заострен. Острый, как птичий клюв. Я ничего не мог сказать, поэтому старик тихо повторил слова: «Круг со многими центрами».
Естественно, я понятия не имел, что он пытался сказать. Мне пришла в голову мысль, что этот человек был за рулем христианской машины с громкоговорителем. Может быть, он припарковался поблизости и взял перерыв? Нет, этого не может быть. Его голос отличался от того, что я слышал. Голос из громкоговорителя принадлежал гораздо более молодому мужчине. Или, возможно, это была запись.
«Круги, говоришь?» — нехотя спросил я. Он был старше меня, и вежливость требовала, чтобы я ответил.
«Есть несколько центров — нет, иногда бесконечное количество — и это круг без окружности». Сказав это, старик нахмурился, морщины на его лбу углубились. «Можете ли вы представить себе такой круг?»
Мой разум все еще не работал, но я немного подумал. Круг, который имеет несколько центров и не имеет окружности. Но, как бы я ни думал, я не мог этого представить.
Круг, который имеет несколько центров и не имеет окружности. Но, как бы я ни думал, я не мог этого представить.
— Не понимаю, — сказал я.
Старик молча смотрел на меня. Казалось, он ждал лучшего ответа.
— Не думаю, что нас учили такому кружку на уроках математики, — вяло добавил я.
Старик медленно покачал головой. «Конечно нет. Этого следовало ожидать. Потому что в школе этому не учат. Как вы прекрасно знаете.
Как я прекрасно знал? Почему этот старик так решил?
«Такой круг действительно существует?» Я попросил.
— Конечно, есть, — сказал старик, несколько раз кивнув. «Этот круг действительно существует. Но не все это видят, знаете ли.
«Ты видишь?»
Старик не ответил. Мой вопрос на мгновение неловко повис в воздухе, а затем, наконец, затуманился и исчез.
Старик снова заговорил. «Слушай, ты должен представить это своей собственной силой. Используйте всю мудрость, которая у вас есть, и представьте себе это.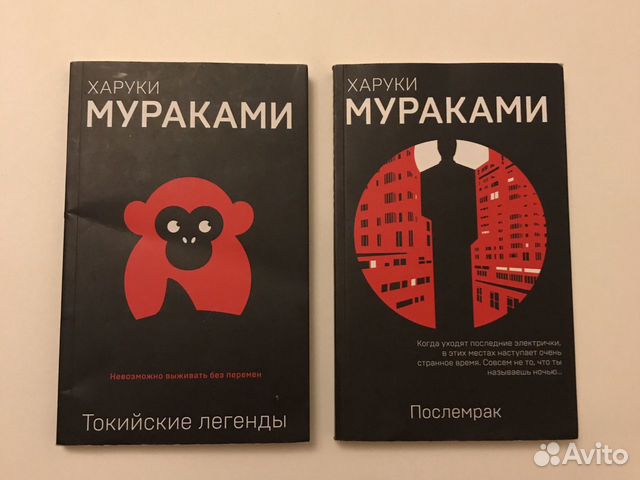 Круг, у которого много центров, но нет окружности. Если приложишь такое сильное усилие, что как будто обливаешься кровью, — вот тогда постепенно становится ясно, что такое круг».
Круг, у которого много центров, но нет окружности. Если приложишь такое сильное усилие, что как будто обливаешься кровью, — вот тогда постепенно становится ясно, что такое круг».
— Звучит сложно, — сказал я.
— Конечно, — сказал старик так, как будто выплевывал что-то твердое. «В этом мире нет ничего стоящего, что можно было бы получить легко». Затем, словно начиная новый абзац, коротко откашлялся. «Но когда вы вкладываете столько времени и усилий, если вы достигаете этой трудной цели, она становится сливками вашей жизни».
«Сливки?»
«Во французском языке есть выражение: creme de la creme . Ты знаешь это?»
— Не знаю, — сказал я. Я не знал французского.
«Сливки сливки. Это значит лучшие из лучших. Самая важная сущность жизни — это сливки . Возьми? Остальное просто скучно и бесполезно».
Я не очень понял, к чему старик. Крем де ла крем ?
— Подумай об этом, — сказал старик. — Закрой еще раз глаза и все обдумай. Круг, у которого много центров, но нет окружности. Ваш мозг создан для того, чтобы думать о сложных вещах. Чтобы помочь вам добраться до точки, где вы понимаете то, что не понимали сначала. Нельзя быть ленивым или небрежным. Сейчас критическое время. Потому что это период, когда ваш мозг и ваше сердце формируются и укрепляются».
Круг, у которого много центров, но нет окружности. Ваш мозг создан для того, чтобы думать о сложных вещах. Чтобы помочь вам добраться до точки, где вы понимаете то, что не понимали сначала. Нельзя быть ленивым или небрежным. Сейчас критическое время. Потому что это период, когда ваш мозг и ваше сердце формируются и укрепляются».
Я снова закрыл глаза и попытался представить этот круг. Я не хотел быть ленивым или небрежным. Но, как бы серьезно я ни думал о том, что говорил этот человек, в то время я не мог уловить смысла этого. Знакомые мне круги имели один центр и изогнутую окружность, соединяющую равноудаленные от него точки. Простая фигура, которую можно нарисовать с помощью циркуля. Разве круг, о котором говорил старик, не был противоположностью кругу?
Я не думал, что старик отключился, мысленно. И я не думал, что он дразнит меня. Он хотел передать что-то важное. Поэтому я снова попытался понять, но мой разум просто крутился вокруг да около, не продвигаясь вперед. Как мог круг, у которого было много (или, возможно, бесконечное число) центров, существовать как круг? Была ли это какая-то передовая философская метафора? Я сдался и открыл глаза. Мне нужно было больше подсказок.
Мне нужно было больше подсказок.
Но старика уже не было. Я огляделся, но в парке никого не было. Его как будто никогда не существовало. Я воображал вещи? Нет, конечно, это не было какой-то фантастикой. Он был прямо передо мной, крепко сжимая зонтик, тихо разговаривая, задавая странный вопрос, а потом ушел.
«Отлично, теперь нам нужна новая горничная».
Я понял, что мое дыхание вернулось к нормальному, спокойному и ровному. Бурный поток исчез. Кое-где в густом слое облаков над гаванью стали появляться просветы. Луч света пробился сквозь него, осветив алюминиевый кожух на вершине подъемного крана, как будто он точно целился в это место. Я долго смотрел, завороженный этой почти мифической сценой.
Букет красных цветов, завернутый в целлофан, лежал рядом со мной. Как своего рода доказательство всех странных вещей, которые произошли со мной. Я долго думал, что с ним делать, и в конце концов оставил его на скамейке у беседки. Мне это показалось оптимальным вариантом. Я встал и направился к автобусной остановке, где я вышел раньше. Ветер начал дуть, разгоняя застоявшиеся облака наверху.
Я встал и направился к автобусной остановке, где я вышел раньше. Ветер начал дуть, разгоняя застоявшиеся облака наверху.
После того, как я закончил рассказывать эту историю, возникла пауза, затем мой младший друг сказал: «Я действительно не понимаю. Что же тогда произошло на самом деле? Было ли какое-то намерение или принцип в действии?»
Те очень странные обстоятельства, которые я пережил на вершине этой горы в Кобе воскресным днем поздней осенью — следуя указаниям в приглашении туда, где должен был состояться концерт, только для того, чтобы обнаружить, что здание пусто — что же все это значит? И почему это произошло? Это то, о чем спрашивал мой друг. Совершенно естественные вопросы, тем более, что история, которую я ему рассказывал, так и не закончилась.
— Я и сам этого не понимаю, даже сейчас, — признался я.
Он навсегда остался неразгаданным, как какая-то древняя загадка. То, что произошло в тот день, было непостижимо, необъяснимо и в восемнадцать лет повергло меня в недоумение и озадаченность. Настолько, что на мгновение я чуть не сбился с пути.
Настолько, что на мгновение я чуть не сбился с пути.
«Но у меня такое чувство, — сказал я, — что принцип или намерение на самом деле не были проблемой».
Мой друг выглядел сбитым с толку. — Ты хочешь сказать, что мне не нужно знать, что это было?
Я кивнул.
«Но если бы это был я, — сказал он, — я бы бесконечно беспокоился. Я хотел бы знать правду, почему что-то подобное произошло. Если бы я был на вашем месте, то есть.
«Да, конечно. Тогда меня это тоже напрягало. Много. Мне тоже было больно. Но если подумать об этом позже, издалека, по прошествии времени, это стало казаться незначительным, из-за чего не стоило расстраиваться. Мне казалось, что это не имеет никакого отношения к сливкам жизни».
— Сливки жизни, — повторил он.
«Такое иногда случается», — сказал я ему. «Необъяснимые, нелогичные события, которые, тем не менее, вызывают глубокую тревогу. Думаю, нам нужно не думать о них, просто закрыть глаза и пройти через них. Как будто мы проходим под огромной волной».
Мой младший друг какое-то время молчал, глядя на эту огромную волну. Он был опытным серфером, и было много серьезных вещей, которые ему приходилось учитывать, когда дело доходило до волн. Наконец он заговорил. «Но не думать ни о чем тоже может быть довольно сложно».
«Вы правы. Это может быть действительно трудно».
В этом мире нет ничего стоящего, что можно было бы получить легко , — сказал старик с непоколебимой убежденностью, как Пифагор, объясняющий свою теорему.
«Насчет того круга со множеством центров, но без окружности», — спросил мой друг. — Ты когда-нибудь находил ответ?
— Хороший вопрос, — сказал я. Я медленно покачал головой. Был ли я?
В моей жизни всякий раз, когда происходит необъяснимое, нелогичное, тревожное событие (я не говорю, что это случается часто, но было несколько раз), я всегда возвращаюсь в этот круг — круг со многими центрами, но без длина окружности. И, как в восемнадцать лет, на той скамейке в беседке, я закрываю глаза и слушаю биение своего сердца.

 .. раз и два
Припев
Запечатана кем-то
Только для чего
А задаваться вопросами
Знаешь так легко
Припев:
Фонари сбежались
Лишь на белый танец
И я уже не справлюсь
Прощай
Am G
Утонула в одиночестве
Dm
Королева не плачет
Am G
Оторваться себя от общества
Dm
Ничего не значит
F G
Я спущу себя по лестнице
Am
Чтоб не возвращаться
F G Am
Знаешь просто я
F G Am
Знаешь просто я
F G
Знаешь просто я...
Am
Начинаю прощаться
.. раз и два
Припев
Запечатана кем-то
Только для чего
А задаваться вопросами
Знаешь так легко
Припев:
Фонари сбежались
Лишь на белый танец
И я уже не справлюсь
Прощай
Am G
Утонула в одиночестве
Dm
Королева не плачет
Am G
Оторваться себя от общества
Dm
Ничего не значит
F G
Я спущу себя по лестнице
Am
Чтоб не возвращаться
F G Am
Знаешь просто я
F G Am
Знаешь просто я
F G
Знаешь просто я...
Am
Начинаю прощаться 19-5.27].
19-5.27]. Самое начало, быстрый темп оркестра.
Самое начало, быстрый темп оркестра.