Кстати он был сегодня и ушел недовольный от меня так как я отнесся: Помогите с выполнением 63 номера — Знания.site
Читать онлайн «Смех и горе», Николай Лесков – Литрес, страница 13
Глава семьдесят третья
Я поблагодарил, раскланялся и ушел обласканный, но очень недовольный собой. Что это за вздорное знакомство? Противно даже. Зато, думаю, более меня не позовут, потому что, верно, и я им, в свою очередь, не очень понравился. Но Фортунатов зашел вечером и поздравляет:
– Прекрасно, – говорит, – ты себя держал, ты верно все больше молчал.
– Да, – говорю, – я молчал.
– Ну вот, губернатор тебя нашел очень дельным и даже велел сегодня же к нему писаря прислать: верно хочет «набросать мыслей» и будет просить тебя их развить; а губернаторша все только сожалеет, что не могла с тобой наедине поговорить.
– О чем же? Мы с ней и так, кажется, много говорили и о поляках, и о призваниях.
– Ну, да про поляков теперь уж все пустое, с полгода тому беда была у нас. Тут есть полячок, Фуфаевский, – он все нашим дамам будущее предсказывает по линиям рук да шулерничает, – так он ее напугал, что на ней польская кровь где-то присохла. Она, бедняга, даже ночью, как леди Макбет, по губернаторскому дому все ходила да стонала: «Кровь на нас, кровь! иди прочь, Грегуар, на тебе кровь!» Ну, а тому от нее идти прочь неохота: вот она его этим и переломила на польскую сторону… Да все это вздор. Она мне что-то другое о тебе говорила. О чем бишь она хотела от тебя, как от способного человека, узнать?.. Да! вспомнил: ей надо знать, открыто или нет средство, чтобы детей в реторте приготовлять?
Она, бедняга, даже ночью, как леди Макбет, по губернаторскому дому все ходила да стонала: «Кровь на нас, кровь! иди прочь, Грегуар, на тебе кровь!» Ну, а тому от нее идти прочь неохота: вот она его этим и переломила на польскую сторону… Да все это вздор. Она мне что-то другое о тебе говорила. О чем бишь она хотела от тебя, как от способного человека, узнать?.. Да! вспомнил: ей надо знать, открыто или нет средство, чтобы детей в реторте приготовлять?
– Это, – говорю, – что за глупость?
– Писано, – говорит она, – будто было про это, а ей непременно это нужно: она дошла по книжке Пельтана, что женщины сами виноваты в своем уничижении, потому что сами рождают своих угнетателей. Она хочет, чтобы дети в ретортах приготовлялись, какого нужно пола или совсем бесполые. Я обещал ей, что ты насчет этих реторт пошныряешь по литературе и скажешь ей, где про это писалось и как это делать.
– Ты, – говорю, – шут гороховый и циник.
– Нет, ей-богу, – говорит, – я ей обещал, – да еще сам, каналья, и смеется.
– Ну, а успел обещать, так умей сам и исполнять как знаешь.
Глава семьдесят четвертая
Целую ночь я однако ж продумал, лежа в постели: что это за люди и что за странный позыв у них к самой беспричинной и самой беззаветной откровенности? Думал, решал и ничего не решил; а наутро только что сел было за свою записку, как вдруг является совсем незнакомый господин, среднего роста, белый, белобрысый, с толстыми, бледными, одутловатыми щеками, большими выпуклыми голубыми глазами и розовыми губками сердечком.
Вошел он очень торопливо, размахивая фуражкой, плюхнул прямо на стул у моего письменного стола и, усевшись, отрекомендовался Семеном Ивановичем Дергальским.
Говорит картавя, присюсюкивая и сильно поплевывая в собеседника.
– Плишел, – говорит, – к вам с доблым намелением, вы человек чузой и не видите, что с вами тволят. Кто вас лекомендовал Фольтунатову?
Я отвечал, что мы с Фортунатовым старые знакомые.
– Плесквельно, это плесквельно! – заговорил мой гость. – Фольтунатов пельвый подлец! Извините меня; он вась длуг, но я плезде всего цестный целовек и говолю плявду. Это он вас повел к губельнатолю?
– Фольтунатов пельвый подлец! Извините меня; он вась длуг, но я плезде всего цестный целовек и говолю плявду. Это он вас повел к губельнатолю?
– Он.
– Ах, мельзавец! Извините, я говолю всегда плямо. Он ведь не плявитель канцелялии, а фокусник; он сам и есть «севельный маг и вольсебник». Он хитл как челт. Длугие плячут… Но, позвольте, я это написю.
Я подал ему карандаш, а он написал прячут и продолжал:
– Да-с; плячут от начальства новых людей, а он налосьно всех подводит и члесь то бесплистлястным слывет, а потом всех в дуляцкие кольпаки налязает. Я самое тлюдное влемя в западных губельниях слюзил, и полезен был, и нагляды полючал, потому сто я плямой настояссий лусский целовек… Я не хитлец, как он, сто баляхнинским налечием говолит, а сам и насым и васым, хузе зида Иоськи, что ваксу плодает; а я, видите, я даже на визитных кальточках себя не маскилую… – и с этим он подал мне свою карточку, на которой было напечатано: Семен Иванович Дергалъский – почтовый люстратор. – Видите, как плямо иду, а он ботвинью и бузянину лопает, а люсских людей выдает ляху Фуфаевскому. Он сказал мне: «я тебя с губельнатолом сблизу и всех ляхов здесь с ним выведесь»… как самого способного целовека меня пледставил. Губельнатоль плосил меня: «будьте, говолит, моим глазом и ухом, потому сто я хоть знаю все, сто делается в голоде, а сто из голода…» Но, позвольте, это я написю.
– Видите, как плямо иду, а он ботвинью и бузянину лопает, а люсских людей выдает ляху Фуфаевскому. Он сказал мне: «я тебя с губельнатолом сблизу и всех ляхов здесь с ним выведесь»… как самого способного целовека меня пледставил. Губельнатоль плосил меня: «будьте, говолит, моим глазом и ухом, потому сто я хоть знаю все, сто делается в голоде, а сто из голода…» Но, позвольте, это я написю.
И он написал: в городе, и продолжал снова:
– «Сто из голода выезжает, это только вы одни мозете знать». Я на это для обьсей пользы согласился, а Фольтунатов мне так устлоил, что я с губельнатолом говолить не мог.
– Отчего же?
– Потому сто губельнатолша всегда тут зе вельтится: Фольтунатову, подлецу, это на луку: ему она не месяет; потому сто он пли ней налёсно о лазных вздолях говолит: как детей в летолтах плиготовлять и тому подобное, а сам подсовывает ее музу сто хоцет к подписи, мелзавец, а я долзен был дело лясказать, что я за день плолюстлиловал, кто о цем писет, – а она не выходит. Я как настояссий слузбист плямо посол, плямым путем, и один лаз пли ней плямо сказал ему: «васе плевосходительство, мы о таких вестях не плиучены говолить пли тлетьем лице», а она сейцас: «Это и пликласно! – говолит, – Глегуал, выди, мой длуг, вон, пока он долозит!» Сто я тут мог сделать? Я нацинаю говолить и, наконец, забываю, сто это она, а не он, и говолю, сто Фуфаевский послал своему блату в Польсу, письмо, стоб он выслал ему сюда для губельнатолсы симпатицескую польскую блошку, стобы под платьем носить; а она как вскочит… «Глегуал! – кличит, лясполядись сейцас его уволить! он меня обидел», – и с тех пол меня в дом не плинимают. Тут Фольтунатов как путный и вмесялся. «Позвольте, говолит, вам объяснить: ведь он это не со злым умыслом сказал: он хотел сказать, сто Фуфаевский выписывает для губельнатолсы польскую блошку, а сказал блошку …» Но нет, позвольте каландаш, а то вы тоже этого не поймете.
Я как настояссий слузбист плямо посол, плямым путем, и один лаз пли ней плямо сказал ему: «васе плевосходительство, мы о таких вестях не плиучены говолить пли тлетьем лице», а она сейцас: «Это и пликласно! – говолит, – Глегуал, выди, мой длуг, вон, пока он долозит!» Сто я тут мог сделать? Я нацинаю говолить и, наконец, забываю, сто это она, а не он, и говолю, сто Фуфаевский послал своему блату в Польсу, письмо, стоб он выслал ему сюда для губельнатолсы симпатицескую польскую блошку, стобы под платьем носить; а она как вскочит… «Глегуал! – кличит, лясполядись сейцас его уволить! он меня обидел», – и с тех пол меня в дом не плинимают. Тут Фольтунатов как путный и вмесялся. «Позвольте, говолит, вам объяснить: ведь он это не со злым умыслом сказал: он хотел сказать, сто Фуфаевский выписывает для губельнатолсы польскую блошку, а сказал блошку …» Но нет, позвольте каландаш, а то вы тоже этого не поймете.
Дергальский схватил карандаш и написал четко б-р-о-ш-к-у.
– Вот сло о цем дело! – продолжал он, – и это им Фольтунатов объяснил, да кстати и всем лазблаговестил и сделал меня сутом голоховым, а для чего? для того, сто я знал, сто он губельнатолу яму лоет.
– Он… губернатору яму роет?
– А как зе? Я знаю, сто он ему один лаз дал подписать, и куда он это хотел отплавить. Вот посмотлите, – и дает бумагу, на которой написано: «Отца продал, мать заложил и в том руку приложил», а подписано имя губернатора… – Я это знал, – продолжал Дергальский, – и стлемился после ссолы все это сообссить, но мне не довеляют, а почему? потому сто меня Фольтунатов сумаседсим и дулаком поставил, а подлец Фуфаевский на меня козла из конюсни выпустил, а козел мне насквозь бок логами плополол и изувецил меня пли всех поселеди улицы. Я тли месяца в постели лезал и послал самую плавдивую залобу, что козел на меня умысленно пуссен за мой патлиотизм, а они на смех завели дело «о плободании меня козлом с политицескими целями по польской интлиге» и во влемя моей болезни в Петелбулг статью послали «о полякуюссем козле», а тепель, после того как это напецатано, уж я им нимало не опасен, потому сто сситаюсь сумаседсим и интлиганом. Я вазные, очень вазные весси знаю, но не могу сказать, потому сто всё, сто я ни сказю, только на смех поднимают: «его-де и козел с политицескими целями бил». Мне тепель одному делать нецего: я собилаю палтию и плисол вас плосить: составимте палтию.
Мне тепель одному делать нецего: я собилаю палтию и плисол вас плосить: составимте палтию.
– Позвольте, – говорю, – против кого же мы будем партию составлять?
– Плотив всех, плотив Фольтунатова, плотив всех пледателей.
– Да я здесь, – отвечаю, – новый человек и ни в какие интриги входить не хочу.
– Не хотите? а если не хотите в интлиги входить, ну так вы плопали.
– Напротив, со мной все очень доверчивы и откровенны!
Дергальский вскочил и захохотал.
– Поздлявляю! – заговорил он, – поздлявляю вас! Откловенны … здесь всегда с того начинается… все откловенны!.. Они как слепни все на нового целовека своих яиц накладут, а потом целвяки-то выведутся да вам скулу всю и плоглызут… Поздлявляю! Теперь вы много от них слысали длуг пло длуга, – ну и попались; тепель все вас и станут подозлевать, что вы их длуг длугу выдаете. Не вельте им! никому не вельте! Не интлиговать здесь тепель никому нельзя – повельте, нельзя. Дазе когда вы интлигуете – меньше глеха; вы тогда на одной столоне… Мой вам совет: составимте палтию.
– Нет-с, – отвечаю, – я ни к какой партии здесь принадлежать не намерен, я сделаю свое дело и уеду.
– Нет-с, вы так не сделаете; сначала все так говолят, а как вам голяцего за козу зальют, так и не уедете. Генелал Пеллов тоже сюда на неделю плиехал, а как пледводитель его нехолосо плинял, так он здесь уж втолой год живет и ходит в клуб спать.
«Это еще, – думаю, – что такое?»
– Пеллов, Пеллов, известный генелал… – Дергальский опять схватил карандаш и написал: П-е-р-л-о-в. – Знаете?
– Знаю.
– Ну вот он самый и есть: и зена и дети узе сюда к нему едут, – он бедный целовек, а больсе тысяци лублей стлафу в клуб пелеплацивает, и вот увидите, будет здесь сидеть, пока совсем лазолится.
– А зачем он платит штраф?
– А потому сто все пледводителю этим мстит: пледводительский зять сталсиной в клубе, а Пеллов всякое его дезулство плиходит и спит в клубе до утла, стоб и пледводительский зять, как сталсина, сидел, – вот за это и платит.
Что такое за чепуха? Неужто все это вправду выделывается в такое серьезное время? Дергальский клянется и божится, что все это именно так; что предводитель терпеть не может губернатора и что потому все думали, что они с генералом Перловым сойдутся, а вышло иначе: предводитель – ученый генерал и свысока принял Перлова – боевого генерала, и вот у них, у двух генералов, ученого и боевого, зашла война, и Перлов, недовольный предводителем, не будучи в силах ничем отметить ему лично, спит в клубе на дежурстве предводительского зятя и разоряет себя на платежи штрафа. Черт знает что такое!
Черт знает что такое!
– Вы, – говорю, – не имеете ли каких-нибудь соображений об устройстве врачебной части России? Вот это мне очень интересно!
– Нет, – отвечал Дергальский, – не имею… Я слихал, сто будто нас полицеймейстель своих позальных солдат от всех болезней келосином лечит и очень холосо; но будто бы у них от этого животы насквозь светятся; однако я боюсь это утвельздать, потому сто, мозет быть, мне все это на смех говолили, для того, стоб я это ласпустил, а потом под этот след хотят сделать какую-нибудь действительную гадость, и тогда пло ту уз нельзя будет сказать. Я тепель остолозен.
– Не поздно ли?
– Да, поздно; но если составить палтию…
– Нет, меня, – говорю, – увольте.
– Залею, – говорит, – оцень. Вы по клайней меле хоть цем-нибудь запаситесь.
– Чем же?
– Секлет какой-нибудь имейте в луках, а то…
– Чего же вы опасаетесь?
– Чего? пелвым вледным целовеком вас сделают, да-с!
С этим Дергальский вздохнул, крепко сжал мою руку и вышел.
Глава семьдесят пятая
Ужасно расстроил меня этот сюсюкающий господии и звуком своего голоса, и своими нервами, и своими комическими несчастиями, и открытием мне глаз. Последнее особенно было мне неприятно. В самом деле: где же это я и с кем я? И, наконец, кто же мне ручается, что он сам говорит правду, а не клевещет? Одним словом, я в мужском теле ощущал беспокойное чувство женщины, которой незваная и непрошеная дружба открывает измены любимого человека и ковы разлучницы. На что мне было знать все это, и какая польза мне из всех этих предостережений? Лучше всего… в сторону бы как-нибудь от всего этого.
Открываюсь Фортунатову: говорю ему, что мне что-то страшно захандрилось, что я думаю извиниться письмом пред предводителем и уехать домой, отказавшись вовсе представлять мою неоконченную записку об устройстве сельской медицины.
Фортунатов вооружился против этого.
– Это, – говорит, – будет стыд и позор, срам и бесчестие; да и отчего это тебе вдруг пришла фантазия бежать?
– Робость, – шучу, – напала.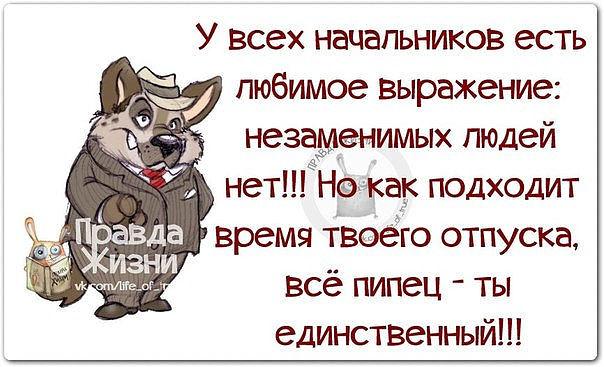
– Да ты не ухмыляйся; у тебя неравно не был ли как-нибудь наш сюсюка?
– Кто это сюсюка?
– Почтмейстер.
– Ты, – говорю, – отгадал: он был у меня.
Фортунатов хлопнул по столу рукой и воскликнул:
– Экое веретено, экая скотина!.. Такой мерзавец, то ни приедет новый человек, он всегда ходит, всех смущает. Мстит все нам. Ну, да погоди он себе: он нынче, говорят, стал ночами по заборам мелом всякие пасквили на губернатора и на меня сочинять; дай срок, пусть его только на этой обличительной литературе изловят, уж я ему голову сорву.
– Он, – говорю, – и без того на тебя плачется и считает тебя коварным человеком.
– Коварным? Ладно, пусть считает. Дурак он, и больше ничего: его уж и козлы с политическими целями бьют.
– Он это никому, однако, не говорил.
– Не знаю, говорил или не говорил, а в сатирических газетах было писано; не читал статью: «Полякующий козел»?
– Нет, не читал и не хочу.
– Напрасно, – это остроумно написано, да к тому же это и правда: я наверно знаю: это Фуфаевский учил козла биться и спустил его на Дергальского.
– Извините, пожалуйста, но это не делает всем вам чести, что вы злите человека до потери сознания, пока он на всех кошкой стал бросаться.
Фортунатов харкнул и плюнул.
– Нечего, – говорю, – плевать: он комичен немножко, а все-таки он русский человек, и пока вы его не дразнили, как собаку, он жил, служил и дело делал. А он, видно, врет-врет, да и правду скажет, что в вас русского-то только и есть, что квас да буженина.
– Ты, брат, – отвечает мне Фортунатов, – если тебе нравится эти сантиментальные рацеи разводить, так разводи их себе разводами с кем хочешь, вон хоть к жене моей ступай, она тебя, кстати, морошкой угостит, – а мне, любезный друг, уж все эти дураки надоели, и русские, и польские, и немецкие. По мне хоть всех бы их в один костер, да подпалить лучинкою, так в ту же пору. Вот не угодно ли получить бумаги ворошок – позаймись, Христа ради, – и с этим подает сверток.
– Что это такое?
– Губернаторские мысли, как все извлечь из ничего.
Разворачиваю и читаю, великолепнейшим каллиграфическим почерком надписано: «Секретно.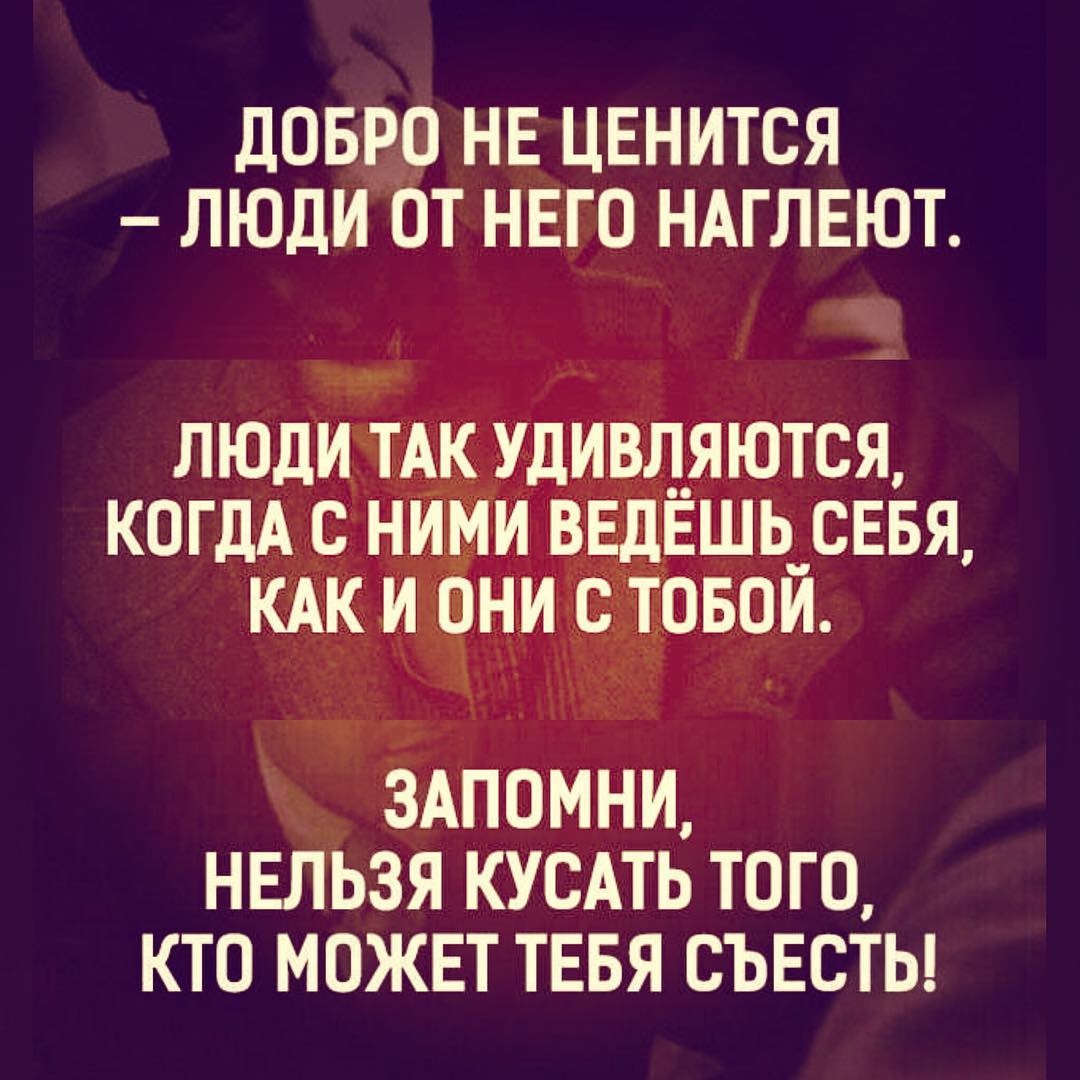 Ряд мыслей о возможности совмещения мнимо несовместимых начал управления посредством примирения идей».
Ряд мыслей о возможности совмещения мнимо несовместимых начал управления посредством примирения идей».
– Ну что это ты мне, Василий Иваныч, за вздор такой приносишь?
– А ты обработай, чтоб оно вышло не вздор.
– Нет, – опять говорю, – Дергальский, видно, прав, что ты нарочно всем подводишь вот этакий неразрешимый вздор разрешать.
Фортунатов повел на меня косо глазами, обошел комнату и, поравнявшись с тем местом, где я сидел, вдруг ткнул мне кукиш.
– Вот на-ка, – говорит, – тебе с твоим Дергальским! Напрасно я за всех за вас в петлю небось не лезу! Я, брат, с натурою человек был, а не мудрец, и жену любил, а от этого у меня шесть детей приключилось: им кусок хлеба надо. Что вы, черти, в самом деле, на меня претендуете? Я человек глупый, – ну, так и знайте. Я и сам когда-то было прослыл за умного человека, да увидал, что это глупо, что с умом на Руси с голоду издохнешь, и ради детей в дураки пошел, ну и зато воспитал их не так, как у умников воспитывают: мои себя честным трудом пропитают, и ребят в ретортах приготовлять не станут, и польского козла не испужаются. Что-нибудь одно: умом хочешь кичиться, – ну, другого не ищи, либо терпи, пусть тебя дурак дураком зовет. А мне плевать на все: хоть зовуткой зови, только хлебом корми.
Что-нибудь одно: умом хочешь кичиться, – ну, другого не ищи, либо терпи, пусть тебя дурак дураком зовет. А мне плевать на все: хоть зовуткой зови, только хлебом корми.
– Прегадкая, – говорю, – у тебя философия.
– Своя, брат, зато: не у немца вычитал; эта по крайности не обманет.
– Скажи лучше, не знаком ли ты с генералом Перловым?
– С Иваном-то воином?
– Да.
– Господи помилуй! – Фортунатов перекрестился и нежным, ласковым тоном добавил: – Я обожаю этого человека.
– Он как же, по-твоему: умен или глуп?
Фортунатов покусал себе ноготь, вздохнул и говорит:
– Это ведь у нас только у одних таких людей ценить не умеют. У англичан вон военачальник Магдалу какую-то, из глины смазанную, в Абиссинии взял, да и за ту его золотом обсыпали, так что и внуки еще макушки из золотой кучи наружу не выдернут; а этот ведь в такой ад водил солдат, что другому и не подумать бы их туда вести: а он идет впереди, сам пляшет, на балалайке играет, саблю бросит, да веткой с ракиты помахивает: «Эх, говорит, ребята, от аглицких мух хорошо и этим отмахиваться». Душа занимается! Солдатам-то просто и задуматься некогда, – так и умирают, посмеиваясь, за матушку за Русь да за веру!.. Как хочешь, ведь это, брат, талант! Нет, это тебе сюсюка хорошо посоветовал: ты сходи к Перлову, не пожалеешь.
Душа занимается! Солдатам-то просто и задуматься некогда, – так и умирают, посмеиваясь, за матушку за Русь да за веру!.. Как хочешь, ведь это, брат, талант! Нет, это тебе сюсюка хорошо посоветовал: ты сходи к Перлову, не пожалеешь.
– Да как же, – говорю, – я и рад бы пойти, да не могу: надо же, чтобы меня ему кто-нибудь представил.
– Сделай милость, выбрось ты из башки этот вздор: ничего этого у нас не надо: мы люди простые, едим пряники неписаные, а он такой рубака… и притом ему делать нечего, и он очень рад будет пред новым человеком начальство поругать.
– А это для чего же? – спрашиваю.
– Что это – начальство-то ругать? Да это уж, знаешь, такая школа: хорош жемчужок, да не знаешь, куда спрятать; и в короб не лезет и из короба не идет; с подчиненными и с солдатами отец, равному брат, а старшего начальства не переносит, и оно, в свою очередь, тоже его не переваривает. Да он и сам не знает, на какой гвоздок себя повесить. Службу ему надо, да чтобы без начальства, а такой еще нет. Одно бы разве: послать его с особою армией в Центральную Азию разыскать жидов, позабытых в плену Зоровавелем. Это бы ему совсем по шерсти, – так ведь не посылают! Вот он, бедняга, здесь так и мается: коров доит, шинок держит, соседских кур на огороде стреляет да в клуб спать ходит.
Одно бы разве: послать его с особою армией в Центральную Азию разыскать жидов, позабытых в плену Зоровавелем. Это бы ему совсем по шерсти, – так ведь не посылают! Вот он, бедняга, здесь так и мается: коров доит, шинок держит, соседских кур на огороде стреляет да в клуб спать ходит.
Глава семьдесят шестая
На другой день встречаю случайно Фортунатова, а он и кричит еще издали:
– А я, – говорит, – брат, сейчас от кровожадного генерала: про тебя с ним разговаривали и про твои заботы о народе сказывал ему.
– Ну что же такое, – говорю, – что ты все с такими усмешками и про народ, и про мои заботы, и про генерала? Что же твой генерал?
– Очень рад тебя видеть, и о народе, сказал, поговорим. Иди к нему; теперь тебе даже уж и нельзя не идти, невежливо.
Сбывает, думаю, разбойник, меня с рук!.. Ну, а уж нечего делать: пойду к кровожадному генералу.
– Только ты, – говорит, – иди вечером и в сюртуке, а не во фраке; а то он не любит, если на визит похоже.
Я и на это согласился.
Пришел вечер, я оделся и пошел.
Домик кровожадного генерала я, разумеется, и прежде знал. Это небольшой, деревянный, чистенький домик в три окна, из которых на двух крайних стояли чубуки, а на третьем, среднем, два чучела: большой голенастый красный петух в каске с перьями и молодой черный козленок с бородой, при штатской шпаге и в цилиндрической гражданской шляпе.
Подъезда с улицы нет, а у калитки нет звонка. Я взялся за большое железное кольцо и слегка потрепал его.
– Не стучите, не стучите, и так не заперто, – отвечал мне со двора немного резкий, но добрый и кроткий голос.
Я приотворил калитку и увидел пред собою необыкновенно чистенький дворик, усыпанный желтым песком, а в глубине – сад, отделанный узорчатою решеткой. На крыльце домика сидел тучный, крупный человек, с густыми волосами впроседь, с небольшими коричневыми, медвежьими глазками и носом из разряда тех, которые называются дулями. Человек этот был одет в полосатые турецкие шаровары и серый нанковый казакин. Он сидел на крыльце, прямо на полу, сложив ноги по-турецки. В зубах у него дымился чубук, упертый другим концом в укрепленную на одной ступени железную подножку, а в руках держал черный частый роговой гребень и копошился им в белой, как лен, головке лежавшего у него на коленях трехлетнего длинноволосого мальчишки, босого и в довольно грязной ситцевой рубашке.
Он сидел на крыльце, прямо на полу, сложив ноги по-турецки. В зубах у него дымился чубук, упертый другим концом в укрепленную на одной ступени железную подножку, а в руках держал черный частый роговой гребень и копошился им в белой, как лен, головке лежавшего у него на коленях трехлетнего длинноволосого мальчишки, босого и в довольно грязной ситцевой рубашке.
– Пожалуйте! – проговорил он мне приветливо, увидя меня на пороге калитки, и при этом толкнул слегка мальчишку, бросил ему гребень и велел идти к матери.
– Это, что вы видите, – продолжал он, – кухаркин сын; всякий день, каналья, волочит ко мне после обеда гребень: «Дяденька, говорит, попугай неприятелей». Соседки-дьячихи дети, семинаристы, его научили. Прошу вас в комнату.
Я поклонился и пошел за ним, а сам все думаю: кто же это, сам он генерал Перлов или нет? Он сейчас же это заметил и, введя меня в небольшую круглую залу, отрекомендовался. Это был он, сам кровожадный генерал Перлов; мою же рекомендацию он отстранил, сказав, что я ему уже достаточно отрекомендован моим приятелем.
Глава семьдесят седьмая
Мы сели в небольшой, по старине меблированной гостиной, выходящей на улицу теми окнами, из которых на двух стояли чубуки, а на третьем красный петух в генеральской каске и козел в черной шляпе, а против них на стене портрет царя Алексея Михайловича с развернутым указом, что «учали на Москву приходить такие-сякие дети немцы и их, таких-сяких детей, немцев, на воеводства бы не сажать, а писать по черной сотне».
В углу сиял от лампады большой образ пророка Илии с надписью «ревнуя поревновах о Боге Вседержителе». Генерал свистнул и приказал вошедшей женщине подать нам чаю и, как предсказывал мой приятель, немедленно же начал поругивать все петербургское начальство, а затем и местные власти. Бранился он довольно зло и минутами очень едко и обращался к помянутому указу царя Алексея, но про все это в подробностях вам нечего рассказывать. Особенно зло от него доставалось высокопоставленным лицам в Петербурге; к местным же он относился с несколько презрительною иронией.
– Здесь верховодят и рядят, – говорил он, – козел да петух: вот я и изображение их из почтения к ним на окно выставил, – добавил он, указывая чубуком на чучел. – Здесь все знают, что это представляет. То вот этот петух – предводитель-многоженец – орет да шпорой брыкает; то этот козленок – губернатор – блеет да бороденкой помахивает, – все ничего: идет. Знаете, как покойный Панин Великой Екатерине отвечал на вопрос: чем сей край управляется? «Управляется, – говорил он, – матушка-императрица, милостию Божиею да глупостию народной».
Генерал весело и громко засмеялся и потом вдруг неожиданно меня спросил:
– Вы Николая Тургенева новую книжку читали?
Я отвечал утвердительно. Генерал, помолчав, высморкался и сначала тихо улыбнулся, а потом совсем захохотал.
– «Стяните вы ее, Россию-то, а то ведь она у вас р-а-с-с-ы-п-е-т-с-я!» – привел он из тургеневской брошюры и снова захохотал. – Вы, впрочем, сами здесь, кажется, насчет стягиванья… липким пластырем, что ли ее, Федорушку, спеленать хотите? – обратился он ко мне, отирая выступившие от смеха слезы. – Скажите бога ради, что такое вы задумали нам приснастить.
– Скажите бога ради, что такое вы задумали нам приснастить.
Я рассказал.
– Пустое дело, – отвечал, махнув рукой, генерал. – Вы, может быть, не любите прямого слова; в таком случае извините меня, что я вам так говорю, но только, по-моему, все это больше ничего как от безделья рукоделье. Нет, вы опишите-ка нас всех хорошенько, если умеете, – вот это дело будет! Я знаю, что будь здесь покойный Гоголь или Нестор Васильич Кукольник, они бы отсюда по сту томов написали. Сюда прежде всего надо хорошего писателя, чтоб он все это описал, а потом хорошего боевого генерала, чтоб он всех отсюда вон выгнал. Вон что здесь нужно, а не больницы, которых вас никто не просит. Чего вы их насильно-то навязываете? Молчат и еще, как Шевченко писал, «на тридцати языках молчат», а молчат, значит «благоденствуют».
Генерал опять засмеялся и потом неожиданно спросил:
– Вы Шевченку покойного не знали?
Я отвечал, что не знал.
– А ко мне его один полицеймейстер привозил. Расхвалил, каналья, что будто «стихи, говорит, отличные на начальство знает».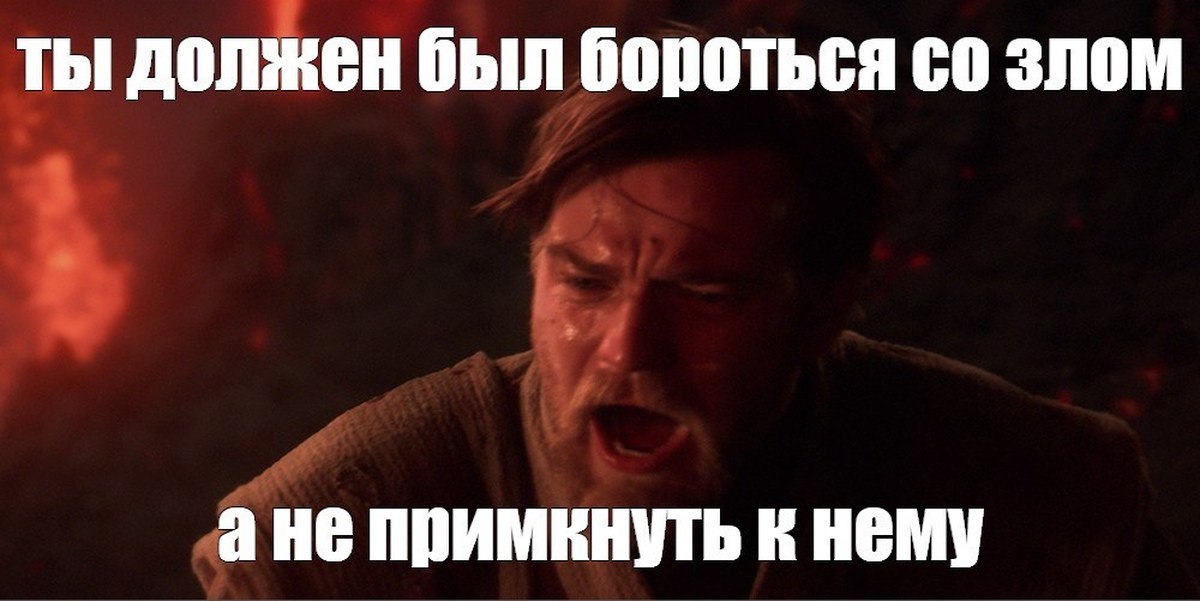 Ну, мол, пожалуй, привезите: и точно недурно, даже, можно сказать, очень недурно: «Сон», «Кавказ» и «К памятнику», но больше всего поляков терпеть не мог. Ух, батюшка мой, как он их, бездельников, ненавидел! То есть это просто черт знает что такое! «Гайдамаки» читает и кричит: «Будем, будем резать тату!» Я уж и окна велел позатворять… против поляков это, знаете, не безопасно, – и после целую неделю лопатой голос из комнаты выгребали – столько он накричал.
Ну, мол, пожалуй, привезите: и точно недурно, даже, можно сказать, очень недурно: «Сон», «Кавказ» и «К памятнику», но больше всего поляков терпеть не мог. Ух, батюшка мой, как он их, бездельников, ненавидел! То есть это просто черт знает что такое! «Гайдамаки» читает и кричит: «Будем, будем резать тату!» Я уж и окна велел позатворять… против поляков это, знаете, не безопасно, – и после целую неделю лопатой голос из комнаты выгребали – столько он накричал.
– Но вы же ведь, ваше превосходительство, – спрашиваю, – кажется, и сами очень изволите не любить поляков?
– Поляков? нет, я враждебного против них не имею ничего… а любить их тоже не за что. Аристократишки, трусы, дрянь, хвастуны, интриганы и рухавка… уж, какая рухавка! Ух, ух, ух, какая рухавка! Такие бездельники, что с ними драться-то даже не с кем. Как в шакалку не надо стрелять, потому что ружье опоганишь, так и в поляка; на него хорошего солдата посылать жалко. В последнее повстанье я шел усмирять их, думал, что авось те канальи, которые в наших корпусах и в академиях учились, хоть те, хоть для гонора, для шика не ударят лицом в грязь и попрактикуют наших молодых солдатиков, – как-нибудь соберутся нас поколотить. Ничего не бывало: веровали, рухавка этакая канальская, что Наполеон на них смотрит, а смотреть-то и не на что. Подлейшая для нас война была! Если бы не кое-какие свои старые хитрости – просто бы несчастье: могли бы деморализоваться войска. У меня в два месяца один офицер влюбился в польку и убежал, один в карты проигрался и застрелился, да два солдатика с ума сошли. Сноситесь об этом по начальству, пишите в Петербург: много там поймут боевое дело «военные чиновники» и «моменты»!.. Я – вечное благодарение Творцу и Создателю (генерал набожно перекрестился), – я вышел из затруднений без петербургских наставлений.
Ничего не бывало: веровали, рухавка этакая канальская, что Наполеон на них смотрит, а смотреть-то и не на что. Подлейшая для нас война была! Если бы не кое-какие свои старые хитрости – просто бы несчастье: могли бы деморализоваться войска. У меня в два месяца один офицер влюбился в польку и убежал, один в карты проигрался и застрелился, да два солдатика с ума сошли. Сноситесь об этом по начальству, пишите в Петербург: много там поймут боевое дело «военные чиновники» и «моменты»!.. Я – вечное благодарение Творцу и Создателю (генерал набожно перекрестился), – я вышел из затруднений без петербургских наставлений.
Я говорю:
– Я слушаю, ваше превосходительство, с крайним любопытством.
Генерал стал продолжать.
Алексей Пушков: Я вижу, что «Постскриптум» интересен › — Новости СМИ
Ведущий программы «Постскриптум» Алексей Пушков начинал на дипломатическом поприще в ООН, был спичрайтером у Горбачева и успел потрудиться в команде ОРТ. В интервью Фонтанке.Ру он рассуждает о политической журналистике и гражданском обществе.
— С 1995 по 1998 год Вы занимали должность замгендиректора ОРТ, когда там вовсю рулил Борис Абрамович. Почему же в 1999 году, во время известной жесткой предвыборной кампании, Вы оказались по ту сторону баррикад от Березовского?
— А я и не был с ним на одной стороне баррикад. На ОРТ «людьми» Бориса Абрамовича были те, кто занимался финансовым управлением, прежде всего, ныне покойный Бадри Патаркацишвили, а также руководители информационного вещания — Ксения Пономарева, затем — Татьяна Кошкарева. Я же отвечал за общественные и международные связи ОРТ. Сама по себе эта должность не предопределяла принадлежность к клану Березовского, более того, с тем же Патаркацишвили — и это знали многие на канале — у меня были очень непростые отношения. Я работал с генеральным директором Сергеем Благоволиным. Когда он ушел, вслед за ним ушел и я. Кстати, Благоволин ушел оттуда в знак протеста, когда «люди» Березовского стали поливать грязью Примакова и Лужкова.
— Доренко, по-Вашему, — журналист?
— Профессионально, конечно, журналист. Разные журналисты бывают… Вот папарацци — это журналисты? Раз их работа востребована журналами, значит — журналисты. Но если вы меня спросите, как я их оцениваю, отвечу: мерзавцы!
Разные журналисты бывают… Вот папарацци — это журналисты? Раз их работа востребована журналами, значит — журналисты. Но если вы меня спросите, как я их оцениваю, отвечу: мерзавцы!
— Тогда мерзавцы не только такие журналисты, но и те, кто их к этому толкает или толкал, их начальники. Владислав Юрьевич Сурков, Татьяна Петровна Кошкарева… Разве не они устами обычных корреспондентов давали в эфир некорректную информацию в отношении Евгения Максимовича Примакова, Юрия Михайловича Лужкова?
— Мне это доподлинно неизвестно. Березовский сам, лично — я это знаю — сделал своим рупором Доренко… Я, кстати, тогда поражался: на что Доренко в профессиональном смысле надеется?!.. Он мог, конечно, расправиться с Примаковым, сказать, что у Евгения Максимовича все суставы вставные. Мог обвинить Лужкова неизвестно в чем! Но я прекрасно понимал, что этой «деятельности» хватит на полгода-год…
— А формально заправлял всем этим разве не Сурков, вряд ли без благословления Березовского являвшийся в 1998-1999гг. первым заместителем генерального директора ОРТ? Сурков и первую свою госдолжность получил сразу же по окончании иформационной войны… Уж очень на награду похоже. Тогда отличился ведь не один Доренко и явно не вопреки начальству.
первым заместителем генерального директора ОРТ? Сурков и первую свою госдолжность получил сразу же по окончании иформационной войны… Уж очень на награду похоже. Тогда отличился ведь не один Доренко и явно не вопреки начальству.
— Вы знаете, есть такая категория людей, агрессивность которых на экране маскирует глубокие личные комплексы. Доренко всегда критиковал власть, потому что никогда во власти не был и не имел туда доступа. А это важно! Я не испытываю от огульной критики власти идеологического кайфа. Я был во власти. Я работал на высшем уровне, писал доклады и речи на закрытых дачах ЦК КПСС, участвовал в международных переговорах. У Доренко такого опыта не было, он видел во власти какую-то магию, и атаковал ее, чтобы быть к ней причастным хотя бы так. Березовский точно угадал суть Доренко и вышел на его «мягкое место». Березовский ведь не просто сделал Доренко своим рупором, он стал брать его во власть — водил на закрытые совещания, советовался, обещал блестящее будущее. Доренко стал человеком, которому доверял сам «великий» Борис Абрамович! — и Доренко, видимо, был этим очарован.
Доренко стал человеком, которому доверял сам «великий» Борис Абрамович! — и Доренко, видимо, был этим очарован.
— Вам не кажется, что современная политическая аналитика порой приобретает фарсовые формы? Вот Глеб Павловский с его мультфильмами… Неужели не нашлось более привлекательного телеведущего, с профессиональными манерами и содержанием передачи, нормальной дикцией, в конце концов?
— Передача Павловского была сделана под конкретный проект, под ситуацию «От Путина к преемнику». Она появилась за три года до президентских выборов 2008 года и через месяц после них была закрыта. Это была программа с четкой политической задачей: создать дополнительный информационный рычаг в преддверии перехода власти или же сохранения Путина у власти. Что касается лично Павловского, то, что бы ни говорили, в политике он разбирается. Хотя, конечно, для ТВ этого недостаточно.
— Да Павловский и не журналист вовсе. К тому же в информбоях той же предвыборной кампании 1999 года Павловский, по мнению многих СМИ, вспоминал о цеховой солидарности в последнюю очередь.
— Знаете, я тоже не журналист. Я — дипломат и политолог. Журналистика просто сфера моей профессиональной занятости, скажем так. Глеба я хорошо знаю за пределами телеэкрана и не хотел бы комментировать его телепрограмму. А о политическом значении его телепередачи я уже сказал.
— Кто из политических аналитиков Вам импонирует?
— Раньше, когда я был совсем молодым, мне нравились некоторые советские политические обозреватели. Я считаю, они были людьми достаточно высокого уровня и пытались быть честными — в свое время и в своих условиях, конечно. Сейчас, честно говоря, у меня с кумирами не очень… Уважение я испытываю к Теду Копполу, который двадцать семь лет вел политическую программу «Ночная линия» на канале ABC. Из наших?.. Михаил Леонтьев — яркий человек. Я знал его еще по работе в «Московских новостях», где я был зам. главного редактора, а Миша главным редактором приложения «Бизнес-МН». Но у него слегка размыта грань между анализом и эмоциями. Толстой, Брилев работают достаточно профессионально, но как чисто информационные журналисты. Специфика государственных каналов состоит в том, что личный анализ там практически невозможен. Все программы чрезвычайно официозны.
Специфика государственных каналов состоит в том, что личный анализ там практически невозможен. Все программы чрезвычайно официозны.
— В чем секрет долголетия Вашего «Постскриптума»? Одиннадцать лет в эфире! Такие гранды канули в небытие за три последних предвыборных кампании! Политаналитика вымирает как жанр?
— Скорее, люди, которые пытаются ею заниматься, не имея достаточной подготовки. А такая подготовка необходима. Масса людей хочет делать аналитические программы. Даже Отар Кушанашвили, который делал «В постели с…» как-то тоже проникся таким желанием… При этом даже диплом МГИМО или МГУ автоматически не означает, что его обладатель может стать политаналитиком. Для начала желательно все-таки написать диссертацию и поработать в этом качестве. Кроме того, необходимо иметь определенный жизненный опыт. Я, к примеру, начинал свою трудовую деятельность в ООН, написал диссертацию по внешней политике США, потом прошел целый ряд крупных структур… Все это, безусловно, сказывается на готовности вести аналитические программы. Важно вот еще что. Не на всех каналах сегодня можно иметь реальную аналитическую программу. В силу разных политических причин руководство канала может начать нервничать от настоящей аналитики, ему гораздо спокойней ограничиться чистой информацией. Поэтому многие так называемые информационно-аналитические программы аналитическими на самом деле не являются.
Важно вот еще что. Не на всех каналах сегодня можно иметь реальную аналитическую программу. В силу разных политических причин руководство канала может начать нервничать от настоящей аналитики, ему гораздо спокойней ограничиться чистой информацией. Поэтому многие так называемые информационно-аналитические программы аналитическими на самом деле не являются.
— То, что Вы говорите с экрана, не всегда может нравиться некоторым высокопоставленным и «большим» людям… Несете какие-нибудь издержки?
— Когда я общаюсь с нашей политической верхушкой, я, конечно же, вижу отношение к моей передаче. В основном оно хорошее или очень хорошее. Иногда мне передают, что кто-то мною очень недоволен. Некоторые на меня жаловались московскому руководству, и неоднократно. Я думаю, и федеральному руководству жаловались. Но, встречая тех, кого я критикую, я вижу, что «Постскриптум» интересен. Я позволю себе процитировать Анатолия Чубайса, которого я критиковал очень много. На последнем экономическом форуме в Давосе он мне сказал: «Вы не поверите, Алексей Константинович, но я смотрю только вас!» Я: «Анатолий Борисович, чем обязан?» Он: «Так больше смотреть нечего.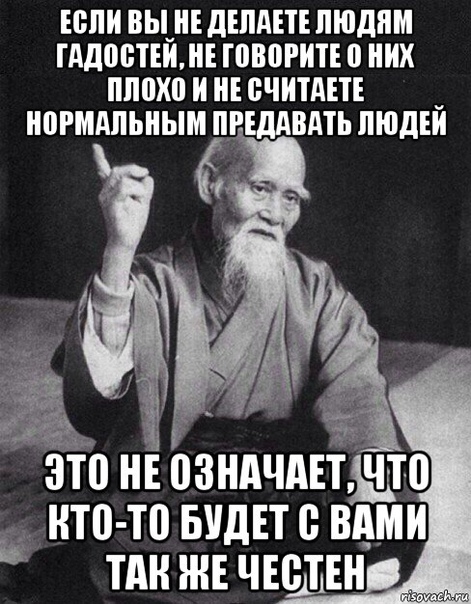 ..» «Это тоже большой комплимент». Чубайс отвечает: «Пожалуй, вы правы». То есть Чубайс хочет быть в курсе идей и размышлений. У меня много горячих сторонников во всех эшелонах власти. Но, может быть, как раз в качестве оценки программы особо показательна позиция идейных оппонентов.
..» «Это тоже большой комплимент». Чубайс отвечает: «Пожалуй, вы правы». То есть Чубайс хочет быть в курсе идей и размышлений. У меня много горячих сторонников во всех эшелонах власти. Но, может быть, как раз в качестве оценки программы особо показательна позиция идейных оппонентов.
— У Вас есть стоп-лист на «ТВ Центре», Алексей Константинович?
— Нет.
— Всех можете пригласить в «Постскриптум»? Александра Лебедева можете? (главный оппонент Лужкова, участвовал в выборах мэра Москвы, — Л.С.)
-…В данном случае дело не в стоп-листах, а в конфликте отношений. А это иное. Мне никто никогда не говорил, что я не могу пригласить Лебедева. Но я допускаю, что появление у меня в «Постскриптуме» Лебедева, являющегося политическим противником главы московского правительства, владеющего «ТВ Центром», может вызвать недовольство у многих членов этого правительства. Но это — нормальные законы общественной, человеческой жизни. Американцы меня часто спрашивают, почему я не критикую Лужкова в своей передаче. Я отвечаю: «Найдите хотя бы один случай, когда бы телекомпания CNN критиковала ее владельца Теда Тернера». Они говорят: «Такого случая не было!» Журналист, который займется критикой, к примеру, того же Тернера, будет вызван к руководству, где ему прямо скажут: «Вы, конечно, имеете право критиковать Тернера, но не на этом канале, потому что это канал Тернера! Идите на СВС, на ABC и критикуйте, там вам никто ничего не скажет…» И это нормальный разговор. В России, как и в любой другой стране мира, действуют такие же негласные законы. Вы можете себе представить, чтобы на старом НТВ сказали, что Гусинский — ужасный олигарх, открывающий ногами двери в кремлевские кабинеты, где, пользуясь своими связями, получает выгодные кредиты? Естественно, такого на НТВ не было и быть не могло. Кстати, тогда на НТВ была жесточайшая цензурная политика и в эфир шло только то, что не противоречило взглядам Гусинского и Малашенко, а еще лучше с ними совпадало. И за этим убежденный демократ господин Малашенко, который сейчас обитает в Нью-Йорке, внимательнейшим образом следил.
Я отвечаю: «Найдите хотя бы один случай, когда бы телекомпания CNN критиковала ее владельца Теда Тернера». Они говорят: «Такого случая не было!» Журналист, который займется критикой, к примеру, того же Тернера, будет вызван к руководству, где ему прямо скажут: «Вы, конечно, имеете право критиковать Тернера, но не на этом канале, потому что это канал Тернера! Идите на СВС, на ABC и критикуйте, там вам никто ничего не скажет…» И это нормальный разговор. В России, как и в любой другой стране мира, действуют такие же негласные законы. Вы можете себе представить, чтобы на старом НТВ сказали, что Гусинский — ужасный олигарх, открывающий ногами двери в кремлевские кабинеты, где, пользуясь своими связями, получает выгодные кредиты? Естественно, такого на НТВ не было и быть не могло. Кстати, тогда на НТВ была жесточайшая цензурная политика и в эфир шло только то, что не противоречило взглядам Гусинского и Малашенко, а еще лучше с ними совпадало. И за этим убежденный демократ господин Малашенко, который сейчас обитает в Нью-Йорке, внимательнейшим образом следил.
— По какому принципу Вы приглашаете людей в «Постскриптум»?
— Приглашаю только тех, кто, с моей точки зрения, имеет значительную социально-политическую ценность. Тех, чьи слова будут действительно важны населению. Кстати, это еще одна причина, по которой у меня в передаче не будет господина Лебедева. Через мою программу прошли практически все ведущие политики.
— Вы были одним из сторонников третьего срока Владимира Владимировича. Не жалеете, что он, пусть отчасти формально, но ушел?
— Я не был в полной мере сторонником третьего срока. Я сторонник упорядоченной эволюции и того, что ее обеспечивает.
— Вашими устами, Алексей Константинович, Горбачев отправил Советский Союз в небытие?
— Никак не моими.
— Ну как же?.. Вы же ему речи писали с 1988 по 1991 год?
— Писал — о необходимости заканчивать «холодную войну», но не распускать СССР. Чисто по-человечески я к Горбачеву отношусь хорошо. Изначально у Горбачева были позитивные мотивы.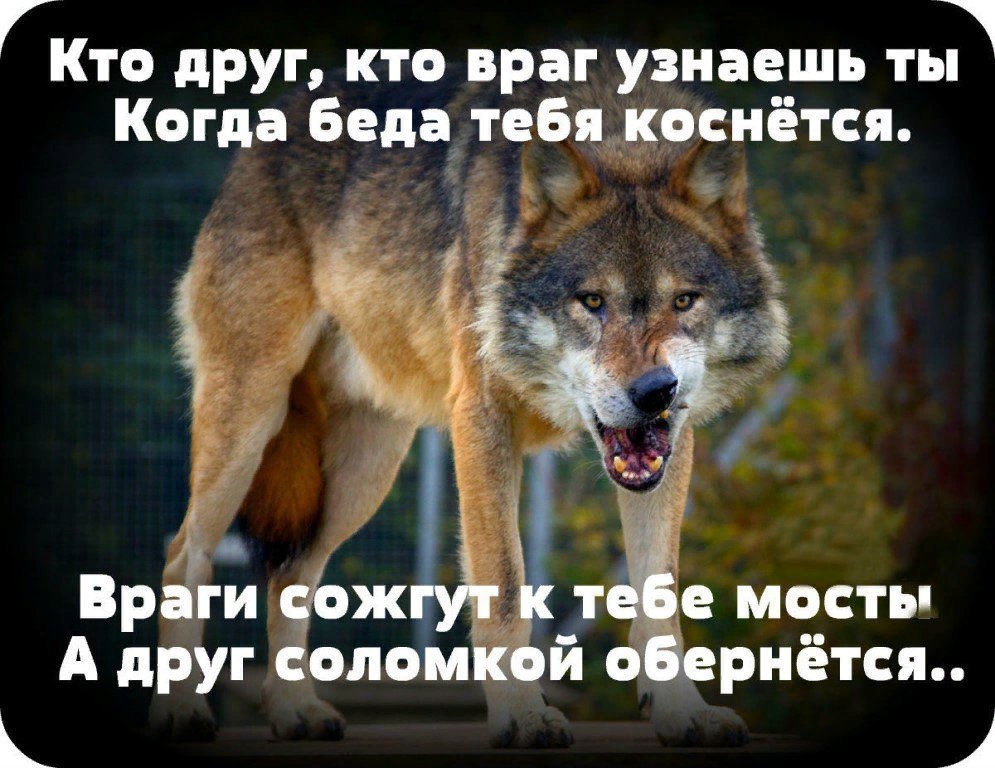 Он не злой. Если бы он был злым человеком, он бы отправил в 87-ом Бориса Николаевича либо первым секретарем в Сахалинский обком партии, либо отправил бы его послом в Монголию, где Борис Николаевич успешно бы спился…
Он не злой. Если бы он был злым человеком, он бы отправил в 87-ом Бориса Николаевича либо первым секретарем в Сахалинский обком партии, либо отправил бы его послом в Монголию, где Борис Николаевич успешно бы спился…
— …для Советского Союза было бы лучше, если бы Михаил Сергеевич был злым!
— …Он еще и очень нерешительный человек! Я Михаила Сергеевича спрашивал: «Не жалеете, что, убрав Ельцина из политбюро, не сделали его послом в Монголии?» Он отвечает: «Да нет, это было бы неправильно… Хотя, может быть, и стоило». Тогда Горбачев полностью утратил контроль над ходом событий. Поэтому как к политику я к Михаилу Сергеевичу отношусь негативно. Он согласился на уход из Восточной Германии без каких-либо компенсаций для СССР. Пятнадцать миллиардов марок, которые ему тогда заплатил Коль — это просто смешно. Надо было просить двести миллиардов! И нам бы их за объединение Германии дали. Трехсотпятидесятитысячное войско, которое было у нас в Германии, мы не смогли как следует разменять! Мы могли потребовать на договорной основе от НАТО, чтобы оно не расширяло свои владения. В Восточную Германию они войска-то не вводят, как и обещали. Но зато вводят в НАТО Польшу и Прибалтику, что гораздо ближе к нашим границам. Госсекретарь США Джеймс Бейкер дважды приезжал в Москву и говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что готов идти на многое ради объединения Германии. Спрашивал, какие нужны гарантии, договоры… Шеварднадзе оба раза отвечал: «Мы с друзьями не торгуемся!» Эта ситуация описана в книге американского историка Майкла Бешлосса и политика Строба Тэлботта «На высшем уровне». Позже мне подтвердил достоверность этих фактов Александр Бессмертных, который участвовал в этих переговорах.
В Восточную Германию они войска-то не вводят, как и обещали. Но зато вводят в НАТО Польшу и Прибалтику, что гораздо ближе к нашим границам. Госсекретарь США Джеймс Бейкер дважды приезжал в Москву и говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что готов идти на многое ради объединения Германии. Спрашивал, какие нужны гарантии, договоры… Шеварднадзе оба раза отвечал: «Мы с друзьями не торгуемся!» Эта ситуация описана в книге американского историка Майкла Бешлосса и политика Строба Тэлботта «На высшем уровне». Позже мне подтвердил достоверность этих фактов Александр Бессмертных, который участвовал в этих переговорах.
— Почему они так отвечали?
— Потому что в Советском Союзе происходило бог знает что! Нарастало социальное недовольство. Власть долбила межрегиональная группа. В некоторых республиках начались волнения. Власти на все не хватало. С одной стороны, внешняя политика была самой заметной частью деятельности Горбачева: конец «холодной войны»! Да, но на каких условиях?! Исключительно на условиях Запада! Горбачев там все проиграл, но не выиграл и дома. Но надо понимать: когда начинается обвал такой системы, действительно трудно все проконтролировать. У Горбачева не хватало личной интеллектуальной и политической силы, чтобы выстоять. А вокруг него были лишь люди конъюнктурного типа. Я думаю, Шеварднадзе, скорее всего, уже тогда все понял и стал зарабатывать себе очки на Западе. Думаю, что его действия были осознанны, он понимал, к чему все это идет…
Но надо понимать: когда начинается обвал такой системы, действительно трудно все проконтролировать. У Горбачева не хватало личной интеллектуальной и политической силы, чтобы выстоять. А вокруг него были лишь люди конъюнктурного типа. Я думаю, Шеварднадзе, скорее всего, уже тогда все понял и стал зарабатывать себе очки на Западе. Думаю, что его действия были осознанны, он понимал, к чему все это идет…
— Это больше похоже на правду.
— Но это касательно Шеварднадзе. А Горбачева? До конца не могу понять, о чем он думал тогда.
— У Вас была компетенция зайти к нему и спросить?
— Нет, тогда не было. Я был в группе его спичрайтеров, а не помощником. Отвечали за эти вопросы Шахназаров, Остроумов, Черняев. Они могли зайти и что-то сказать. Я находился во втором эшелоне. Мы писали аналитические записки, которые ложились на стол Горбачеву, их представляли на политбюро, а также речи.
— В то время Вы именно так, как сейчас, представляли себе ситуацию в стране и мире? Или считали, что все в порядке?
— С общим направлением, что надо реформировать систему и заканчивать «холодную войну», я был согласен. Но ход событий повергал меня в очень глубокий шок. Я видел, что в ЦК КПСС народ запоем читает антикоммунистическую прессу. Я говорил коллегам: «Вы понимаете, что система не реформируется, а рушится? А когда она рухнет, будет катастрофа!» Мне отвечали: «Да ладно тебе, ты преувеличиваешь!» То, что наступает конец, я окончательно понял после отставки Шеварднадзе на съезде народных депутатов в 1990 году — «в знак протеста против надвигающейся диктатуры». Я был в зале. Это был очень драматический съезд. Горбачев ведь тогда предложил Шеварднадзе стать вице-президентом. (В итоге стал Янаев). Но Шеварднадзе отказался. Он чувствовал, что разделение на два лагеря: либералов, куда входил Александр Яковлев, и консерваторов, где был и председатель российской компартии Полозков, Крючков, и будущие члены ГКЧП, закончится острым конфликтом. Он понимал, что Горбачев в своем слабом центризме не удержит ситуацию. В то время работа для меня стала большим бременем. Я понимал, что работаю в обреченной структуре, уже неспособной к выживанию.
Но ход событий повергал меня в очень глубокий шок. Я видел, что в ЦК КПСС народ запоем читает антикоммунистическую прессу. Я говорил коллегам: «Вы понимаете, что система не реформируется, а рушится? А когда она рухнет, будет катастрофа!» Мне отвечали: «Да ладно тебе, ты преувеличиваешь!» То, что наступает конец, я окончательно понял после отставки Шеварднадзе на съезде народных депутатов в 1990 году — «в знак протеста против надвигающейся диктатуры». Я был в зале. Это был очень драматический съезд. Горбачев ведь тогда предложил Шеварднадзе стать вице-президентом. (В итоге стал Янаев). Но Шеварднадзе отказался. Он чувствовал, что разделение на два лагеря: либералов, куда входил Александр Яковлев, и консерваторов, где был и председатель российской компартии Полозков, Крючков, и будущие члены ГКЧП, закончится острым конфликтом. Он понимал, что Горбачев в своем слабом центризме не удержит ситуацию. В то время работа для меня стала большим бременем. Я понимал, что работаю в обреченной структуре, уже неспособной к выживанию. И стал вести переговоры с руководством МИДа — о переходе на дипломатическую работу. Этот переход должен был состояться в сентябре 1991 года. Но не состоялся.
И стал вести переговоры с руководством МИДа — о переходе на дипломатическую работу. Этот переход должен был состояться в сентябре 1991 года. Но не состоялся.
— А Вы не хотели свой уход осуществить раньше, демаршем?
— Я против демаршей — они дурно пахнут, в основном, желанием продаться подороже. И всегда с большим подозрением относился к тому, что у нас называлось «демократическим движением». А тогда можно было уходить только к демократам, где было много демагогии. Я видел среди демократов людей, которые прекрасно существовали в рамках советской системы, были передовыми комсомольцами, членами парткомов, имели прекрасные квартиры, а потом выяснилось, что они вдруг стали страшными демократами, просто, оказывается, они в себе всю жизнь подавляли свои убеждения! Лучший пример тому — Юрий Афанасьев. Была среди демократов масса желающих оказаться на гребне любой волны. Были попросту голодные люди, убеждения которых диктовались отсутствием доступа к цековскому буфету. Были, конечно, и крупные фигуры, страдавшие за свои убеждения. .. Солженицын, Сахаров… Хотя, я считаю, что окружение Сахарова, и прежде всего жена Елена Боннэр, его во многом использовали, наваривая себе тем самым очки на Западе. Ельцина я поначалу считал фактором демократизации, поскольку самим своим несогласием он делал систему более свободной. Но лично Ельцин мне никогда не нравился. А после событий 1993 года я от него окончательно отвернулся.
.. Солженицын, Сахаров… Хотя, я считаю, что окружение Сахарова, и прежде всего жена Елена Боннэр, его во многом использовали, наваривая себе тем самым очки на Западе. Ельцина я поначалу считал фактором демократизации, поскольку самим своим несогласием он делал систему более свободной. Но лично Ельцин мне никогда не нравился. А после событий 1993 года я от него окончательно отвернулся.
— Сейчас, встречаясь с Михаилом Сергеевичем, напоминаете ему о его странном поведении в те сложные времена?
— Иногда напоминаю. Михаил Сергеевич не раз бывал в студии «Постскриптума». Подчас он обижается. Однажды сказал мне: «Слушай! Ты меня с Борисом через запятую не ставь». Это в одной из программ я выразился: «Тенденции, характерные для Горбачева, Ельцина…» Михаил Сергеевич оскорбился. Он Ельцина презирал, хотя и проиграл ему. Если бы не было Горбачева, то Ельцин никогда бы не стал руководителем страны. Потому что только такой человек, как Горбачев, мог не увидеть той опасности, которая исходила от Ельцина для всей страны и для него лично.
— И все-таки, Алексей Константинович, с трудом верится в личную слабость человека, прошедшего горнила ЦК КПСС… Господин Гозман, например, утверждает, что Горбачев был опутан Западом политически связанными кредитами.
— Да, есть еще и «теория заговора». Будто Горбачева с самого начала вели американцы. Но то, о чем вы говорите, знать может только сам Горбачев; может быть, Ельцин, но он уже ушел в мир иной; и, может, кто-то за пределами нашей страны — один-два человека. Поэтому это всегда будет сферой спекуляций, а истину мы не узнаем.
— В «Постскриптуме» Вы уделяете много критического внимания купеческим нравам современных олигархов. Апогеем разнузданности которых, по-моему, стала дикая выходка Прохорова, устроившего в филиале Военно-морского музея, на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге гламурно-алкогольную вакханалию…
— Я, конечно же, не умиляюсь по поводу скандалов в Куршавеле или прыгания в нетрезвом виде с крейсера «Аврора» в Неву. Но я не являюсь и моралистом. Поведение олигархов — не главная проблема нашего общества. Просто верхи в России еще не научились пользоваться своим богатством сдержанно и со вкусом. В них еще гуляет купеческая удаль нуворишей. Лично я не сильно переживаю по этому поводу, но отмечаю такие эпизоды в своей программе потому, что считаю, общество должно знать, какая у него элита. А элита должна знать, что о ней думает общество. У нас вся Рублевка набросилась на французскую полицию за то, что та позволила себе задать ряд вопросов крупному олигарху. Я тогда сказал, что если олигарх не хочет, чтобы ему задавали вопросы во Франции, он может приглашать знакомых девушек куда-нибудь под Москву или под Санкт-Петербург. И ему никто не будет задавать вопросов…
Поведение олигархов — не главная проблема нашего общества. Просто верхи в России еще не научились пользоваться своим богатством сдержанно и со вкусом. В них еще гуляет купеческая удаль нуворишей. Лично я не сильно переживаю по этому поводу, но отмечаю такие эпизоды в своей программе потому, что считаю, общество должно знать, какая у него элита. А элита должна знать, что о ней думает общество. У нас вся Рублевка набросилась на французскую полицию за то, что та позволила себе задать ряд вопросов крупному олигарху. Я тогда сказал, что если олигарх не хочет, чтобы ему задавали вопросы во Франции, он может приглашать знакомых девушек куда-нибудь под Москву или под Санкт-Петербург. И ему никто не будет задавать вопросов…
— Лучше под Москву, Алексей Константинович. У нас-то прокуратура начала проверку по факту гулянки на «Авроре».
— Я слышал, конечно, что такая проверка началась, но, думаете, это чем-нибудь закончится? Вряд ли.
— Можно сказать, что Вы представляете левый фланг в современном российском политическом спектре?
— Нет, я не левый. Есть такое понятие на Западе — социальный консерватор. Левые стремятся изменить существующую систему радикальным способом. Я же против революций. Я — идейный противник большевизма, равно как и радикализма либерального образца. Считаю, что реформы должны проводиться продуманно и постепенно, а не так, как, в свое время, проводил монетизацию нынешний посол на Украине… При этом я считаю, что консерватизм не означает господство и тотальную вседозволенность правящих классов. Но люди должны десять раз подумать, прежде чем менять существующие устои. В XIX веке возникла мифология, поддерживаемая левыми революционными силами и социал-демократами, что любые изменения — к лучшему. Ничего подобного! Вспомните хотя бы режим «красных кхмеров» в Камбодже. Для того, чтобы изменения были к лучшему, прежде надо очень серьезно над этим работать. Вот посмотрите… Мы отказались от «холодной войны». Что — мир сильно улучшился? На самом деле, после договоренностей 1970-х годов между Советским Союзом и США никакой серьезной угрозы ядерной войны не было.
Есть такое понятие на Западе — социальный консерватор. Левые стремятся изменить существующую систему радикальным способом. Я же против революций. Я — идейный противник большевизма, равно как и радикализма либерального образца. Считаю, что реформы должны проводиться продуманно и постепенно, а не так, как, в свое время, проводил монетизацию нынешний посол на Украине… При этом я считаю, что консерватизм не означает господство и тотальную вседозволенность правящих классов. Но люди должны десять раз подумать, прежде чем менять существующие устои. В XIX веке возникла мифология, поддерживаемая левыми революционными силами и социал-демократами, что любые изменения — к лучшему. Ничего подобного! Вспомните хотя бы режим «красных кхмеров» в Камбодже. Для того, чтобы изменения были к лучшему, прежде надо очень серьезно над этим работать. Вот посмотрите… Мы отказались от «холодной войны». Что — мир сильно улучшился? На самом деле, после договоренностей 1970-х годов между Советским Союзом и США никакой серьезной угрозы ядерной войны не было. Все уже было под контролем. Был договор о противоракетной обороне. Подписывались договоры о сокращении наступательных вооружений. Но вот после «холодной войны», мы, как выражался Олдос Хаксли, вступили в прекрасный новый мир. И что мы увидели? Первую войну в Европе после Второй мировой войны! Я имею в виду Югославию, бомбардировки Белграда, разрушение мостов через Дунай. Через двенадцать лет после распада СССР мы увидели захват Ирака, крупного суверенного государства, члена ООН. Раньше американцы себе такого не позволяли. Они могли позволить себе лишь захват Гренады, маленького острова у них под боком. А еще 11 сентября, теракты, Афганистан. Ну, и кто скажет, что мир после «холодной войны» лучше прежнего мира? Да, границы открылись, появились свободы — это большой плюс. Но в лице Советского Союза исчез противовес американской мощи и эта вседозволенность завела Америку в тупик. Избрание Барака Обамы — это признание самой Америкой полного тупика идеи однополярного мира. Нынешний мир может стать лучше мира времен «холодной войны», но над этим надо работать.
Все уже было под контролем. Был договор о противоракетной обороне. Подписывались договоры о сокращении наступательных вооружений. Но вот после «холодной войны», мы, как выражался Олдос Хаксли, вступили в прекрасный новый мир. И что мы увидели? Первую войну в Европе после Второй мировой войны! Я имею в виду Югославию, бомбардировки Белграда, разрушение мостов через Дунай. Через двенадцать лет после распада СССР мы увидели захват Ирака, крупного суверенного государства, члена ООН. Раньше американцы себе такого не позволяли. Они могли позволить себе лишь захват Гренады, маленького острова у них под боком. А еще 11 сентября, теракты, Афганистан. Ну, и кто скажет, что мир после «холодной войны» лучше прежнего мира? Да, границы открылись, появились свободы — это большой плюс. Но в лице Советского Союза исчез противовес американской мощи и эта вседозволенность завела Америку в тупик. Избрание Барака Обамы — это признание самой Америкой полного тупика идеи однополярного мира. Нынешний мир может стать лучше мира времен «холодной войны», но над этим надо работать.
— Кстати, об обществе… Вы ведь являетесь членом Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Отчего у нас так и нет гражданского общества, Алексей Константинович?
— У нас есть элементы гражданского общества. В отсутствие полной диктатуры не бывает так, чтобы гражданского общества не было вообще. При этом и в старых демократиях для гражданского общества есть большие угрозы. Принято считать, что в Англии — развитое гражданское общество. Но оно полностью контролируется телекамерами! В Англии функционируют три с половиной миллиона устройств, следящих за жизнью британцев! И их количество постоянно увеличивается…
— …»Большой брат» по Оруэллу…
— Именно. Когда в обществе на каждые 18-20 человек приходится по камере, меня это начинает смущать. В Америке есть гражданское общество? Есть. Но оно не помешало Джоржу Бушу издать исполнительный указ (американские президенты действуют указами, когда они опасаются, что сенат заблокирует их запрос) о том, что можно вскрывать почту и прослушивать телефоны без судебных санкций. Для борьбы с терроризмом. Чейни до сих пор борется за то, чтобы эти нормы в Америке сохранились. Гражданское общество Америки что-то кричало по этому поводу, но, пока не пришел Обама, ничего ведь не менялось. И еще вопрос: а действительно ли изменилось что-то сейчас? Гражданское общество требовало от Обамы закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Но американский сенат не дает ему на это денег. Дик Чейни публично заявил, что пытки позволяют спасти жизни сотен тысяч людей. Так является ли гражданским общество, поставленное под контроль «Большого брата»? Поэтому на упреки американцев в отсутствии в России гражданского общества я отвечаю, что их гражданское общество не смогло воспрепятствовать антиконституционным действиям администрации Буша. Хотя, конечно, у нее в этом плане проблем побольше.
Для борьбы с терроризмом. Чейни до сих пор борется за то, чтобы эти нормы в Америке сохранились. Гражданское общество Америки что-то кричало по этому поводу, но, пока не пришел Обама, ничего ведь не менялось. И еще вопрос: а действительно ли изменилось что-то сейчас? Гражданское общество требовало от Обамы закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Но американский сенат не дает ему на это денег. Дик Чейни публично заявил, что пытки позволяют спасти жизни сотен тысяч людей. Так является ли гражданским общество, поставленное под контроль «Большого брата»? Поэтому на упреки американцев в отсутствии в России гражданского общества я отвечаю, что их гражданское общество не смогло воспрепятствовать антиконституционным действиям администрации Буша. Хотя, конечно, у нее в этом плане проблем побольше.
— Зато телекамер меньше.
— Слава Богу, в силу невысокого технологического развития. Кстати, высокое технологическое развитие не всегда является благом. Пилоты современных самолетов, например, говорят, что перенасыщенность воздушных лайнеров электроникой является новым фактором риска.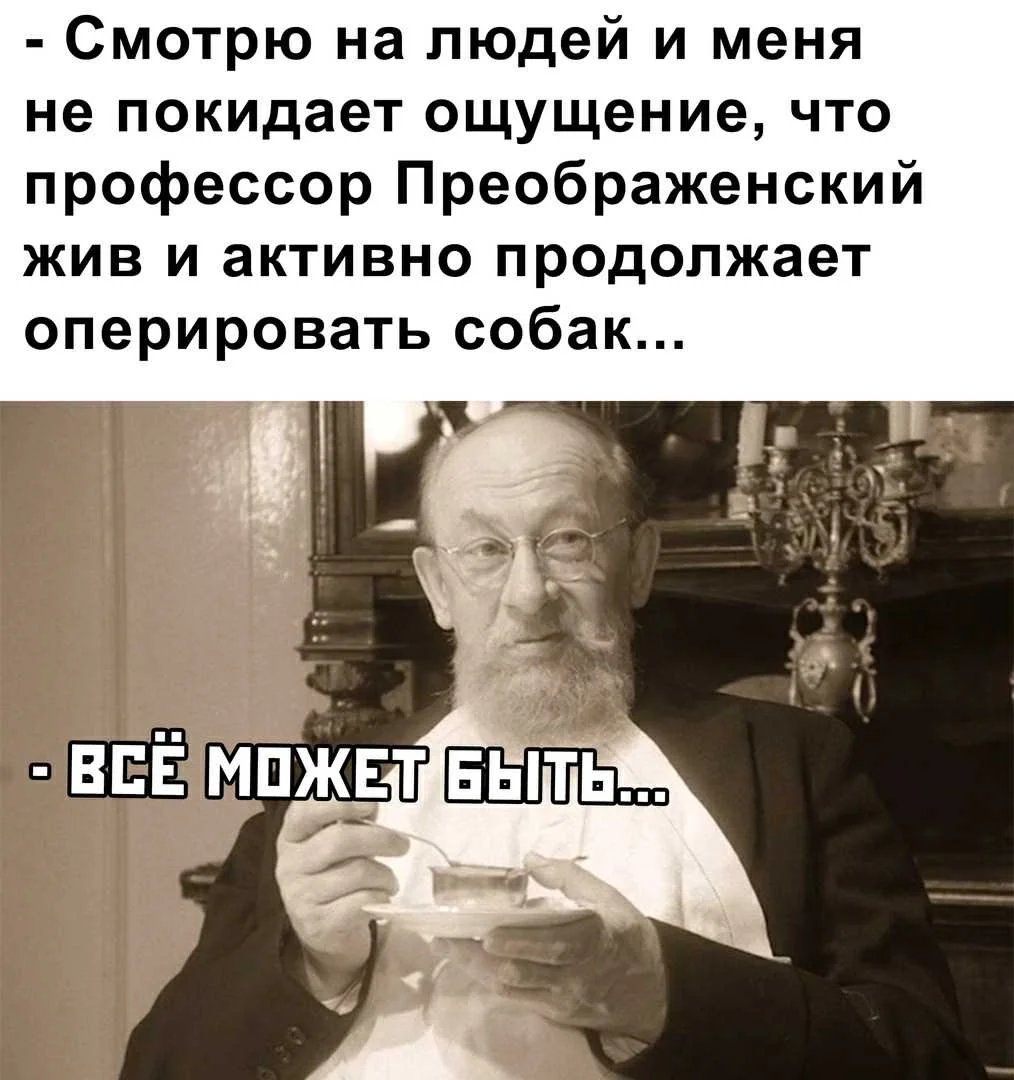 Если раньше в кризисной ситуации пилот мог вручную посадить самолет, то сегодня, когда удар молнии вырубит всю электронику, пилоту остается лишь закрыть глаза и ждать смерти, потому что у него нет никакой механической возможности повлиять на ситуацию. Так же и телекамеры. И если это — прогресс, то лучше без такого прогресса. Недавно Спилберг снял фильм «Minority report» — «Особое мнение». Это фильм-антиутопия об Америке 2058 года. Там показан такой уровень технического прогресса, при котором по квартирам граждан бродят электронные пауки, сверяющие сетчатку глаза у человека. Выявляют таким образом беглых преступников. Иногда они ошибаются… «Малая плата» за демократию! Вы спите, к вам подползает паучок, сканируя сетчатку глаза. Я бы не хотел жить в таком обществе. Спилберг — мыслящий человек, из американских режиссеров один из самых лучших. И вот он почему-то сделал этот фильм, который не получил ни «Оскара», ничего! Такие фильмы в США не поощряются. Американское общество чрезвычайно управляемо.
Если раньше в кризисной ситуации пилот мог вручную посадить самолет, то сегодня, когда удар молнии вырубит всю электронику, пилоту остается лишь закрыть глаза и ждать смерти, потому что у него нет никакой механической возможности повлиять на ситуацию. Так же и телекамеры. И если это — прогресс, то лучше без такого прогресса. Недавно Спилберг снял фильм «Minority report» — «Особое мнение». Это фильм-антиутопия об Америке 2058 года. Там показан такой уровень технического прогресса, при котором по квартирам граждан бродят электронные пауки, сверяющие сетчатку глаза у человека. Выявляют таким образом беглых преступников. Иногда они ошибаются… «Малая плата» за демократию! Вы спите, к вам подползает паучок, сканируя сетчатку глаза. Я бы не хотел жить в таком обществе. Спилберг — мыслящий человек, из американских режиссеров один из самых лучших. И вот он почему-то сделал этот фильм, который не получил ни «Оскара», ничего! Такие фильмы в США не поощряются. Американское общество чрезвычайно управляемо. Я только что приехал из Германии… Там тоже — все от сих до сих прописано. И только если вы полностью выполняете эти писаные и неписаные нормы жизни в полном объеме — вы «свободны».
Я только что приехал из Германии… Там тоже — все от сих до сих прописано. И только если вы полностью выполняете эти писаные и неписаные нормы жизни в полном объеме — вы «свободны».
Гравюра Пола Ревира с изображением Бостонской резни, 1770 г.
Главная › Гравюра Пола Ревира, изображающая Бостонскую резню, 1770 г. , город с 15 000 жителей, и напряженность накалялась. Вечером 5 марта толпы поденщиков, подмастерьев и торговых матросов начали забрасывать британских солдат снежками и камнями. Раздался выстрел, затем несколько солдат выстрелили из своего оружия. Когда все закончилось, пятеро мирных жителей лежали мертвыми или умирали, в том числе Криспус Аттакс, афроамериканский моряк-торговец, бежавший из рабства более двадцати лет назад.
Созданная всего через три недели после Бостонской резни, историческая гравюра Пола Ревера «Кровавая резня на Кинг-Стрит» была, вероятно, самым эффективным образцом военной пропаганды в американской истории. Не точное описание реального события, оно показывает стройную линию британских солдат, стреляющих в американскую толпу, и включает стихотворение, которое, вероятно, написал Ревир.
Вот несколько элементов, которые Пол Ревер использовал в своей гравюре для формирования общественного мнения:
- Британцы выстроились в шеренгу, и офицер отдает приказ стрелять, подразумевая, что британские солдаты являются агрессорами.
- Показано, как колонисты реагируют на британцев, хотя на самом деле они напали на солдат.
- Лица британцев острые и угловатые, в отличие от более мягких и невинных черт американцев. Это делает британцев более угрожающими.
- Похоже, британские солдаты наслаждаются насилием, особенно солдат в дальнем конце.
- Колонисты, в основном рабочие, одеты как джентльмены. Повышение их статуса может повлиять на то, как люди их воспринимают.
- Единственные два знака на изображении, которые вы можете прочитать, это «Мясной зал» и «Таможня», оба висят прямо над британскими солдатами.

- Позади толпы стоит расстроенная женщина. Это сыграло на представлениях восемнадцатого века о рыцарстве.
- Кажется, в окне под вывеской «Мясная лавка» сидит снайпер.
- Собаки, как правило, символизируют верность и верность. Собаку на гравюре не беспокоит беспредел позади него, и она смотрит на зрителя.
- Небо изображено таким образом, что кажется, что оно проливает свет на «зверства» британцев.
- Криспус Аттакс виден в левом нижнем углу. Во многих других существующих копиях этой гравюры он не изображен афроамериканцем.
- Изображенные погодные условия не соответствуют показаниям, данным на суде над солдатом (нет снега).
- Позиция солдат указывает на агрессивную военную позицию.
Другие интересные факты
- В первом издании время на часах было неверным. Ревер немедленно исправил это.
- На суде над британскими солдатами судья впервые употребил фразу «разумные сомнения».
- Один из британских солдат по имени Пирс Батлер ушел из армии и стал владельцем плантации в Южной Каролине.
 В 1787 году он был назначен делегатом Конституционного конвента.
В 1787 году он был назначен делегатом Конституционного конвента.
Как перестать чувствовать себя спровоцированным партнером
Как перестать чувствовать себя спровоцированным вашим партнером
В своем последнем блоге я писал о некоторых психологических причинах, по которым нас раздражает наш партнер в отношениях. Я исследовал, почему напряженность может нарастать так быстро, и ситуация может накаляться до того, как кто-либо из участников успевает понять, что происходит. Эти конфликты могут быть достаточно чреваты для некоторых людей, чтобы закончить отношения. Другие могут обратиться за консультацией. Тем не менее, многие пары просто попадают в шаблон ссоры, помириться, двигаться дальше, ссориться, помириться, двигаться дальше, что только оставляет напряженность и провоцирует стать более чувствительными.
Чего многие из нас не осознают, когда чувствуем себя спровоцированными партнером, так это того, что наша личная история, а также «критический внутренний голос» в наших головах влияют на то, что нас спровоцировало и почему.
1. Изучите свои триггеры
Мы можем начать с изучения наших триггеров. Это может показаться очевидным, но часто, когда мы чувствуем себя слишком реактивными или разочарованными нашим партнером, мы не совсем понимаем, почему мы так взволнованы. Более того, мы не спрашиваем себя: «Почему я так реагирую на это конкретное поведение моего партнера? Почему меня 
Например, мужчина, с которым я разговаривал, описывал чувство стыда всякий раз, когда его жена давала ему совет. Он чувствовал себя смущенным и снисходительным, и обычно реагировал оборонительно. Другая женщина недавно рассказала мне, как ее бесило, когда ее партнер поднимал постороннюю тему посреди разговора. Она чувствовала, что он не обращает внимания, и что она не имеет для него значения. В обоих случаях вызываемые болезненные чувства почти всегда приводили к напряженным взаимодействиям.
Замечая, какие вещи нас провоцируют, мы можем лучше понять себя и свое прошлое. Чтобы исследовать это глубже, мы можем сидеть с чувствами, когда они вызываются, и делать то, что доктор Дэниел Сигел называет 9.0062 ПРОСЕИВАЙТЕ сознание на любые возникающие S ощущения, I маги, F угри или T мысли. Делая это, мы можем получить подсказки о переживаниях раннего детства, которые были первоначальным источником наших сильных эмоциональных реакций.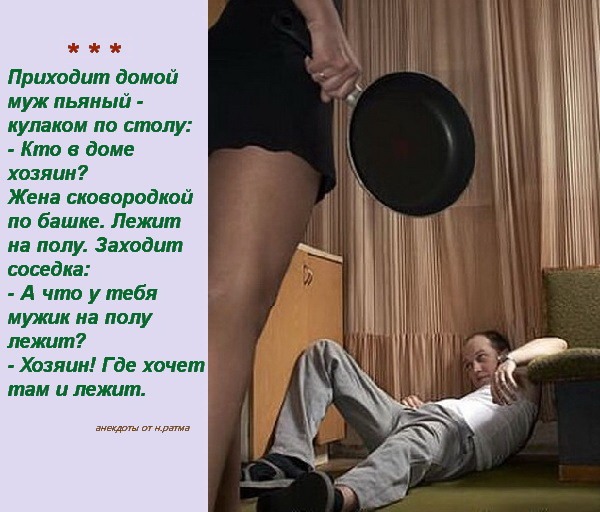
2. Обратите внимание на свой критический внутренний голос
По мере того, как мы узнаем свои триггеры, мы должны в равной степени осознавать критический внутренний голос или негативный внутренний комментарий, который наполняет наши головы, когда мы чувствуем возбуждение. Например, когда я спросил упомянутого выше человека, что он говорил себе, когда его жена давала ему инструкции, он описал, что у него были такие мысли, как:
Когда ее также попросили раскрыть свои критические внутренние голоса, женщина, которая ненавидела, когда ее партнер поднимал другую тему в середине разговора, сказала, что сначала голоса атаковали ее партнера: Он такой эгоистичный. Он никогда тебя не слушает! Почему он меняет тему? Но вскоре мысли переключились на нападки на себя: Ты не важна. Никто не хочет слышать, что вы хотите сказать.
Он никогда тебя не слушает! Почему он меняет тему? Но вскоре мысли переключились на нападки на себя: Ты не важна. Никто не хочет слышать, что вы хотите сказать.
Критический внутренний голос может быть подобен искажающему фильтру, через который мы обрабатываем то, что происходит. Поэтому, когда мы отвечаем нашему партнеру, мы реагируем не только на то, что он сделал или сказал, но и на интерпретацию нашего внутреннего критика того, что передается. Этот критик склонен преувеличивать, неверно истолковывать и заострять внимание на негативе, поэтому замечать его и противодействовать ему с более реалистичным, сострадательным взглядом как на нашего партнера, так и на нас самих, является ключом к тому, чтобы не слишком остро реагировать на нашего партнера.
3. Установите связи с прошлым
Любого человека раздражает, что его партнер контролирует, жалуется, ворчит или холоден. Однако, когда наша эмоциональная реакция на поведение нашего партнера кажется особенно интенсивной или когда наш критический внутренний голос становится особенно громким, это часто является признаком того, что что-то из нашего прошлого используется.
Например, при дальнейшем исследовании мужчина, который нападал на себя за глупость и жалость, когда его жена давала ему советы, чувствовал себя особенно расстроенным, когда она смотрела на него так, как он воспринимал как родительский или дисциплинирующий. Он вспомнил, как его ругала мама, которая часто говорила ему, насколько он некомпетентен в выполнении домашних дел. Наряду с выговором, она будет учить его, как поступать «правильно». Его отец также читал ему длинные лекции, в которых выражалось его глубокое разочарование в сыне. Чувство стыда, вызванное предложениями его жены, было очень похоже на то, что он чувствовал в детстве, когда его наказывали и читали лекции.
Женщина, у которой были «голоса» о том, что она была неважной или неинтересной, когда ее партнер сменил тему, большую часть своего детства провела в одиночестве и молчании. Она часто чувствовала себя игнорированной в своей семье, которая мало интересовалась тем, что она говорила. Когда она действительно говорила, ее часто затыкали и определяли как темпераментную и громкую. Гнев, который она испытала, когда ее партнер прервал ее, был сильным, потому что его поведение разожгло все те старые чувства, что ее игнорируют и не важны в ее семье.
Она часто чувствовала себя игнорированной в своей семье, которая мало интересовалась тем, что она говорила. Когда она действительно говорила, ее часто затыкали и определяли как темпераментную и громкую. Гнев, который она испытала, когда ее партнер прервал ее, был сильным, потому что его поведение разожгло все те старые чувства, что ее игнорируют и не важны в ее семье.
4. Сядьте с чувством
Отношения — это рассадник для пробуждения эмоций. Один простой инструмент, который мы можем использовать, когда чувствуем себя потрясенными, — это просто сделать паузу. Сделайте несколько глубоких вдохов, прежде чем мы ответим. Когда есть время, мы должны попытаться просеять свой разум, чтобы исследовать ощущения, образы, чувства и мысли, возникшие во время взаимодействия. Мы можем использовать другую аббревиатуру Зигеля COAL для обозначения C urious, O pen, A ccepting и L идти навстречу тому, что появляется. Подходя к нашим реакциям с любопытством, добротой и осознанностью, замечая их, но не позволяя им взять верх над нами, мы вооружаем себя инструментом, который помогает нам не быть рабами своих непосредственных импульсов и реакций.
Подходя к нашим реакциям с любопытством, добротой и осознанностью, замечая их, но не позволяя им взять верх над нами, мы вооружаем себя инструментом, который помогает нам не быть рабами своих непосредственных импульсов и реакций.
5. Возьми под контроль свою половинку своей половинки динамичной
В отношениях легко замечать недостатки в партнерах и хотеть, чтобы они изменились. Однако единственный человек, на которого мы имеем полную возможность влиять, — это мы сами. У нас есть 100% возможностей изменить свою половину динамики. Когда что-то, что делает наш партнер, вызывает у нас триггер, мы должны спросить себя: «Что я сделал прямо перед тем, как он отреагировал?» Иногда ответом будет ничего. Однако в большинстве случаев у другого человека может быть паттерн или поведение, которым мы занимаемся. Взгляд на самих себя не означает, что мы должны брать на себя всю вину в наших отношениях или что мы несем единоличную ответственность за то, что чувствует другой человек, но это упражнение в саморефлексии позволяет нам лучше узнать себя и бросить вызов любым способам поведения, которые недопустимы. вредит себе или нашему партнеру и может создать ненужную дистанцию в отношениях.
вредит себе или нашему партнеру и может создать ненужную дистанцию в отношениях.
6. Совместное общение
Когда мы начинаем понимать наши усиленные реакции, мы можем искать более совместный и предстоящий подход к общению с нашим партнером. Когда пары ссорятся, обычно срабатывают оба. У обоих критические внутренние голоса в голове и пробуждаются старые эмоции. Лучшее, что мы можем сделать в жаркие моменты, — это по-настоящему выслушать нашего партнера. Мы должны попытаться услышать, что они переживают, чтобы мы могли лучше понять, что происходило в их головах и как они воспринимали ситуацию. Это дает и нам, и нашему партнеру возможность проследить первоначальный триггер, который запустил каждого из нас. Это также позволяет нам проявлять сострадание к тому, что переживает наш партнер, и отделять то, что он думает и говорит, от фильтра нашего критического внутреннего голоса.
Когда мы предпринимаем шаги, чтобы успокоиться и понять внутреннюю работу наших реакций, мы можем распространить это сострадательное, любознательное отношение на нашего партнера.


 В 1787 году он был назначен делегатом Конституционного конвента.
В 1787 году он был назначен делегатом Конституционного конвента.