Как спали горничные в англии в 1843 году: где спали горничные в Англии 150 лет назад
английские слуги. Недобрая старая Англия [Maxima-Library]
Мир под лестницей: английские слуги
В 1851 году более миллиона англичан были в услужении, а в 1891 году, уже на закате викторианской эпохи, мы получим и более точные цифры — 1 386 167 женщин и 58 527 мужчин. Даже самые небогатые семьи старались нанять хотя бы одну служанку — так называемую maid of all works, которой приходилось и стряпать, и заниматься уборкой. Поднимаясь выше по общественной лестнице, мы встретим большее число слуг, не говоря уже об аристократических домах, где слуги исчислялись сотнями. Например, в конце XIX века шестой герцог Портленд держал 320 слуг мужского и женского пола.
В услужение шли выходцы из низов, в основном из сельской местности. С развитием железных дорог провинциальные хозяйки негодовали, что теперь днем с огнем не сыщешь хороших горничных — все крестьянки подались в Лондон, где платили получше и где был шанс встретить достойного мужа.
Нанимали прислугу несколькими способами.
Но в городах затеи милой старины уже не пользовались спросом, так что слуг принято было искать через биржи труда или агентства по занятости, а то и через знакомых. Перед наймом соискатель места показывал рекомендательные письма, и горе тому, кто решился бы их подделать — это было дело подсудное. Въедливые хозяйки обращались к предыдущим хозяевам какой-нибудь Мэри или Нэнси, чтобы выяснить, чистоплотная ли она, действительно ли хорошо выполняет свои обязанности, не водится ли за ней склонность к воровству.
В 1844 году сатирический журнал «Панч» опубликовал пародию на такой запрос:
«Сударыня! Поскольку Бриджет Дастер желает получить место единственной горничной в моем доме, я прошу Вас, ее бывшую хозяйку, сообщить, подходит ли она для выполнения столь серьезных обязательств. В прошлом я настрадалась от дерзости и подлости слуг (которые, по моему мнению, посланы исключительно для того, чтобы терзать приличных людей), и посему прошу вас не сердиться на некоторую скрупулезность моих расспросов… Признаться, я довольна внешностью Бриджет. Еще никогда не доводилось мне видеть таких глубоких оспин… А чем невзрачнее прислуга на вид, тем лучше. Неказистая внешность это что-то вроде дешевой униформы для горничных, предназначенной им самой природой: указывает им их место и отвращает от всяких глупостей. Пока что Бриджет кажется достойной кандидатурой…
В прошлом я настрадалась от дерзости и подлости слуг (которые, по моему мнению, посланы исключительно для того, чтобы терзать приличных людей), и посему прошу вас не сердиться на некоторую скрупулезность моих расспросов… Признаться, я довольна внешностью Бриджет. Еще никогда не доводилось мне видеть таких глубоких оспин… А чем невзрачнее прислуга на вид, тем лучше. Неказистая внешность это что-то вроде дешевой униформы для горничных, предназначенной им самой природой: указывает им их место и отвращает от всяких глупостей. Пока что Бриджет кажется достойной кандидатурой…
Я надеюсь, она трезвого образа жизни. А то ведь когда служанки настолько некрасивые, они порою прикладываются к бутылке, дабы отомстить природе. Тут уж как ни запирай бренди, все равно от них не убережешь. А посуду Бриджет не бьет ли? Я всегда взыскиваю деньги за разбитую посуду, но за мои нервы кто заплатит? Кроме того, слуги могут перебить столько посуды, что и жалованья не хватит. Честна ли Бриджет? Тут, сударыня, извольте отвечать поточнее, ведь я уже столько раз обманывалась в людях.
Рекомендательные письма показывают, насколько зависимым было положение слуг. Хотя хозяев убедительно просили не клеветать на бывших работников, равно как и не хвалить их незаслуженно, многие не отказывали себе в удовольствии испортить прислуге жизнь. Доказать клевету было практически невозможно. Мнение, высказанное в рекомендации, считалось субъективным, а людям свойственно ошибаться, не так ли? Разве это преступление?
Иногда слуги, совсем отчаявшись, подавали в суд на хозяев, отнявших у них шанс на работу.
Если нанять служанку мог даже мелкий банковский клерк, слуга считался символом престижа. С 1777 года каждый наниматель должен был платить налог в размере 1 гинеи за слугу мужского пола — таким образом правительство надеялось покрыть расходы в войне с американскими колониями. Ничего удивительного, что именно мужчины главенствовали в мире под лестницей.
Горничные. Рисунок из журнала «Панч». 1869
Мужской прислугой командовал дворецкий (butler). Иногда он занимался чисткой столового серебра, которое простой прислуге не доверишь, но в целом был выше физического труда. В его ведении находились все ключи, а также винный погреб, что служило дворецкому немалым преимуществом — он заключал сделки с торговцами вином и получал от них комиссионные. Дворецкий объявлял гостей и следил за тем, чтобы блюда за торжественным обедом подавались вовремя, мог приглядывать и за гардеробом хозяина, но не помогал ему одеваться — это обязанность камердинера (valet).
Личный слуга хозяина, камердинер, готовил ему ванну поутру и одежду на выход, собирал багаж для путешествий, заряжал его ружья, прислуживал за столом. Идеальный камердинер, «джентльмен джентльмена», это, разумеется, Дживс, герой рассказов П. Г. Вудхауза — даже в XX веке он блюдет викторианские ценности. Услугами камердинера пользовались холостяки или же престарелые джентльмены, которым требовался постоянный присмотр.
Визитной карточкой лакея (footman) была его представительная внешность. На эту должность брали мужчин высоких, статных и обязательно с красивыми ногами, чтобы икры хорошо смотрелись в обтягивающих чулках. Облаченный в ливрею, лакей прислуживал за столом и своим видом придавал торжественность моменту. Кроме того, лакеи разносили письма, открывали гостям дверь, приносили подносы из кухни и поднимали прочие тяжести (хотя карикатуры изображают, как лакей несет поднос со стопкой писем, в то время как горничная, надрываясь, тащит ведро с углем). Когда госпожа отправлялась по магазинам, лакей почтительно следовал за ней и нес покупки.
Владения мужской прислуги простирались и за пределами дома. Огромную роль в поместье играли садовники (gardener), создававшие настоящие шедевры в английских парках. В городских домах садовник был приходящим, он наведывался раз в неделю, чтобы подстричь лужайку и привести в порядок палисад. В работу на конюшне были вовлечены такие слуги, как кучер, конюх, грум, мальчики на побегушках и т. д. Согласно стереотипам, кучера были необразованными, плохо подготовленными к такой работе, жестокими с лошадьми, ленивыми пьянчугами, еще и вороватыми в придачу. Но поскольку викторианцы сурово относились к любой прислуге, ничего удивительного, что и о кучерах они были невысокого мнения.
В работу на конюшне были вовлечены такие слуги, как кучер, конюх, грум, мальчики на побегушках и т. д. Согласно стереотипам, кучера были необразованными, плохо подготовленными к такой работе, жестокими с лошадьми, ленивыми пьянчугами, еще и вороватыми в придачу. Но поскольку викторианцы сурово относились к любой прислуге, ничего удивительного, что и о кучерах они были невысокого мнения.
К кучеру (coachman) предъявлялись следующие требования: он должен был отлично управляться с лошадьми, отличаться трезвым образом жизни, аккуратностью, пунктуальностью, хладнокровием во всех обстоятельствах. Для городского кучера умение хорошо водить карету было насущной необходимостью, поскольку лавировать по улицам было не так уж просто. В идеале городские кучера должны были проходить тренировку, т. е. служить подмастерьем у другого кучера. Для сельского кучера столь тщательной подготовки не требовалось. Его могли взять, что называется, от сохи. Если главным недостатком городского кучера было то, что рано или поздно он начинал кичиться своим положением, сельские кучера были по большей части ленивы — лошади заражались их апатией и еле ползли по дороге.
Семьи побогаче могли позволить себе еще и грума (groom). Его жалованье в 1870-х начиналось от 60 фунтов в год и могло достигать 200–300 фунтов. Хороший грум с детства находился при лошадях и учился полезным навыкам у старших по рангу слуг. Хотя слово «грум» зачастую применяют к любым слугам, занятым в конюшне, в первую очередь оно означает работника, нанятого специально, чтобы содержать лошадей в наилучшей форме. Грум надзирал за чисткой лошадей, их рационом, прогулками и т. д.
Грум также сопровождал хозяев на конной прогулке, но скакал чуть поодаль, позади господ. Справочник по этикету 1866 года советует джентльменам захватывать с собой грума, если во время поездки будут присутствовать дамы. Дамам не советовали скакать в одиночестве, за исключением разве что сельской местности. Что касается незамужних особ, им следовало отправляться на прогулку не только в сопровождении грума, но еще и какого-нибудь джентльмена, находящегося в доверии у их семей. Наверное, чтобы они приглядывали друг за другом — а не допустит ли кто из них какой-нибудь вольности?
Дамам не советовали скакать в одиночестве, за исключением разве что сельской местности. Что касается незамужних особ, им следовало отправляться на прогулку не только в сопровождении грума, но еще и какого-нибудь джентльмена, находящегося в доверии у их семей. Наверное, чтобы они приглядывали друг за другом — а не допустит ли кто из них какой-нибудь вольности?
Работой большой конюшни руководил старший конюх (head-ostler, foreman). Слабохарактерные люди на этой работе не задерживались. Чтобы держать штат в ежовых рукавицах, старшему конюху надлежало быть настоящим тираном, но вместе с тем человеком трезвым, ответственным и справедливым. Среди всего прочего, он закупал корм и следил за его качеством, мог договариваться с торговцами, приглашать рабочих для починки конюшни или вызывать ветеринара. Впрочем, не все старшие конюхи немедленно вызывали ветеринара в случае необходимости. Некоторые гордились тем, что и сами могут лечить лошадей, в одиночку или, на худой конец, позвав кузнеца на подмогу. Результаты такой самодеятельности зачастую были печальными.
Результаты такой самодеятельности зачастую были печальными.
Что касается женской прислуги, самой высокопоставленной должностью являлась гувернантка (governess), принадлежавшая к среднему классу. Но именно гувернантка и выбивалась из иерархии, потому что сами викторианцы не знали, куда ее отнести — к хозяевам или к слугам. Настоящей начальницей белых фартуков и чепцов являлась экономка (housekeeper), коллега, а порою и соперница дворецкого. Нанимать и рассчитывать горничных, закупать продукты, присматривать за работой по дому — вот лишь некоторые из ее обязанностей. Опытная экономка с легкостью отличала молодую баранину от старой, готовила вкуснейшие варенья и соленья, знала, как сохранить яблоки в течение зимы и мастерски нарезала окорок. Ее интересы простирались дальше буфета: среди всего прочего, экономка присматривала за поведением горничных, которым только дай завести кавалера! Английская литература сохранила немало образов экономок: тут и приветливая миссис Фэйрфакс, так радушно принявшая Джен Эйр, и недалекая миссис Гроуз из романа Генри Джеймса «Поворот Винта», и глубоко трагичный персонаж миссис Денверс из романа Дафны дю Морье «Ребекка». Но самый яркий тандем дворецкого и экономки, безусловно, запечатлен в романе японца Катцуо Исигуро «Остатки дня» — история невысказанной любви и утраченных возможностей на фоне огромного старинного поместья.
Но самый яркий тандем дворецкого и экономки, безусловно, запечатлен в романе японца Катцуо Исигуро «Остатки дня» — история невысказанной любви и утраченных возможностей на фоне огромного старинного поместья.
Хозяйка и горничная. Рисунок из журнала «Кэсселс». 1887
Личная горничная, или камеристка (lady’s maid), была женским эквивалентом камердинера. На эту работу претендовали особы миловидные, с покладистым нравом и грамотные. Камеристка помогала хозяйке причесываться и одеваться, чистила ее платья и стирала кружева и белье, заправляла ее постель, сопровождала во время путешествий. До массового производства кремов и шампуней все эти средства готовились в домашних условиях, зачастую камеристками. Пособия для слуг предлагают рецепты лосьонов от веснушек, бальзамов от прыщей, зубных паст (например, на основе меда и толченого угля). Очень часто камеристкам доставались поношенные платья хозяйки, так что и одевались они гораздо лучше остальной прислуги. По меркам XIX века, это была весьма престижная профессия.
Как утверждает «Руководство для слуг» 1831 года, «кулинария — это, строго говоря, наука, а кухарка — профессор» [17]. Действительно, приготовить обед в середине XIX века было настоящим подвигом, поскольку обеды состояли из нескольких блюд, включая пару десертов, а кухонное оборудование было весьма примитивным. По крайней мере, о такой роскоши, как духовка с температурным режимом, можно было лишь мечтать. Кухарка (cook) сама решала, как довести огонь в духовке (а то и в открытом очаге) до нужной температуры и не только не сжечь блюдо, но и угодить взыскательным вкусам хозяев. Работа была очень ответственная, учитывая, что к еде англичане относились со всей серьезностью. Добавить сюда нехватку эффективных моющих средств (в ход шла сода, зола, песок), отсутствие холодильников и миллиона современных приспособлений, муссирование тревожных слухов о вредных добавках, и становится ясно — работать на кухне было сложнее, чем в иной лаборатории.
От кухарки требовалась чистота, обширные познания в кулинарии и быстрая реакция. В зажиточных домах к кухарке приставляли помощницу, которая отвечала за уборку кухни, крошила овощи и стряпала несложные блюда. Незавидная обязанность мыть тарелки, сковородки и кастрюли доставалась судомойке (scullery maid). Халатность судомойки могла стоить жизни всей семье! По крайней мере, именно так вещали пособия по домоводству, предупреждавшие об опасности медных кастрюль, на которых выступает ядовитая патина, если их как следует не просушить.
В зажиточных домах к кухарке приставляли помощницу, которая отвечала за уборку кухни, крошила овощи и стряпала несложные блюда. Незавидная обязанность мыть тарелки, сковородки и кастрюли доставалась судомойке (scullery maid). Халатность судомойки могла стоить жизни всей семье! По крайней мере, именно так вещали пособия по домоводству, предупреждавшие об опасности медных кастрюль, на которых выступает ядовитая патина, если их как следует не просушить.
В городских семьях среднего класса принято было держать как минимум трех служанок: кухарку, горничную и няню. Горничные (housemaids, parlourmaids) занимались работой по дому, причем рабочий день мог растянуться на 18 часов. Почти весь год он начинался и заканчивался при свечах, с 5–6 утра до тех пор, пока семья не отправлялась спать. Горячая пора наступала во время сезона, длившегося с середины мая до середины августа. Это была пора развлечений, обедов, приемов и балов, во время которых родители подыскивали выгодных женихов для дочек. Для слуг же сезон оборачивался кошмаром, поскольку они отправлялись спать за полночь, лишь с уходом последних гостей. А просыпаться приходилось в обычное время, спозаранку.
Для слуг же сезон оборачивался кошмаром, поскольку они отправлялись спать за полночь, лишь с уходом последних гостей. А просыпаться приходилось в обычное время, спозаранку.
Труд горничных был тяжелым и нудным. В их распоряжении не было ни пылесосов, ни стиральных машин, ни прочей бытовой техники. Более того, когда достижения прогресса появились в Англии, хозяева не стремились их покупать. Зачем тратиться на машину, если ту же самую работу может выполнить человек? Коридоры в старинных усадьбах тянулись чуть ли не на милю, и их требовалось скрести вручную, стоя на коленях. Этой работой занимались горничные самого низшего звена, зачастую девочки 10–15 лет, так называемые tweenies. Поскольку работать приходилось рано утром, в темноте, они зажигали свечу и толкали ее перед собой по мере продвижения по коридору. И, разумеется, воду для них никто не грел. От постоянного стояния на коленях развивалось гнойное воспаление околосуставной слизистой сумки. Недаром это заболевание называется housemaid’s knee — «колено горничной».
Ханна Каллвик, горничная и одна из известнейших мемуаристок XIX века, так описывала свой типичный рабочий день 14 июля 1860 года: «Открыла ставни и зажгла огонь на кухне. Вытряхнула золу со своих вещей в мусорную яму, туда же выбросила всю золу. Подмела и вытерла пыль во всех комнатах и в зале. Разожгла огонь и отнесла наверх завтрак. Почистила две пары ботинок. Заправила постели и вынесла ночные горшки. Убрала со стола после завтрака. Помыла посуду, столовое серебро и ножи. Отнесла обед. Снова прибралась. Привела в порядок кухню, распаковала корзину с покупками. Двух цыплят отнесла миссис Брюэрс, передала хозяйке ее ответ. Испекла пирог и выпотрошила двух уток, потом зажарила их. Стоя на коленях, вымыла крыльцо и тротуар перед ним. Натерла графитом скребок перед ступенями, затем вычистила тротуар на улице, тоже стоя на коленях. Вымыла посуду. Прибралась в кладовке, тоже на коленях, и дочиста выскребла столы. Вымыла тротуар возле дома и протерла подоконники. В девять забрала на кухне чай для мистера и миссис Уорвик. Я была в грязной одежде, так что чай наверх отнесла Энн. Вымыла сортир, коридор и пол в судомойне, тоже на коленях. Вымыла собаку, потом вычистила раковины. Принесла ужин, который Энн отнесла наверх — я была слишком грязной и усталой, чтобы самой туда идти. Вымылась в ванне и пошла спать» [18].
Я была в грязной одежде, так что чай наверх отнесла Энн. Вымыла сортир, коридор и пол в судомойне, тоже на коленях. Вымыла собаку, потом вычистила раковины. Принесла ужин, который Энн отнесла наверх — я была слишком грязной и усталой, чтобы самой туда идти. Вымылась в ванне и пошла спать» [18].
Помимо основных обязанностей, слугам доставались еще и довольно странные задания. От горничных иногда требовалось проглаживать утреннюю газету утюгом и сшивать страницы по центру, чтобы хозяину было удобнее читать. Господа с параноидальными наклонностями любили проверять своих служанок, засовывая под ковер монету. Если девушка забирала деньги, значит, нечиста на руку, если же монета оставалась на месте — значит, плохо мыла полы!
Интересно, что прислугу более высокого ранга — вроде дворецкого или камеристки — называли исключительно по фамилии. Вспомнить, хотя бы, Дживса из рассказов Вудхауза — настоящий реликт викторианской эпохи. Его хозяин, шалопай Берти Вустер, называет его исключительно по фамилии, и лишь случайно мы узнаем имя неутомимого камердинера — Реджинальд. Экономкам и кухаркам доставался почетный титул «миссис» вдобавок к фамилии, даже если они никогда не были замужем. Служанок попроще звали по именам, и то не всегда.
Экономкам и кухаркам доставался почетный титул «миссис» вдобавок к фамилии, даже если они никогда не были замужем. Служанок попроще звали по именам, и то не всегда.
В некоторых семьях горничной придумывали новое имя, если ее имя уже «застолбила» одна из барышень или же простоты ради. Ведь служанки приходят и уходят, так зачем забивать голову их именами? Проще звать каждую новую Мэри или Сьюзен. Шарлотта Бронте упоминает и собирательное имя горничных — Абигайль.
В середине XIX века горничная среднего звена получала 6–8 фунтов в год, не считая денег на чай, сахар и пиво. Впрочем, журнал «Кэсселс» не советовал платить служанкам традиционные «деньги на пиво». Если горничная пьет пиво, то уж наверняка будет бегать за ним в кабак, источник всяческих неприятностей. Если же не пьет, то зачем развращать ее лишними деньгами? Хотя кухарки считали кости, шкурки кроликов, тряпки и свечные огарки своей законной добычей, «Кэсселс» и тут подставил им подножку. Специалисты по домоводству настаивали, что там, где служанкам позволено забирать себе остатки и ошметки, неминуемо начнется воровство..jpg) Лишь хозяйка должна решать, кого чем одаривать. Кухарки ворчали на таких советчиков, ведь продажа шкурок старьевщикам приносила хоть и маленький, но приятный довесок к жалованью.
Лишь хозяйка должна решать, кого чем одаривать. Кухарки ворчали на таких советчиков, ведь продажа шкурок старьевщикам приносила хоть и маленький, но приятный довесок к жалованью.
Личная горничная хозяйки в середине века получала 12–15 фунтов в год плюс деньги на дополнительные расходы, ливрейный лакей — 13–15 фунтов в год, камердинер — 25–50. Кроме того, 26 декабря, в так называемый День подарков (Boxing day), прислуге доставалась одежда или деньги. Помимо жалованья, слуги рассчитывали и на чаевые от гостей. При отъезде гостя вся прислуга выстраивалась в один-два ряда возле двери, так что для людей, стесненных в средствах, раздача чаевых была кошмаром наяву. Иной раз они могли отклонить приглашение только из страха показаться бедняком. Ведь если слуга получал скупую подачку, то при следующем посещении гостя мог игнорировать или переиначивать его приказы — с жадиной незачем церемониться.
Откладывая сбережения, слуги из богатых домов могли накопить значительную сумму, особенно если хозяева не забывали упомянуть их в завещаниях. После выхода на пенсию бывшие слуги нередко подавались в торговлю или открывали свое дело, хотя некоторые пополняли ряды лондонских нищих — тут уж как карта ляжет. Любимые слуги, в частности нянюшки, доживали свой век с хозяевами.
После выхода на пенсию бывшие слуги нередко подавались в торговлю или открывали свое дело, хотя некоторые пополняли ряды лондонских нищих — тут уж как карта ляжет. Любимые слуги, в частности нянюшки, доживали свой век с хозяевами.
Англичане предпочитали, чтобы слуг можно было отличать по одежде. Когда горничная поступала на службу, в своем жестяном сундучке — непременном атрибуте служанки — у нее обычно лежали три платья: простое платье из хлопчатобумажной ткани, которое надевали по утрам, черное платье с белым чепцом и фартуком, которое носили днем, и выходное платье. Средняя стоимость платья для горничной в 1890-х годах равнялась 3 фунтам — т. е. полугодовому жалованью несовершеннолетней горничной, только начавшей работать. Помимо платьев, горничные покупали себе чулки и туфли, и эта статья расходов была бездонным колодцем, ведь из-за беготни по лестницам обувь снашивалась быстро.
В традиционную униформу лакеев входили брюки до колена и яркий сюртук с фалдами и пуговицами, на которых был изображен фамильный герб, если таковой у семьи имелся. Дворецкий, король прислуги, носил фрак, но более простого покроя, чем фрак хозяина. Особой вычурностью отличалась униформа кучера — начищенные до блеска высокие сапоги, яркий сюртук с серебряными или медными пуговицами и шляпа с кокардой.
Дворецкий, король прислуги, носил фрак, но более простого покроя, чем фрак хозяина. Особой вычурностью отличалась униформа кучера — начищенные до блеска высокие сапоги, яркий сюртук с серебряными или медными пуговицами и шляпа с кокардой.
Лакей в клубе. Рисунок из журнала «Панч». 1858
Викторианский дом был построен так, чтобы разместить два отличных друг от друга класса под одной крышей. Для вызова прислуги устанавливали систему звонков, со шнурком или кнопкой в каждой комнате и панелью в подвале, на которой было видно, из какой комнаты пришел вызов. Хозяева проживали на первом, втором и иногда третьем этаже. У камердинера и камеристки были комнаты, зачастую смежные со спальней хозяев, кучер и грум жили в помещениях возле конюшни, а у садовников и дворецких могли быть небольшие коттеджи.
Глядя на такую роскошь, слуги нижнего звена наверняка думали: «Везет же некоторым!» Им приходилось спать на чердаке, а работать — в подвале. Когда газ и электричество стали широко использоваться в домах, их редко проводили на чердак — по мнению хозяев, это было непозволительной тратой. Горничные ложились спать при свечах, а холодным зимним утром обнаруживали, что вода в кувшине замерзла и чтобы хорошо умыться, потребуется как минимум молоток. Сами же чердачные помещения не отличались эстетическими изысками — серые стены, голые полы, матрасы с комками, потемневшие зеркала и растрескавшиеся раковины, а также мебель в разной стадии умирания.
Горничные ложились спать при свечах, а холодным зимним утром обнаруживали, что вода в кувшине замерзла и чтобы хорошо умыться, потребуется как минимум молоток. Сами же чердачные помещения не отличались эстетическими изысками — серые стены, голые полы, матрасы с комками, потемневшие зеркала и растрескавшиеся раковины, а также мебель в разной стадии умирания.
От подвала до чердака — большое расстояние, а хозяевам вряд ли понравится, если слуги снуют по дому без веской на то причины. Эта проблема решалась наличием двух лестниц — парадной и черной. Лестница, этакая граница между мирами, прочно вошла в викторианский фольклор, но для слуг она была настоящим орудием пытки. Им приходилось носиться по ней вверх и вниз, таская тяжелые ведра с углем или с горячей водой для ванны. В то время как господа обедали в столовой, слуги столовались на кухне. Их рацион зависел от доходов семьи и от щедрости хозяев. В некоторых домах обед для слуг включал холодную птицу, овощи, ветчину, в других прислугу держали впроголодь. Особенно это относилось к детям и подросткам, за которых некому было заступиться.
Особенно это относилось к детям и подросткам, за которых некому было заступиться.
До начала XIX века слугам не полагались выходные. Каждая минута их времени всецело принадлежала хозяевам. Но в XIX веке хозяева стали давать служанкам выходные или разрешать им принимать родственников (но ни в коем случае не ухажеров!). А королева Виктория устраивала ежегодный бал для дворцовых слуг в замке Балморал.
Отношения между хозяевами и слугами зависели от многих факторов — и от общественного положения хозяев, и от их характера. Обычно чем более родовитой была семья, тем лучше в ней относились к прислуге. Аристократам с длинной родословной не требовалось самоутверждения за счет прислуги, они и так знали себе цену. В то же время нувориши, чьи предки относились к «подлому сословию», могли третировать слуг, тем самым подчеркивая свое превосходство. Следуя завету «возлюби ближнего своего», часто господа заботились о слугах, передавали им поношенную одежду и вызывали врача, случись им заболеть, но это вовсе не означало, что прислугу считали равной себе. Барьеры между классами поддерживались даже в церкви — в то время как господа занимали передние скамьи, их горничные и лакеи садились на задних рядах.
Барьеры между классами поддерживались даже в церкви — в то время как господа занимали передние скамьи, их горничные и лакеи садились на задних рядах.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес19 поразительных деталей истории, которые ошарашат кого-угодно
Зачастую мы изучаем историю довольно однобоко: нам становится известно только то, что захотели рассказать преподаватели в школе или вузе. Или же мы воспринимаем историческое событие или личность так, как нам его хочет представить наше государство, именно с его точки зрения. Поэтому, как правило, человек упускает множество интереснейших подробностей и нюансов, которые могут кардинальным образом изменить его отношение к тому или иному историческому факту. Мы представляем вашему вниманию 20 любопытных деталей, узнав которые вы наверняка пересмотрите свои взгляды на историю.
Мы представляем вашему вниманию 20 любопытных деталей, узнав которые вы наверняка пересмотрите свои взгляды на историю.
Красиво? Гитлер рисовал
Музыканты, которые до последнего играли на «Титанике», чтобы успокоить паникующих людей
Иранские девушки до исламской революции
Оставшиеся тени людей после взрыва ядерной бомбы в Хиросиме
Как представляли технологии будущего французские иллюстраторы 1924 года
Кольцо викинга IX века с выгравированной надписью: «На все воля Аллаха»
«Мария отходит ко сну», Франция, 1896 год. Первый порнофильм в истории кинематографа
В начале ХХ века героин выписывали от кашля
Так делали дороги в Древнем Риме
А так вставляли зубы
Форму для нацистов шил знаменитый Hugo Boss
Оружие полиции Нью-Йорка в 1864 году
Просто подводная лодка времен Первой мировой войны — ничего необычного, листайте дальше
Аргентавис — возможно, это самая большая птица, когда-либо обитавшая на Земле
Перед тем как попасть в руки Гитлера, свастика была древним символом удачи в течение 3 000 лет
«Удачная рыбалка».
 СССР, 1924 год
СССР, 1924 год«Мы знаем, что вы будете жить лучше нас» — послание молодежи 1967 года для молодежи 2017 года
Так спали горничные в Англии, 1843 год
А так выглядела Германия в 1930-х годах
Источник: Adme.ru
Поделитесь этим постом со своими друзьями!
Быт провинциальной усадьбы и русские писатели первой половины XIX века
Слово «провинциальный», согласно толковому словарю русского языка, в переносном смысле означает «наивный» и «простоватый». Образ провинции в нашем сознании часто связывается с образом детства: беззаботные дни, проведенные в окружении природы; простые, незамысловатые игры и забавы; удаленность от суеты большого города, порождающая навсегда запоминающиеся мысли и переживания. Будучи взрослыми, мы тянемся к провинции как к некому источнику отдыха и вдохновения. Для людей, занятых творческим трудом, в том числе писателей, это особенно актуально. Поэтому не случайно многие исследователи-филологи склонны считать провинциальные усадьбы своеобразной колыбелью русской литературы, выделяя особое направление в литературоведении — литературное краеведение.
Определение этого направления дается в сборнике «Литературное Подмосковье», вышедшем в 1998 году:
«Литературное краеведение — один из способов познания литературы, позволяющий прикоснуться к процессу отражения в художественном произведении реальных впечатлений писателя от тех мест, где он родился, жил, останавливался, встречался с родными, близкими по духу людьми» [6, с. 3].
«Это жизнь истинная и вечная, как вечна та природа, которая своей могущественной красотой звала к себе наших лучших писателей издревле, вдохновляя их, согревая теплом уютных усадеб, побуждая к благородной деятельности и паломнической подвижности. Место жизни литератора и писательский дом в представлении читателей обладают особенной атмосферой духовности. Они помогают познать внутренний мир писателя, изучить его биографию, творческие связи, художественное наследие» [6, с. 5].
Изучение усадебного быта позволяет не только выявить истоки литературного произведения, но и многое объясняет в характере, мировоззрении автора, его образе жизни и привычках. С русской провинцией, в частности, Подмосковьем неразрывны судьбы поэтов и писателей: А.Д. Кантемира, П.А. Вяземского, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, С.Т. Аксакова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко и др.
С русской провинцией, в частности, Подмосковьем неразрывны судьбы поэтов и писателей: А.Д. Кантемира, П.А. Вяземского, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, С.Т. Аксакова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко и др.
К жизни и деятельности Н.В. Гоголя, например, непосредственное отношение имеют Абрамцево, Большие Вяземы, Волынское, Константиново, Можайск, Мураново, Никольское, Остафьево, Перхушково, Серпухов, Спасское, Подольск, Троице-Сергиева лавра, Троицкое-Кайнарджи, Химки, Черная Грязь и многие другие места.
В.И. Новиков в книге «Остафьево: Литературные судьбы XIX века» замечает: «Русская классическая литература — от Державина до Бунина — тесно связана с жизнью дворянской усадьбы. Именно там великие писатели (Пушкин в Захарове, Лермонтов в Тарханах, Блок в Шахматове) уже в детстве познакомились с живым источником народности. Они созревали как личности в условиях усадебного быта и впоследствии всю жизнь были связаны с этим бытом. В „деревне“ жили прототипы их героев. Нельзя забывать и то, что многие из литературных усадеб сами являются высокохудожественными произведениями искусства. Остафьево, Середниково, Мураново представляют собой уникальный синтез архитектуры и поэзии» [11, с. 3-4].
В „деревне“ жили прототипы их героев. Нельзя забывать и то, что многие из литературных усадеб сами являются высокохудожественными произведениями искусства. Остафьево, Середниково, Мураново представляют собой уникальный синтез архитектуры и поэзии» [11, с. 3-4].
Большинство бывших усадеб теперь являются государственными музеями-заповедниками, в которых воссозданы интерьеры и атмосфера прежних лет. Они ведут активную культурную жизнь, постоянно развиваются и пополняют свои коллекции. Всем известны музеи в Абрамцеве, Муранове, Мелихове, Середникове, Захарове, Даровом, Спас-Углу и т.д. Мемориальные места отличаются высокой степенью духовной гармонии. Такова усадьба Абрамцево, где в 80-е годы XIX столетия в художественном кружке Саввы Мамонтова собирались и творили художники Васнецов, Поленов, Головин, Коровин, Врубель, Левитан, Серов, Крамской.
О. Шевелева пишет: «Усадебная бытовая культура изменялась и эволюционировала вместе с усадьбой. Во второй половине XIX века усадебный быт приобретает новые черты, что было связано с постепенным перемещением усадебных художественно-культурных центров из крупных поместий в усадьбы, принадлежавшие художественной интеллигенции и просто творческим людям. В них во второй половине XIX века формируется новый тип усадебного мира, в котором природа, искусство, общение единомышленников, жизненный строй и духовная атмосфера сливались в некое единое целое, а архитектурная среда отступала на второй план. На характере усадебного бытия сказывалась также характерная для этого времени мифологизация усадебного быта, осознание усадьбы как некоего универсального символа российского бытия. Усадебный дом с фамильными портретами, старые слуги и парк, преданья старины представали живыми свидетелями истории, связывающими прошлое с настоящим» [19, с. 1].
В них во второй половине XIX века формируется новый тип усадебного мира, в котором природа, искусство, общение единомышленников, жизненный строй и духовная атмосфера сливались в некое единое целое, а архитектурная среда отступала на второй план. На характере усадебного бытия сказывалась также характерная для этого времени мифологизация усадебного быта, осознание усадьбы как некоего универсального символа российского бытия. Усадебный дом с фамильными портретами, старые слуги и парк, преданья старины представали живыми свидетелями истории, связывающими прошлое с настоящим» [19, с. 1].
Говоря о прошлом, мы привыкли его идеализировать. Представление современного человека о «волшебном мире старинной помещичьей усадьбы» часто исчерпывается музейной экспозицией и поэтическими цитатами из классиков. За этой лакировкой скрываются подлинные, не всегда столь поэтичные, а скорее обыденные быт и нравы российской провинции. Рассмотрим их несколько ближе, чем позволяет интерьер любого музея.
В исследовании историка и музееведа Л. В. Беловинского понятие «усадьба» трактуется как «место непосредственного, постоянного или временного пребывания помещика» [2, с. 200], в отличие от «имения», где владелец мог и не жить совсем.
В. Беловинского понятие «усадьба» трактуется как «место непосредственного, постоянного или временного пребывания помещика» [2, с. 200], в отличие от «имения», где владелец мог и не жить совсем.
Согласно искусствоведческим источникам, расцвет русской усадьбы приходится на вторую половину XVIII — первые годы XIX века. Интенсивное усадебное строительство началось после обнародования «закона о вольности дворянской» в 1763 году. Дворяне получили право не служить и удалились в свои имения, где и начали обстраиваться, проявляя незаурядный художественный вкус. Идея была проста: усадьба помещика должна была символизировать в миниатюре незыблемость и могущество Российской империи. Особенно широко строительство развернулось в Подмосковье, наиболее близком к крупнейшему просветительскому центру России — Москве.
Загородную усадьбу старались ставить вблизи от деревни или села, принадлежавшего владельцу, но не вплотную к избам, а в несколько сот сажен от них. Владения богатого помещика были достаточно обширны и могли составлять 7 десятин (казенная десятина составляла чуть более гектара, а хозяйственная — в полтора раза больше).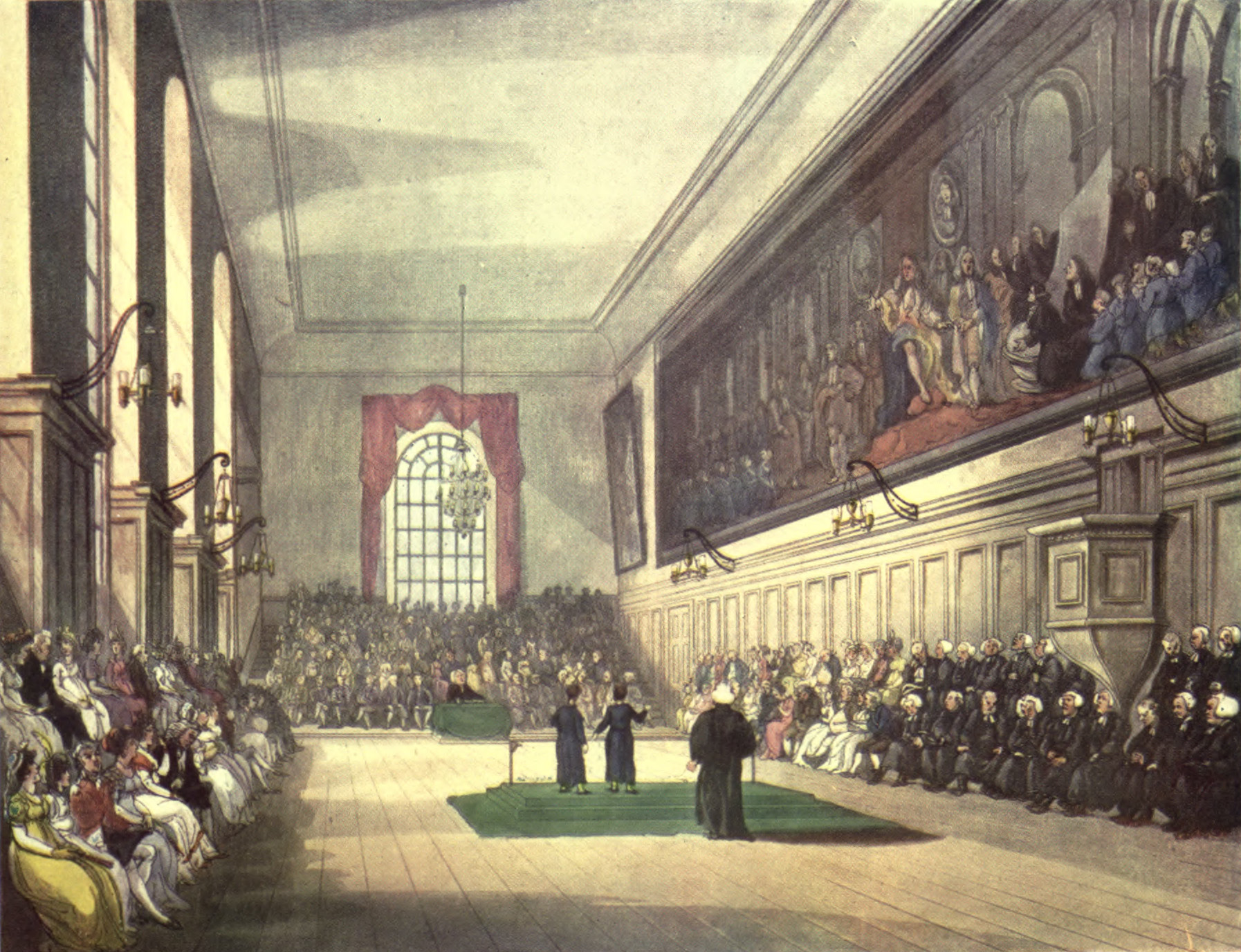 Усадебные дома «старосветских» помещиков, чей быт и нравы хорошо описаны Н.В. Гоголем, прятались обычно где-нибудь в низине, в окружении леса и сада. Строились они из дуба и сосны, были, как правило, одноэтажные, тесноватые, но теплые, прочные, уютные. Владелец 1000 и более душ крепостных мог выстроить себе каменный дом, в два этажа, однако в старину в России считалось, что жилье должно быть деревянным, главное — прочным и теплым.
Усадебные дома «старосветских» помещиков, чей быт и нравы хорошо описаны Н.В. Гоголем, прятались обычно где-нибудь в низине, в окружении леса и сада. Строились они из дуба и сосны, были, как правило, одноэтажные, тесноватые, но теплые, прочные, уютные. Владелец 1000 и более душ крепостных мог выстроить себе каменный дом, в два этажа, однако в старину в России считалось, что жилье должно быть деревянным, главное — прочным и теплым.
К примеру, главный дом усадьбы Абрамцево, выстроенный в конце XVIII века, является характерным памятником деревянного классицизма. Аксаковы купили имение в 1843 году. Сохранились впечатления их гостя Н.М. Павлова (Бицына) о внешнем виде усадьбы: «С нагорья открылся вид на речку Ворю, извилистая, местами шириной в два конских перескока, а где от плотин и шире, речка Воря, с болотистыми берегами и бесчисленными бочажками, была вся в водяной траве и водяных цветах. За ее низиной укатывалась опять вверх нагорная сторона; и там вверху, на горе, в окружении еловой рощи, вперемежку с редким чернолесьем, виднелась просторная старинная помещичья усадьба — это и цель нашего путешествия: Абрамцево. .. Пустынный широкий двор, не засаженный во всю ширь ни кустом, ни деревом и лишь местами обнесенный перильчатой решеткой, принял нас на свою зеленую мураву. Наше появление произвело обычное оживление. Парадное крыльцо с навесом, точь в точь как в тысяче других помещичьих усадеб того времени, распахнуло перед нами свои широкие сени. Деревянный, крашеный по тесу дом с фасаду был предлинный и старинной стройки» [7, с.17].
.. Пустынный широкий двор, не засаженный во всю ширь ни кустом, ни деревом и лишь местами обнесенный перильчатой решеткой, принял нас на свою зеленую мураву. Наше появление произвело обычное оживление. Парадное крыльцо с навесом, точь в точь как в тысяче других помещичьих усадеб того времени, распахнуло перед нами свои широкие сени. Деревянный, крашеный по тесу дом с фасаду был предлинный и старинной стройки» [7, с.17].
Небольшой одноэтажный дом в селе Захарово при А.С. Пушкине тоже был деревянным, с «красной кровлей». «Дети с гувернантками и дворня размещались в двух флигелях. Строения окружал регулярный пейзажный парк, на реке Шараповке, — большой пруд очень полюбился Пушкину, вокруг — еловый лес, а дворов крестьянских всего 10 с 74 крепостными. Долицейское детство Пушкина связано с этими краями. Пушкин вспоминал, как в детские годы бегал по полям и рощам и, воображая себя былинным героем, сшибал палкою верхушки репейников» [6, с. 13].
В середине XIX века усадьбы были самых разных размеров: от совсем маленьких площадью в 10 — 20 кв. м. до огромных, со множеством жилых построек, рассчитанных на несколько сотен человек прислуги. Л.В. Тыдман пишет: «Усадебный характер жилья обуславливал большое сходство городского и сельского домов: во всех случаях жилой дом представлял собой совокупность различных по функциональному использованию помещений» [17, с. 5]. Иными словами, в каждом усадебном доме были жилая, парадная и хозяйственная (служебная) части. Они имели разную площадь и располагались тоже по-разному. Объединял усадебные постройки ряд обязательных требований: приспособленность для повседневной жизни, практичность, максимально эффективное использование жилой и хозяйственной площади дома, дешевые местные строительные материалы.
м. до огромных, со множеством жилых построек, рассчитанных на несколько сотен человек прислуги. Л.В. Тыдман пишет: «Усадебный характер жилья обуславливал большое сходство городского и сельского домов: во всех случаях жилой дом представлял собой совокупность различных по функциональному использованию помещений» [17, с. 5]. Иными словами, в каждом усадебном доме были жилая, парадная и хозяйственная (служебная) части. Они имели разную площадь и располагались тоже по-разному. Объединял усадебные постройки ряд обязательных требований: приспособленность для повседневной жизни, практичность, максимально эффективное использование жилой и хозяйственной площади дома, дешевые местные строительные материалы.
В первой половине XIX столетия для дома среднепоместного дворянства, купечества и мещан был необходим установившийся набор помещений: парадные (зал, гостиная, комната хозяйки, одновременно — парадная спальня), располагавшиеся обычно одно за другим, и жилые комнаты, предназначенные для семьи владельца дома и расположенные как правило на другом этаже (чаще верхнем) или позади парадных интерьеров. Жилые комнаты старались делать меньшими по размеру — они должны были быть теплыми зимой и удобными для жизни.
Жилые комнаты старались делать меньшими по размеру — они должны были быть теплыми зимой и удобными для жизни.
Дом Аксаковых в Абрамцеве был одноэтажный, с мезонином (антресоли и мезонины получили широкое распространение в первой половине XIX века). Сергею Тимофеевичу он понравился расположением и удобством, однако некоторые изменения в планировке были произведены. Парадную спальню разделили на две половины и превратили в жилые покои, а двери вывели в проходную комнату. Гостиная и зала стали использоваться для повседневных занятий семьи. Помещения внутри дома располагались таким образом: на западной стороне — сени, передняя, затем столовая, куда открывалось окно буфетной; следом шли кабинет С.Т. Аксакова, две комнаты неопределенного назначения, небольшим коридором отделенные от следующей, в которой жили дочери Надя и Люба. Вдоль восточного фасада — комната дочерей Веры и Ольги, спальня, гостиная и зала. Коридор в центре дома связывал нижнюю его часть с мезонином, разделенным на две большие комнаты. Одна из этих комнат была кабинетом Константина Аксакова, а в помещении напротив останавливались гости. Здесь жил в свои приезды в Абрамцево Н.В. Гоголь. Позднее эта комната стала кабинетом Ивана Аксакова.
Одна из этих комнат была кабинетом Константина Аксакова, а в помещении напротив останавливались гости. Здесь жил в свои приезды в Абрамцево Н.В. Гоголь. Позднее эта комната стала кабинетом Ивана Аксакова.
Историки выделяют два типа планировки, сложившихся к концу XVIII в.: центрическую и осевую. При первом типе в центре здания находились либо темные чуланы и лестница, которая вела в верхние помещения, в мезонин или на антресоли, либо в центре была большая танцевальная зала. Парадные и основные жилые помещения располагались по периметру постройки. Вот описание отчего дома, сделанное Афанасием Фетом: «Поднявшись умственно по ступеням широкого каменного под деревянным навесом крыльца, вступаешь в просторные сени… Налево от этих теплых сеней дверь вела в лакейскую, в которой за перегородкой с балюстрадой помещался буфет, а с правой стороны поднималась лестница в антресоли. Из передней дверь вела в угольную такого же размера комнату в два окна, служившую столовой, из которой дверь направо вела в такого же размера угольную комнату противоположного фасада. Эта комната служила гостиной. Из нее дверь вела в комнату, получившую со временем название классной. Последней комнатой по этому фасаду был кабинет отца, откуда небольшая дверь снова выходила в сени» [18, с. 49].
Эта комната служила гостиной. Из нее дверь вела в комнату, получившую со временем название классной. Последней комнатой по этому фасаду был кабинет отца, откуда небольшая дверь снова выходила в сени» [18, с. 49].
Другой тип планировки — осевой: по продольной оси дома (в некоторых случаях — поперечной) проходил длинный коридор, который был совсем темным или же освещенным одним-двумя торцовыми окнами, а по сторонам его находились жилые помещения и парадные комнаты. У дядюшки Афанасия Фета «Светлый и высокий дом, обращенный передним фасадом на широкий двор, а задним в прекрасный плодовый сад, примыкавший к роще, снабжен был продольным коридором и двумя каменными крыльцами по концам» [2, с. 249].
Внутреннее убранство господского дома также подчинялось определенным стандартам. На рубеже XVIII — XIX веков в России вошла в моду удобная и дешевая мебель карельской березы, а стены вместо гобеленов и штофа стали обивать атласом светлых тонов и английским ситчиком. Новый принцип удобства и комфорта в меблировке сменил прежнюю торжественность. Мебель в гостиных начали расставлять «по интересам»: уютными уголками на несколько человек. В таком уголке обычно стоял небольшой диван на две-три персоны (как правило, пожилых дам и важных гостей), стол-бобик, за которым удобно было заниматься вышивкой, вязанием и щипанием корпии (перевязочный материал, позднее замененный ватой), кресла с корытообразными спинками, стулья. Скамеечки для ног с мягкой покрышкой были очень популярны, так как дамы в ту пору носили легкую атласную обувь, а при анфиладном расположении комнат в домах обычны были сквозняки. Камин, располагавшийся в гостиной, закрывался экраном, чтобы огонь не слепил глаза. На каминную доску ставились часы в бронзовом или деревянном золоченом корпусе в виде аллегорической сцены, а по сторонам — жирандоли и канделябры. Над диваном вешались бра, на полу помещались высокие торшеры, на столах — свечи в канделябрах. В начале XIX века для освещения стали использоваться еще и масляные лампы — кенкеты и карсели. Стены обивались легкими тканями, украшались гравюрами, лепными барельефами, акварелями.
Мебель в гостиных начали расставлять «по интересам»: уютными уголками на несколько человек. В таком уголке обычно стоял небольшой диван на две-три персоны (как правило, пожилых дам и важных гостей), стол-бобик, за которым удобно было заниматься вышивкой, вязанием и щипанием корпии (перевязочный материал, позднее замененный ватой), кресла с корытообразными спинками, стулья. Скамеечки для ног с мягкой покрышкой были очень популярны, так как дамы в ту пору носили легкую атласную обувь, а при анфиладном расположении комнат в домах обычны были сквозняки. Камин, располагавшийся в гостиной, закрывался экраном, чтобы огонь не слепил глаза. На каминную доску ставились часы в бронзовом или деревянном золоченом корпусе в виде аллегорической сцены, а по сторонам — жирандоли и канделябры. Над диваном вешались бра, на полу помещались высокие торшеры, на столах — свечи в канделябрах. В начале XIX века для освещения стали использоваться еще и масляные лампы — кенкеты и карсели. Стены обивались легкими тканями, украшались гравюрами, лепными барельефами, акварелями. Цветы и зелень помогали создать в гостиной уют и радостную атмосферу. Если гостиных было несколько, то одна из них предназначалась для карточных игр. В игорной имелись специальные ломберные столы, покрытые зеленым сукном. Они были складные и расставлялись лакеями перед сбором гостей, с соответствующим количеством стульев.
Цветы и зелень помогали создать в гостиной уют и радостную атмосферу. Если гостиных было несколько, то одна из них предназначалась для карточных игр. В игорной имелись специальные ломберные столы, покрытые зеленым сукном. Они были складные и расставлялись лакеями перед сбором гостей, с соответствующим количеством стульев.
В столовой вдоль всей комнаты стоял длинный стол-сороконожка с двумя рядами стульев. На противоположный входу «верхний» конец стола, во главе его, всегда садились хозяин с хозяйкой, по правую и левую руку от них — почетные гости. Далее гости рассаживались «по убывающей», причем каждый знал свое место, а возле входа сидели лица низшего статуса, включая детей с гувернантками и учителями.
Любопытны некоторые обычаи, распространенные в усадебных домах 1-й половины XIX века. Например, за обедом пили не ту водку, которую пьют сейчас, а множество разных водок, перегнанных на почках, травах, цветах и кореньях. Эти водки назывались пенник, полугар, третное, четвертное вино, самая дешевая — сивуха, плохо очищенная от сивушных масел. Крепость спиртного тогда была высокой, но ценилась не она, а мягкость водки, «удобность» ее для питья. Выставлять водку на стол в штофах и бутылках считалось верхом неприличия, т.к. в богатых домах пить много спиртного было дурным тоном. Блюда на званых обедах чередовались в строгом порядке: сначала мясо, потом рыба, а в промежутках между ними подавалось так называемое «ентреме»: сыры, спаржа, артишоки, которые должны были отбить вкус предыдущего блюда. Вина употреблялись соответственно кушаньям: с мясом красное, с рыбой белое, а шампанское при любых. Не полагалось мешать вина, в бокале не должно было оставаться запаха предыдущего вина, и поэтому разных бокалов и стаканчиков к блюдам ставилось много. Лакеи обносили гостей блюдами, начиная с верхнего конца, где сидели лица с высоким статусом. Прислуга чувствовала субординацию, и если еды для всех присутствующих не хватало, могла пронести какое-нибудь лакомое блюдо мимо не слишком уважаемого гостя. После обеда мужчины отправлялись в кабинет хозяина курить и пить кофе с ликерами, а дамы удалялись в будуар хозяйки, где тоже пили кофе.
Крепость спиртного тогда была высокой, но ценилась не она, а мягкость водки, «удобность» ее для питья. Выставлять водку на стол в штофах и бутылках считалось верхом неприличия, т.к. в богатых домах пить много спиртного было дурным тоном. Блюда на званых обедах чередовались в строгом порядке: сначала мясо, потом рыба, а в промежутках между ними подавалось так называемое «ентреме»: сыры, спаржа, артишоки, которые должны были отбить вкус предыдущего блюда. Вина употреблялись соответственно кушаньям: с мясом красное, с рыбой белое, а шампанское при любых. Не полагалось мешать вина, в бокале не должно было оставаться запаха предыдущего вина, и поэтому разных бокалов и стаканчиков к блюдам ставилось много. Лакеи обносили гостей блюдами, начиная с верхнего конца, где сидели лица с высоким статусом. Прислуга чувствовала субординацию, и если еды для всех присутствующих не хватало, могла пронести какое-нибудь лакомое блюдо мимо не слишком уважаемого гостя. После обеда мужчины отправлялись в кабинет хозяина курить и пить кофе с ликерами, а дамы удалялись в будуар хозяйки, где тоже пили кофе.
Помимо званых обедов и ужинов, гостей часто приглашали на званый чай, который устраивался чаще всего в малой гостиной или малой столовой. Чай разливала хозяйка или старшая дочь. Первая чашка подавалась гостям лакеями, а потом они уходили и опустевшие чашки передавались хозяйке для споласкивания. Новую порцию чая наливали дети или молодые люди.
Для отдыха и спокойных бесед в доме могла быть и так называемая диванная, где вдоль стен стояли кожаные диваны с множеством подушек, 2-3 небольших столика, кресла и мягкие стулья. Она могла называться еще угольной (то есть угловой) и боскетной. Эта комната обильно украшалась зеленью. Например: «Мы миновали сиреневую гостиную, наполненную мебелью еще Елизаветинских дней, отразились в высоком простеночном зеркале, с улыбкой проводил нас взглядом бронзовый золоченый амур, опершийся на такие же часы, и мы оказались в небольшой, но весьма уютной комнате; вдоль двух ее стен, в виде буквы Г, тянулся сплошной зеленый диван… — Диванная-с.. . — произнес приказчик…» [2, с. 273].
. — произнес приказчик…» [2, с. 273].
Из особенностей усадебного интерьера интересны личные библиотеки хозяев. Иногда это были огромные, со вкусом подобранные коллекции, составлением которых занимались специально нанятые образованные люди или букинисты. На такие библиотеки профессионалами заводились книжные каталоги, в отдельных случаях даже отпечатанные в типографии. У князя М.А. Голицына была обширная коллекция редких старопечатных книг, соседствующая с размещенными в особняке 132 живописными полотнами. В барских домах существовали также оригинальные библиотеки-обманки, где шкафы закрывались дверцами с вырезанными на них и раскрашенными корешками книг, а за ними хранились сапожные колодки, бутылки из-под вина и прочий мусор. Иногда обманки служили украшением настоящих библиотек, в которых, помимо книг, могли содержаться научные приборы (глобус, телескоп), папки с гравюрами, географические карты и пр.
Любопытно, что мемуаристы, описывая бытовую обстановку усадеб, редко упоминают об иконах. В парадных комнатах их держать было не принято, там размещались портреты предков, акварели, гравюры, барельефы на патриотические темы, детские рисунки. Иконы прятались в личных покоях — кабинете хозяина и спальне хозяйки. В старинном доме могли быть небольшие образные с множеством родовых икон, но обычно было две-три, в основном семейные. В 30-е годы XIX века весьма популярными стали имитации икон: большую трехчастную гравюру с «Сикстинской мадонны» Рафаэля можно увидеть и в Ясной Поляне у Л.Н. Толстого, и на картине П. Федотова «Завтрак аристократа». Афанасий Фет вспоминал о масляной копии Мадонны Рафаэля, сидящей в кресле с младенцем на руке, Иоанном Крестителем по одну сторону и св. Иосифом по другую: «Мать растолковала мне, что это произведение величайшего живописца Рафаэля и научила меня молиться на этот образ» [18, с. 43].
В парадных комнатах их держать было не принято, там размещались портреты предков, акварели, гравюры, барельефы на патриотические темы, детские рисунки. Иконы прятались в личных покоях — кабинете хозяина и спальне хозяйки. В старинном доме могли быть небольшие образные с множеством родовых икон, но обычно было две-три, в основном семейные. В 30-е годы XIX века весьма популярными стали имитации икон: большую трехчастную гравюру с «Сикстинской мадонны» Рафаэля можно увидеть и в Ясной Поляне у Л.Н. Толстого, и на картине П. Федотова «Завтрак аристократа». Афанасий Фет вспоминал о масляной копии Мадонны Рафаэля, сидящей в кресле с младенцем на руке, Иоанном Крестителем по одну сторону и св. Иосифом по другую: «Мать растолковала мне, что это произведение величайшего живописца Рафаэля и научила меня молиться на этот образ» [18, с. 43].
Украшениями парадных комнат служила скульптура — мраморные подлинники и хорошие гипсовые копии, бронзовая и фарфоровая миниатюра. Во второй четверти XIX века в домах среднего достатка появилась гипсовая скульптура под фарфор и бронзу, которая заменяла дорогой севрский, саксонский или гарднеровский фарфор. Прежние античные сюжеты в оформлении интерьера уступили место патриотической тематике. В 40-е годы распространились дагерротипы, их вместе с фотографиями развешивали по стенам и расставляли на специальных полочках письменных столов. В то же время начали входить в моду и бумажные обои, которые расписывались вручную акварелью. Комнаты украшались бронзовыми золочеными канделябрами, бра, люстрами — елизаветинскими, екатерининскими, павловскими, александровскими, николаевскими, а также каминными часами в бронзовых или золоченых деревянных футлярах, нередко стоявшими на специальных тумбах под стеклянными колпаками. На высоких окнах висели пышные ламбрекены. Паркеты были наборные и своим орнаментом соответствовали росписи потолков.
Прежние античные сюжеты в оформлении интерьера уступили место патриотической тематике. В 40-е годы распространились дагерротипы, их вместе с фотографиями развешивали по стенам и расставляли на специальных полочках письменных столов. В то же время начали входить в моду и бумажные обои, которые расписывались вручную акварелью. Комнаты украшались бронзовыми золочеными канделябрами, бра, люстрами — елизаветинскими, екатерининскими, павловскими, александровскими, николаевскими, а также каминными часами в бронзовых или золоченых деревянных футлярах, нередко стоявшими на специальных тумбах под стеклянными колпаками. На высоких окнах висели пышные ламбрекены. Паркеты были наборные и своим орнаментом соответствовали росписи потолков.
В отдельном личном кабинете помещик предавался умственным занятиям и принимал близких друзей-мужчин. Кабинет мог служить хозяину одновременно и спальней. Непременная принадлежность этой комнаты — большой письменный стол с бронзовым письменным прибором и светильником. Прибор состоял из песочницы (жестяной коробочки с песком для промокания чернил), перочинного ножика, ножа для разрезания книг (он мог быть серебряный, бронзовый, стальной, костяной или деревянный), палочки сургуча для печатей и печатки для конвертов. Светильник представлял собой высокую штангу с двумя симметрично расположенными свечами и скользящим по штанге прозрачным бумажным экраном, чтобы огонь не слепил глаза. Со временем место тусклых свечей стали занимать масляные лампы кенкеты и карсели. Привычными составляющими кабинетного интерьера были книжный шкаф и стойка для курительных трубок. Кстати, курили тогда и некоторые дамы. Примерно после 1815 года в обиход вошли сигары, привозимые русской армией из заграничных походов, а к середине XIX века появились дамские пахитоски — тонкие длинные сигарки из резаного табака, завернутые в маисовый лист. Дома курили преимущественно трубки с длинными вишневыми чубуками и большими чашечками. Раскуривали их, как правило, комнатные слуги — к примеру, казачок.
Прибор состоял из песочницы (жестяной коробочки с песком для промокания чернил), перочинного ножика, ножа для разрезания книг (он мог быть серебряный, бронзовый, стальной, костяной или деревянный), палочки сургуча для печатей и печатки для конвертов. Светильник представлял собой высокую штангу с двумя симметрично расположенными свечами и скользящим по штанге прозрачным бумажным экраном, чтобы огонь не слепил глаза. Со временем место тусклых свечей стали занимать масляные лампы кенкеты и карсели. Привычными составляющими кабинетного интерьера были книжный шкаф и стойка для курительных трубок. Кстати, курили тогда и некоторые дамы. Примерно после 1815 года в обиход вошли сигары, привозимые русской армией из заграничных походов, а к середине XIX века появились дамские пахитоски — тонкие длинные сигарки из резаного табака, завернутые в маисовый лист. Дома курили преимущественно трубки с длинными вишневыми чубуками и большими чашечками. Раскуривали их, как правило, комнатные слуги — к примеру, казачок. Гостей, помимо трубок, угощали гаванскими или манильскими сигарами.
Гостей, помимо трубок, угощали гаванскими или манильскими сигарами.
Кроме описанных выше предметов, в кабинете был большой кожаный диван, на котором камердинер по вечерам стелил барину постель. В ту пору супруги не спали вместе, каждый из них имел отдельную спальню. Муж навещал жену в ее будуаре, переодевшись в домашний халат, но потом опять возвращался к себе. А. Фет свидетельствует, что «отец большею частию спал на кушетке в своем рабочем кабинете…» [18, с. 42]. Над диваном обычно висел ковер с развешенным на нем оружием, чаще всего турецким и кавказским. К кабинету примыкала гардеробная комната хозяина, которой заведовал камердинер. Кроме одежды — платья, белья и исподнего (нижнее белье), здесь помещался бритвенный столик со всеми принадлежностями, тумбочка, таз для умывания, кувшин, мыло и полотенца. В гардеробной располагалось и то устройство, которое мы сейчас называем «туалетом» и «удобством», а тогда именовали «нужником». Это «удобство» представляло собой большое кресло, иногда — красного дерева, с сидением в виде глухого ящика с двумя крышками. Одна из крышек была сплошной, а под второй — овальное отверстие. В ящике под крышками стояла ночная ваза, периодически выносимая лакеями в отхожее место. Поскольку не все господа ходили мыться в баню, в случае необходимости в гардеробную или в будуар хозяйки вносили огромный чан и натаскивали с кухни воды.
Одна из крышек была сплошной, а под второй — овальное отверстие. В ящике под крышками стояла ночная ваза, периодически выносимая лакеями в отхожее место. Поскольку не все господа ходили мыться в баню, в случае необходимости в гардеробную или в будуар хозяйки вносили огромный чан и натаскивали с кухни воды.
Будуар госпожи помещался недалеко от кабинета хозяина. В нем стояла двуспальная кровать, отгороженная ширмами, в ногах ее — огромная прямоугольная корзина для постельного белья. В будуаре также располагался секретер с ящичками для писем и письменных принадлежностей, стояли несколько кресел и стульев. Дамская уборная, примыкавшая к будуару, была аналогом гардеробной хозяина. Здесь также стояло «удобство» и находился туалет — изящный дамский столик с зеркалом и подъемной столешницей, под которой были расположены ящички для туалетных принадлежностей.
Интерьеры помещений, где жили и творили великие писатели 1-й половины XIX столетия, были нетипичны для богатых господских домов того времени. Главной комнатой литератора в усадебном доме был, конечно же, рабочий кабинет. Существует описание кабинета историка и писателя Н.М. Карамзина в Остафьеве — на втором этаже дома, с окном в парк. Современников поражала аскетическая обстановка комнаты, долгое время остававшейся в неприкосновенности. М.П. Погодин посетил Остафьево в 1845 году и оставил подробные воспоминания. Он нашел в кабинете «голые отштукатуренные стены, выкрашенные белой краской; у окна — большой сосновый стол, ничем не прикрытый, около него деревянный стул. На козлах с досками у противоположной стены были разложены в беспорядке рукописи, книги, тетради и просто бумаги. В комнате не было ни шкафа, ни этажерки, ни пюпитра, ни кресла, а тем более ковра или подушки. Лишь в углу стояли как попало несколько ветхих стульев. Поистине ничего лишнего, все только для работы. Удалена любая мелочь, которая могла бы отвлечь или рассеять мысль. Одним словом, благородная простота» [11, с. 28]. Такой же суровой была обстановка, в которой жил и работал Н.
Главной комнатой литератора в усадебном доме был, конечно же, рабочий кабинет. Существует описание кабинета историка и писателя Н.М. Карамзина в Остафьеве — на втором этаже дома, с окном в парк. Современников поражала аскетическая обстановка комнаты, долгое время остававшейся в неприкосновенности. М.П. Погодин посетил Остафьево в 1845 году и оставил подробные воспоминания. Он нашел в кабинете «голые отштукатуренные стены, выкрашенные белой краской; у окна — большой сосновый стол, ничем не прикрытый, около него деревянный стул. На козлах с досками у противоположной стены были разложены в беспорядке рукописи, книги, тетради и просто бумаги. В комнате не было ни шкафа, ни этажерки, ни пюпитра, ни кресла, а тем более ковра или подушки. Лишь в углу стояли как попало несколько ветхих стульев. Поистине ничего лишнего, все только для работы. Удалена любая мелочь, которая могла бы отвлечь или рассеять мысль. Одним словом, благородная простота» [11, с. 28]. Такой же суровой была обстановка, в которой жил и работал Н. В. Гоголь в Москве на Никитском бульваре: на простом крашеном полу ковер, у окна — рабочая конторка, крытая зеленым сукном, в углу за ширмой — узкая жесткая кровать.
В. Гоголь в Москве на Никитском бульваре: на простом крашеном полу ковер, у окна — рабочая конторка, крытая зеленым сукном, в углу за ширмой — узкая жесткая кровать.
Писатель Н. Павлов оставил в своих воспоминаниях описание кабинета Константина Сергеевича Аксакова в Абрамцеве. «Павлов подчеркивал, что простота и деловитость кабинета удивительно соответствовали характеру хозяина. Главное место занимал огромный письменный стол, весь заваленный книгами, тетрадями, фолиантами. Над столом — портрет М. Ломоносова из слоновой кости» [7, с. 28].
Таким образом, общим свойством интерьера писательского кабинета является его функциональность, строгость, даже аскетизм: ничего лишнего, все только для работы и сосредоточенных размышлений.
Жизнь в старинной усадьбе «текла по давно проложенному руслу, ничем не возмущаемая» [2, с. 321]. Уездная аристократия жила в свое удовольствие: помещики ездили на охоту, содержали многочисленную дворню, шутов, приживальщиков, устраивали праздники, пикники, играли в карты, стравливали деревенских мальчишек, дворовых собак, петухов и гусей; травили огромными, специально выращенными меделянскими собаками пойманных и выращенных в ямах медведей, быков. Провинциальную скуку отчасти компенсировали долгие и обильные трапезы, прием гостей, длительные собеседования со старостой деревни, разбор конфликтов между слугами.
Провинциальную скуку отчасти компенсировали долгие и обильные трапезы, прием гостей, длительные собеседования со старостой деревни, разбор конфликтов между слугами.
Русское поместное дворянство было чрезвычайно разномастно: от «старосветского» до новой чиновной аристократии. Так же разнотипна была усадебная жизнь. У одних помещиков в 1-й половине XIX века еще сохранялся старинных русский уклад, как, например, в семье Аксаковых. Другие в большей степени придерживались светского тона. Понемногу стали выходить из употребления старинные обычаи и развлечения в виде святочных гаданий и ряженых. Только у Я.П. Полонского можно найти упоминание о гадании на вещах с подблюдными песнями в девичьей и о том, что бабушка, сидя в гостиной и раскладывая пасьянс, слушала эти песни. Многие мемуаристы вспоминают пикники на природе, с коврами, подушками и самоварами (ковры тогда в дворянских кругах не берегли по причине того, что они в большом количестве ввозились из Турции, Персии, Кавказа, Хивы, Бухары). Баре сами собирали грибы, удили рыбу, ездили по ягоды.
Баре сами собирали грибы, удили рыбу, ездили по ягоды.
Как уже было сказано выше, в абрамцевском доме Аксаковых уклад жизни носил отпечаток патриархальности. Аксаковы подчеркивали старинный характер своей усадьбы, не стараясь ее переделать, и ограничились самыми необходимыми переменами: ремонтом главного дома и постройкой жилого флигеля (в 1873 году на его месте была выстроена гартмановская «Мастерская»). По воспоминаниям современников, самыми оживленными комнатами в доме были столовая, кабинет С.Т. Аксакова и гостиная. Первая половина дня обычно проходила в индивидуальных занятиях, к обеду хозяева и гости сходились в столовой и по вечерам собирались в гостиной, где устраивались чтения, игры в шахматы, в пословицы. В занятия обитателей усадьбы входили и деревенские заботы. Поместье не являлось доходным, но хозяева не слишком стремились наладить хозяйство, поддерживая лишь относительный порядок в делах имения. Круг забот семейства включал наблюдение за огородом, ягодниками, а со второй половины лета варку варенья, сиропов, соленье, сушку грибов. И хотя гостеприимство Аксаковых было общеизвестно, основная прелесть усадьбы заключалась в возможности уединения. Аксаковы часто проводили в Абрамцеве не только летние, но и зимние месяцы, что объяснялось и материальными затруднениями, и нежеланием зависеть от светских условностей города. В деревне С.Т. Аксаков, как известно, предавался своим любимым занятиям — ужению рыбы, сбору грибов, дневным и вечерним гуляниям в лесу и усадебном парке и, конечно же, литературному творчеству. О своем доме в Абрамцеве он писал сыну Ивану в январе 1844 года: «Прекрасный, мирный, уединенный уголок, где есть все, что нам нужно».
И хотя гостеприимство Аксаковых было общеизвестно, основная прелесть усадьбы заключалась в возможности уединения. Аксаковы часто проводили в Абрамцеве не только летние, но и зимние месяцы, что объяснялось и материальными затруднениями, и нежеланием зависеть от светских условностей города. В деревне С.Т. Аксаков, как известно, предавался своим любимым занятиям — ужению рыбы, сбору грибов, дневным и вечерним гуляниям в лесу и усадебном парке и, конечно же, литературному творчеству. О своем доме в Абрамцеве он писал сыну Ивану в январе 1844 года: «Прекрасный, мирный, уединенный уголок, где есть все, что нам нужно».
Многие помещики в провинциальных усадьбах не доверялись полностью старостам и управляющим, часто воровавшим у господ, а лично вникали в тонкости хозяйственной жизни: ездили в поля и на гумно смотреть за работами, сажали сады, присутствовали на выводке лошадей на своих конных дворах, заглядывали в коровники и на птичники. Немало помещиков сами занимались расчетом и строительством мельниц, конструировали ульи, молотилки, веялки, которые потом «внедрялись» в ближайших уездах. Владельцы крупных имений иногда выезжали в свои «заглазные» деревни проверить, как идут дела, писали инструкции управляющим. Барыни варили варенья и пастилу, солили огурцы и сушили грибы, только делали это не сами, а лишь присматривали за работой. Непременным занятием были совещания с управляющими и старостами, прием докладов, ведение записей в журналах работ, сведение счетов по утрам или вечерам. Заниматься хозяйством в усадьбе значило осуществлять контроль и учет. Мелкопоместные дворяне, которым приходилось думать о куске хлеба, сами могли выезжать в поле с крестьянами и там бродить по десятинам, иной помещик мог и покосить собственноручно ряд-другой. Кое-кто занимался дома ремеслами. Особенно популярно было токарное дело, введенное в моду среди дворянства еще Петром I.
Творческим людям такие приземленные заботы тоже были не чужды. Например, поэт Е.А. Боратынский еще в детские и юношеские годы проявлял живейший интерес к сельскому хозяйству — садоводству и огородничеству. В 1841 году он разобрал маленький и тесный дом в Муранове и приступил к постройке нового. На это время поэт с семьей переселился в соседнее имение Пальчиковых Артемово, километрах в трех от Муранова. Работая над подготовкой к печати нового сборника своих стихов «Сумерки», Боратынский не забывал и о хозяйственных заботах. С наступлением тепла он каждое утро ездил в Мураново наблюдать за стройкой, возвращался к обеду, а под вечер снова отправлялся туда пешком вместе со старшими детьми. Кроме постройки дома, Боратынский в 1841 —1842 годах усиленно занимался сводом леса и устройством лесопилки. Письма его к Николаю Васильевичу Путяте полны соображений и расчетов, касающихся сбыта леса. Когда в Муранове была поставлена пильная мельница, Боратынский с гордостью писал Путяте: «Вчера, 7 марта, в день моих именин, я распилил первое бревно на моей пильной мельнице. Доски отличаются своей чистотой и правильностью» [15, с. 31].
Мурановский дом по своей архитектуре отличается от традиционных усадебных построек той эпохи с неизбежными портиком и мезонином. Со времен Боратынского он не подвергался существенным переделкам. Здание состоит из трех частей: двухэтажного основного здания, одноэтажной пристройки и примыкающей к ней двухэтажной башни. Все строение деревянное, сооруженное из вертикально поставленных бревен, но его основная часть и башня обложены кирпичом.
Боратынские поселились в новом мурановском доме осенью 1842 года. Распорядок жизни был неизменен: по-прежнему шли занятия детей с учителями, вечера были посвящены чтению новинок русской и иностранной литературы, творческие замыслы зрели в голове поэта, однако до наступления холодов хозяйственные заботы отвлекали Боратынского от писательства.
С того времени в убранстве комнат мурановского дома изменилось многое. Обстановка, принадлежавшая первым обитателям дома, смешалась с вещами его позднейших владельцев. Но со стен залы и зеленой гостиной по-прежнему смотрят фамильные портреты Энгельгардтов, в столовой на старом месте стоит круглый раздвижной стол-сороконожка. В комнате, бывшей ранее кабинетом Е.А. Боратынского, помещен письменный стол-бюро из простой березы, работы мурановских крепостных мастеров. По преданию, чертеж для него делал сам поэт. На столе — чернильница, бювар и разные мелочи, принадлежавшие Боратынскому. На стенах — его портреты, изображения его близких и друзей; среди них — гравированный Уткиным портрет А.С. Пушкина. Когда после смерти Боратынского Мураново досталось Софье Львовне Путяте (в девичестве Энгельгардт), поместье сделалось провинциальным средоточием литературной жизни. Муж С.Л. Путяты Николай Васильевич не был хорошим хозяйственником, как Боратынский, он отдавал предпочтение культурным интересам. Первыми его литературными гостями в Муранове стали Н.В. Гоголь и С.Т. Аксаков. Одна из комнат в верхнем этаже дома еще со времен Путяты получила название «Гоголевской»: в ней ночевал писатель. Здесь сохранился удобный приземистый диван-«жаба», на котором отдыхал создатель «Мертвых душ». Над диваном висит малоизвестный портрет Гоголя, принадлежавший Путяте — литография Шамина 1852 года.
Дочь Н.В. Путяты Ольга Николаевна вспоминала, как С.Т. Аксаков неподвижно и сосредоточенно ловил судаков, сидя со своими удочками на берегу мурановского пруда. Писатель был большим любителем жареных судаков и называл их «постной говядиной». Посещал Путяту в его подмосковной усадьбе и Ф.И. Тютчев. После смерти поэта его младший сын Иван Федорович, женатый на Ольге Николаевне Путяте, перевез в Мураново обстановку кабинета и спальни своего отца.
В комнате, некогда бывшей кабинетом Е.А. Боратынского, размещена удобная мягкая мебель, располагающая к отдыху и раздумьям. Хотя часть первоначальной обстановки сохранилась, преобладают здесь вещи Ф.И. Тютчева. Письменный стол, чернильница, гусиное перо со следами чернил, бювар из потертой кожи, зеленый абажур — все это тютчевское. В бюваре лежит конверт от письма к Тютчеву его зятя И.С. Аксакова.
Главная ценность Муранова в том, что оно является единственным в своем роде образцом среднепоместной усадьбы, знакомящей нас с бытом культурных представителей русского дворянства.
Говоря о жизни и нравах провинциальной усадьбы, нельзя забывать о слугах, так как именно они обеспечивали своим хозяевам повседневный комфорт.
«Комнатные» слуги жили в господском доме. Питались они в так называемой «застольной», а комнат своих и даже кроватей ни у кого из них не было. Исключение делалось для немногих, прежде всего — камердинера, который считался первым лицом среди прислуги и мог занимать помещение площадью около 8 кв. м. Повар с помощниками спали прямо в кухне. Другие комнатные слуги своего жилья не имели и ночью ложились на полу, расстилая войлок по соседству с комнатами хозяев, чтобы быть у них под рукой. «Все спали на полу, на постланных войлоках, — писал Я.П. Полонский. — Войлок в то время играл такую же роль для дворовых, как теперь матрасы и перины, и старуха Агафья Константиновна,.. нянька моей матери, и наши няньки и лакеи — все спали на войлоках, разостланных, если не на полу, то на ларе или на сундуке» [16, с. 283].
В доме у отца А.А. Фета, из маленькой девичьей, «отворивши дверь на морозный чердак, можно было видеть между ступеньками лестницы засунутый войлок и подушку каждой девушки, в том числе и Елизаветы Николаевны. Все эти постели, пышущие морозом, вносились в комнату и расстилались на пол…».
Рядом с господской спальней располагалась и «девичья», где женская незамужняя прислуга должна была шить, вышивать, вязать и выполнять разные бытовые поручения хозяйки. «Девичья» считалась одновременно жилой и рабочей комнатой, а «лакейская», нередко служившая местом ночлега для лакеев, — одной из парадных, второе название ее «прихожая гостиная». Если в городском особняке в передней всегда должен был дежурить швейцар, то в деревенской обстановке такого порядка не было: хозяева издалека слышали приближение экипажа и сами видели гостей в окно.
Комнатных слуг во множественном числе называли словом «люди», в единственном — «человек», «мальчик», «девушка», причем в звании «девушек» и «мальчиков» прислуга могла оставаться до старости. По именам звали редко, но если человек был пожилым, заслуженным и отличился каким-либо мастерством, его могли величать и по отчеству: Дормидонтыч, Степаныч, Евсеич. Комнатные слуги, в отличие от дворовых, не имели определенных обязанностей и выполняли мелкие домашние поручения да капризы вроде «подай платок» и «сбегай за квасом». Прислугу вызывали звонком: в помещении для слуг висел колокольчик, от которого шла проволока к сонетке, длинной вышитой ленте с кистью на конце, за которую надо было дергать. Мог быть и усовершенствованный колокольчик с пружинкой, располагавшийся на столе или ночном столике возле кровати. Звонили в него, нажимая на кнопку.
Дворни в помещичьих усадьбах было достаточно. «Слуг по тому времени держали много», — вспоминал Афанасиий Фет. [18, с. 32]. Поэт Я.П. Полонский писал о рязанском доме своей бабушки: «Эта передняя была полна лакеями. Тут был и Логин, с серьгою в ухе, бывший парикмахер,… и Федька-сапожник, и высокий рябой Матвей, и камердинер дяди моего, Павел… Девичья вся… была разделена на углы; почти что в каждом угле были образа и лампадки, сундуки, складные войлоки и подушки… Кушанья к столу носили через двор. Там жили дворецкий с женой, жена Логина с дочерьми, жена Павла с дочерьми, повар, кучер, форейтор, садовник, птичница и другие… Сколько было всех дворовых у моей бабушки — не помню, но полагаю, что вместе с девчонками. Пастухом и костцами, которые приходили из деревень, не менее шестидесяти человек» [16, с. 281, 283-284]. Дворовые имели иной статус, чем комнатная прислуга. Они были специалистами, и каждому поручалось определенное дело: черная кухарка готовила пищу для крепостных, садовник с помощником занимались цветами, огородницы, скотница, дворник, кучера, конюхи, псари, форейторы, столяр также исполняли узкий круг обязанностей. Они жили в людской избе, реже — в небольших отдельных избушках. В таких слугах нуждались и до известной степени их берегли. Из комнатных крепостных ценили только повара, которого покупали за большие деньги, посылали учиться и до известного предела прощали ему дерзости и пьянство.
По свидетельствам современников, комнатная прислуга в поместьях нередко воровала и пьянствовала, грабила крепостных крестьян, по существу — своих же товарищей по несчастью. Но есть и иные примеры — например, пушкинский Савельич и аксаковский Евсеич (прототипом последнего послужил реальный человек). Эти слуги по-отечески заботились о своих малолетних господах. Некоторые из крепостных смотрели на себя как на часть барской семьи, и хозяева часто относились к ним как к почтенным и уважаемым, не позволяя своим детям грубить той же няне. Афанасий Фет отмечал: «Конечно, всякая невежливость с моей стороны к кому-либо из прислуги не прошла бы мне даром» [18, с. 62]. Примечательно, что чем выше было положение дворянина, тем более вежливым он был с низшими. Мемуаристы, вспоминая о подлинных вельможах, отмечают их ровное отношение к людям любого положения, вплоть до прислуги. Настоящий аристократ даже лакею мог говорить «вы». Это его не унижало, так как ему не нужно было доказывать свое положение. Наоборот, чем ниже положение человека, тем презрительнее он относился к тем, кто стоял на более низкой ступени. Самыми взыскательными и капризными клиентами в трактирах были лакеи.
Преданные слуги — няньки, камердинеры, горничные, ключницы — старились вместе со своими хозяевами и принимали их последний вздох либо сами умирали у них на руках, горько оплакиваемые, точно близкие родственники. Особая душевная близость у господ была со своими кормилицами, а также с молочными братьями и сестрами. С.Т. Аксаков оставил о своей кормилице такие слова: «Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье, наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой» [1, c. 288].
Век русской усадебной жизни со всеми ее нюансами давно прошел, однако справедливы слова академика Д.С. Лихачева: «Показатель культуры — отношение к памятникам». Пока существует литература, исследователи будут обращаться к воспоминаниям о давно прошедших временах, чтобы проследить путь становления классика, выявить важные детали его жизни, истоки создания литературного произведения. По мнению Д.С. Лихачева, вещественная атмосфера, в которой жил писатель, «также становится литературным документом и соответственно принадлежностью нашей национальной культуры. Дом писателя, предметы обихода, окружающий пейзаж — все это необходимые компоненты его „художественной вселенной“. Материальные памятники — связующее звено между писателем и современным читателем. Часто благодаря знакомству с ними становится понятным многое из того, что в другом случае требует специального анализа».
Интерес к человеку всегда выше интереса к мертвым вещам, поэтому из литературных усадеб для наших современников наиболее привлекательны те, которые, не всегда блистая особыми архитектурными достоинствами, сохраняют для нас образы классиков и неповторимую духовную атмосферу эпохи первой половины XIX столетия. Это не только Абрамцево, Мураново, Остафьево, Середниково, но и Михайловское, Тарханы, Ясная Поляна, многие другие памятные места российской глубинки. Все они нуждаются в нашем особенном, бережном отношении.
Литература:
- 1. Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. — Собр. соч. В 4-х т. — Т. 1. — М., 1955.
- 2. Беловинский Л.В. Изба и хоромы: Из истории русской повседневности: Научно-познавательное издание. — М.: ИПО «Профиздат», 2002. — (Сер. «История повседневности». Вып. 1).
- 3. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцево: Фотопутеводитель / Сост. И.А. Рыбаков. — М.: Планета, 1991.
- 4. Греч А.Н. Венок усадьбам. — В кн.: Памятники Отечества: Альманах, 1994, № 3 — 4 (Вып. 32). — С. 5.
- 5. Дворянские гнезда России: История, культура, архитектура: Очерки. — М.: Изд-во «Жираф», 2000.
- 6. Литературное Подмосковье: Учеб. пособие / Мин-во образования РФ; Моск. пед. ун-т. — М.: Изд-во «ВЕК», 1998.
- 7. Музей-заповедник «Абрамцево»: Очерк-путеводитель. — 2-е изд. — М.: Изобраз. искусство, 1988.
- 8. Музей-усадьба «Абрамцево»: Путеводитель / АН СССР; Ин т истории искусств. — М., 1960.
- 9. Мураново: Альбом. — М.: Моск. рабочий, 1986.
- 10. Новиков В.И. Большие Вяземы. — М.: Моск. рабочий, 1988. — (Памятники Подмосковья).
- 11. Новиков В.И. Остафьево: Литературные судьбы XIX века. — М.: Знание, 1991.
- 12. Пахомов Н.П. Абрамцево. — М.: Моск. рабочий, 1969.
- 13. Пахомов Н.П. Музей Абрамцево. — М.: Сов. художник, 1968.
- 14. Печерский М.Д. Остафьево. — М.: Моск. рабочий, 1988.
- 15. Пигарев К. Мураново. — М.: Моск. рабочий, 1948.
- 16. Полонский Я.П. Проза. — М., 1998.
- 17. Тыдман Л.В. Изба. Дом. Дворец: Жилой интерьер России с 1700 по 1840-е годы / ГУОП; Научно-исследовательский методический центр охраны населения; Научно-исследовательский музей русской архитектуры им. А.В. Щусева. — М.: Прогресс-Традиция, 2000.
- 18. Фет А.А. Воспоминания. — М., 1983.
- 19. Шевелева О. Усадебный быт конца XIX — начала XX вв. в воспоминаниях современников (на примере усадьбы Михайловское) // Sheveleva. htm.
Кэтрин хогарт — незаслуженно забытая супруга чарльза диккенса. Семейная жизнь чарльза диккенса
Произведения английского писателя, создателя комических характеров Чарльза Диккенса считаются классикой мировой литературы. Творчество яркого социального критика относится к жанру реализма, но в его работах также отражены сказочные, сентиментальные черты.
Родители Диккенса по воле судьбы не могли обеспечить восьмерым детям безбедной жизни. Ужасная нищета, бесконечные долги, коснувшиеся юного писателя, впоследствии были выражены в его работах.
7 ноября 1812 года в Лэндпорте у Джона и Элизабет Диккенс родился второй по счету ребенок. В этот период глава семейства работал на Королевском флоте (военно-морская база), занимал должность чиновника. Через три года Джона перевели в столицу, а вскоре отправили в город Чатем (графство Кент). Здесь Чарльз получил школьное образование.
В 1824 году отец романиста попал в жуткую долговую яму, денег в семье катастрофически не хватало. Согласно государственным законам Великобритании того времени кредиторы отправляли должников в специальную тюрьму, куда и попал Джон Диккенс. Жена и дети каждые выходные также удерживались в месте заключения, считаясь долговыми рабами.
Жизненные обстоятельства заставили будущего литератора рано выйти на работу. На фабрике по производству ваксы мальчик получал мизерную оплату – шесть шиллингов в неделю, но фортуна улыбнулась несчастной семье Диккенса.
Джон унаследовал имущество дальнего родственника, что позволило расплатиться с долгами. Он получал адмиралтейскую пенсию, подрабатывал репортером в местной газете.
После освобождения отца Чарльз продолжил работать на фабрике и учиться. В 1827 году окончил Веллингтонскую академию, а после взяли в адвокатскую контору на должность младшего клерка (зарплата 13 шиллингов в неделю). Здесь парень трудился на протяжении года, а, освоив стенографию, выбрал профессию свободного репортера.
В 1830 году карьера молодого писателя пошла в гору, и его пригласили в редакцию «Монинг Хроникал».
Литература
Начинающий репортер сразу же привлек внимание общественности, читатели оценили заметки, что вдохновило Диккенса к масштабному писательству. Литература стала для Чарльза смыслом жизни.
В 1836 году напечатаны первые произведения описательно-нравственного характера, названные романистом «Очерки Боза». Содержание сочинений оказалось актуальным для социального положения репортера и большинства горожан Лондона.
Психологические портреты представителей мелкой буржуазии печатались в газетах и позволили их молодому автору заполучить славу и признание.
– русский писатель, назвал Диккенса мастером письма, искусно отражающим современную действительность. Дебютом прозаика XIX века стал роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837 год). В книге собраны жанровые зарисовки, описывающие особенности англичан, их добродушный, живой нрав. Оптимизм и легкость при чтении работ Чарльза привлекали интерес все большего числа читателей.
Лучшие книги
Последующие рассказы, повести, романы Чарльза Диккенса имели успех. С небольшим интервалом времени в свет выходили шедевры мировой литературы. Вот некоторые из них:
- «Приключения Оливера Твиста» (1838 год). В книге писатель выступил, как гуманист, показывая силу добра и честности, противостоящие всем жизненные трудностям. Главный герой романа – мальчик-сирота, который встречает на своем пути разных людей (порядочных и преступных), но в конечном итоге остается верным светлым принципам. После выхода в печать этой книги на Диккенса «высыпался» шквал скандалов и разбирательств от управляющих домов Лондона, где жестоко использовался детский труд.
- «Лавка древностей» (1840-1841 гг.). Роман входит в число популярных сочинений писателя. История маленькой Нелл, героини книги, и сегодня имеет место для желающих совершенствоваться в своем видении жизни. Сюжетная линия произведения пронизана вечной борьбой между добром и злом, где первое всегда побеждает. При этом подача материала построена с юмористическим уклоном, простым для восприятия.
- «Рождественская история» (1843 год). Великолепная история, вдохновившая в 2009 году режиссера снять детское видео — мультфильм-сказку по произведению английского классика, поразивший зрителей анимацией, трехмерным форматом, яркими эпизодами. Книга заставляет каждого читателя глубоко задуматься над прожитой жизнью. В своих рождественских повестях Диккенс обличает пороки господствующего общества в отношениях с обездоленными людьми.
- «Дэвид Копперфильд» (1849-1850 гг.). В данном сочинении романиста юмор прослеживается все меньше. Произведение можно назвать автобиографией английского общества, где ярко прослеживается протестующий дух граждан против капитализма, а на восхваляющийся план выходят мораль и семейные ценности. Многие критики и авторитетные литературы назвали этот роман величайшей работой Диккенса.
- «Холодный дом» (1853 год). Произведение является девятым по счету романом Чарльза. Здесь классик уже обладает зрелыми художественными качествами. Согласно биографии писателя, все его герои во многом схожи с ним самим. В книге отражены свойственные его ранним произведениям черты: несправедливость, бесправие, сложности социальных отношений, но способность персонажей противостоять всем невзгодам.
- «Повесть о двух городах» (1859 год). Исторический роман написан Диккенсом в период его душевных любовных переживаний. Параллельно у автора возникают мысли о революции. Все эти аспекты красиво переплетены, представившись перед читателями в образе интересных моментов согласно мотивам религиозности, драматизма и всепрощения.
- «Большие надежды» (1860 год). Сюжет данной книги экранизирован и театрализован во многих странах, что говорит о популярности и успешности произведения. Достаточно жестко и одновременно саркастично описал автор жизнь джентльменов (благородных аристократов) на фоне великодушного существования простых тружеников.
Личная жизнь
Первой любовью Чарльза Диккенса стала дочь управляющего банком – Мария Биднелл. На тот момент (1830 год) молодой парень был простым репортером, что не вызывало к нему расположения у богатого семейства Биднеллов. Испорченная репутация отца писателя (бывший долговой заключенный) также подкрепляла негативный настрой к жениху. Мария уехала учиться в Париж, а вернулась охладевшей и чужой.
В 1836 году романист женился на дочери своего приятеля-журналиста. Девушку звали Кэтрин Томсон Хогарт. Она стала для классика верной женой, родила ему в браке десятерых детей, но между супругами часто случались ссоры, разногласия. Семья стала для писателя обузой, источником забот и постоянных мучений.
В 1857 году Диккенс снова влюбился. Его избранницей стала молоденькая 18-летняя актриса Эллен Тернан. Воодушевленный прозаик снял для возлюбленной квартиру, где проходили их нежные свидания. Роман между парой длился до самой смерти Чарльза. Красивым отношениям творческих личностей посвящен фильм, снятый в 2013 году — «Невидимая женщина». Эллен Тернан стала впоследствии главной наследницей Диккенса.
Смерть
Совмещая бурную личную жизнь с интенсивным писательством, здоровье Диккенса становилось незавидным. Литератор не обращал внимания на тревожащие его недуги и продолжал усердно трудиться.
После путешествий по американским городам (литературное турне) проблем со здоровьем добавилось. В 1869 году у писателя периодически отнимало ноги и руки. 8 июня 1870 года в период его пребывания в поместье Гэйдсхилл произошло страшное событие – у Чарльза случился инсульт, а утром следующего дня великого классика не стало.
Чарльз Диккенс – величайший писатель похоронен в Вестминстерском аббатстве. После смерти слава и популярность романиста продолжала расти, а народ превратил его в идола английской литературы.
Знаменитые цитаты, книги Диккенса и сегодня проникают в глубину сердца его читателей, заставляя задуматься над «сюрпризами» судьбы.
- По своему характеру Диккенс был очень суеверным человеком. Пятницу считал самым счастливым днем, нередко впадал в транс, испытывал дежавю.
- После написания 50 строк каждой своей работы обязательно выпивал несколько глотков горячей воды.
- В отношениях со своей женой Кэтрин проявлял жесткость и строгость, указывая женщине на ее истинное предназначение – рожать детей и не возражать мужу, но со временем начал презирать супругу.
- Одним из любимых развлечений писателя являлось посещение парижского морга.
- Романист не признавал традицию воздвижения памятников, при жизни запретил воздвигать ему подобные скульптуры.
Цитаты
- Дети, кто бы их ни воспитывал, ничего не ощущают так болезненно, как несправедливость.
- Видит Бог, мы напрасно стыдимся своих слез, — они как дождь, смывающий душную пыль, иссушающую наши сердца.
- Как печально видеть мелкую зависть в великих мудрецах и наставниках мира сего. Я уже с трудом понимаю, чем руководствуются люди — да и я сам — в своих поступках.
- В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека.
- Ложь, откровенная или уклончивая, высказанная или нет, всегда остается ложью.
Библиография
- Посмертные записки Пиквикского клуба
- Приключения Оливера Твиста
- Николас Никльби
- Лавка древностей
- Барнеби Радж
- Рождественские повести
- Мартин Чезлвит
- Торговый дом Домби и Сын, торговля оптом, в розницу и на экспорт
- Дэвид Копперфильд
- Холодный дом
- Тяжёлые времена
- Крошка Доррит
- Повесть о двух городах
- Большие надежды
- Наш общий друг
- Тайна Эдвина Друда
Фрэнсис Александр. Портрет молодого Диккенса
В день своего двадцатитрехлетия молодой журналист “Морнинг кроникл” Чарльз Диккенс созвал в Фернивалз-инн, где снимал квартиру, гостей. У него был прекрасный повод устроить праздник: зарисовки из лондонской жизни, которые он публиковал в “Кроникл” и “Мансли мэгэзин” под псевдонимом Боз, читали все. Незадолго до того его бросила Мария Биднел, женщина, в которую он был влюблен до безумия, — она не верила, что из Диккенса “выйдет толк”. И хотя молодой Диккенс не воспользовался растущей славой и признанием, которые принесли ему “Очерки Боза”, чтобы вновь добиваться ее благосклонности, он мог позволить себе маленькую месть. В субботу вечером устроил праздник. С танцами. Ему помогали мать и сестры, и одна из них, прелестная, талантливая Фанни Диккенс, радовала гостей своим пением.
В числе приглашенных были еще один журналист из “Морнинг кроникл” Джордж Хогарт и кое-кто из его семьи. Диккенс испытывал к старшему коллеге глубочайшее уважение — тот был признанным писателем, добрейшим человеком, а в пору, когда жил в родном Эдинбурге, другом и советчиком сэра Вальтера Скотта. Диккенс родился в семье портового кассира, известного лишь тем, что он не мог содержать семью. Джордж Хогарт, напротив, занимал прочное положение в том чарующем мире литературы, куда стремился попасть Диккенс. Молодой человек гордился этой дружбой и с удовольствием бывал в доме коллеги. Пожалуй, никому не было так весело в гостях у Диккенса, как старшей дочери Хогарта — двадцатилетней Кэтрин. “При ближайшем знакомстве мистер Диккенс только выигрывает: очень благовоспитанный и приятный человек”, — писала она позднее шотландской родственнице.
А в конце весны того же 1835 года Кэтрин Хогарт и Чарльз Диккенс объявили о помолвке. Она была на три года моложе его, хорошенькая, с голубыми глазами и тяжелыми веками, свежая, пухленькая, добрая и преданная. Он любил и ценил ее семью. Хотя Кэтрин не будила в нем такой страсти, как Мария Биднел, она, казалось, идеально ему подходила. Диккенс намеревался громко заявить о себе. Он знал, что ему предстоит долго и упорно трудиться, а он любил все делать быстро. Ему хотелось иметь жену и детей. Он обладал страстной натурой и, выбрав спутницу жизни, искренне к ней привязался. Они стали одним целым. Она была “его лучшей половиной”, “женушкой”, “миссис Д.” — в первые годы их брака он называл Кэтрин только так и говорил о ней с безудержным восторгом. Он определенно гордился ею, а также тем, что сумел получить в жены такую достойную спутницу. Они поженились в апреле 1836 года и в целях экономии остались в квартире Диккенса в Фернивалз-инн — маленькой, но элегантной: в гостиной стояла мебель розового дерева, в столовой — красного. В доме было многолюдно и весело: младший брат Диккенса Фредерик и семнадцатилетняя сестра Кэтрин Мери поселились вместе с ними. Всеми любимая, очаровательная Мери дружила с Диккенсом не меньше, чем с сестрой. Они везде бывали втроем и все радости делили на троих. Мери была свидетельницей счастливого союза Чарльза и Кэтрин: “Она стала прекрасной хозяйкой и совершенно счастлива. Мне кажется, после свадьбы их любовь стала еще сильнее, если это, конечно, возможно”. Похоже, они радовались жизни — как сегодня радовались бы студенты, вырвавшиеся из-под родительского гнета и поселившиеся в общежитии, — от сознания того, что молоды, свободны и всегда вместе. Немногим позже Диккенс уже ностальгически писал о первых днях своего брака: “Никогда я не буду так счастлив снова, как в той квартирке на третьем этаже — даже если буду купаться в славе и богатстве”.
В семье быстро появились дети. Чарльз-младший родился через девять месяцев после свадьбы, в начале января 1837 года, незадолго до восшествия на престол королевы Виктории. Роды помогали принимать Мери Хогарт и мать Чарльза Элизабет Диккенс. Кэтрин быстро выздоравливала, но все же еще долго не могла ухаживать за ребенком, что ее очень печалило. При взгляде на него она всякий раз заливалась слезами, полагая, что мальчик не будет ее любить, раз не она о нем заботится. “Если бы не это, — философски замечала Мери Хогарт в письме к шотландской кузине, — она была бы счастливейшей из женщин: ее муж — сама доброта — непрерывно печется о ее удобстве и покое. Его литературная слава растет день ото дня, все великие мужи этого великого города наперебой его хвалят. Он очень занят, и все издатели почитают за честь получить написанное им”.
Дэниэл Маклиз. Портрет Чарльза Диккенса
Мери Хогарт была права: в 1837 году Диккенс уже был знаменитостью. Многие понимали, что перед ними гений. Его фантазия поражала. Создавалось впечатление, что у него в голове целый мир, наполненный удивительными картинами и персонажами, и ему лишь нужно время, чтобы перенести все это на бумагу. В год, когда родился сын Чарльз, Диккенс писал и публиковал частями, по мере написания, “Записки Пиквикского клуба” и одновременно “Оливера Твиста”. Покончив с “Пиквиком”, он тут же принялся за “Николаса Никльби”, который опять же выходил параллельно с “Оливером Твистом”. По-моему, история литературы не знает ничего подобного этому извержению вулкана даже по количеству созданного Диккенсом в двадцать с небольшим лет. К тридцати годам за плечами у него были не только “Очерки Боза”, “Пиквик”, “Оливер” и “Николас Никльби”, но и “Барнеби Радж” и “Лавка древностей”.
Дети Диккенса появлялись на свет почти так же регулярно, как и книги. За Чарльзом в 1838 году последовала Мейми, далее — в 1839-м — Кейт, а в 1841-м родился Уолтер (между Чарли и Мейми у Кэтрин был выкидыш). С иронией Диккенс стал отзываться о прибавлениях в семействе лишь после того, как родился Уолтер. Известно, что первые четверо детей были для него огромной радостью. Он беспокоился о здоровье Кэтрин во время беременности и родов. Ему очень нравилось чувствовать себя семейным человеком, центром расширяющегося круга близких людей. Он испытывал удовлетворение от сознания, что может их прекрасно содержать. Из маленькой квартирки в Фернивалз-инн семья перебралась в большой дом на Даути-стрит, а оттуда — в просторный и роскошный особняк на Девоншир-террас, неподалеку от Риджентс-парк.
Романы Диккенса часто венчает картина семейной идиллии: счастливые супруги, исправно производящие на свет счастливых детей. Семья, которая размножается, подобно бактериям в чашке Петри, была его идеалом, решением всех проблем.
Современному читателю этот сентиментальный тон может показаться фальшивым. Нортроп Фрай полагал, что, живописуя прелести домашнего очага, Диккенс преследовал коммерческие цели. А с тех пор как в 1941 году Эдмунд Уилсон создал поразительный образ мрачного, страдающего Диккенса, многие сочли, что описания семейной жизни у Диккенса плохи потому, что в глубине души он был анархистом и бунтарем. Отрицая семью как форму несвободы, он-де заставлял себя превозносить ее на потребу публике. Однако, кажется, подобные сцены в романах были написаны совершенно искренне. И если их трудно воспринимать всерьез, то не потому, что Диккенс сознательно кривил душой, а потому, что верил в семейную идиллию слишком безоглядно.
Его собственное детство было искалечено расточительностью отца, угодившего за долги в тюрьму (семье великодушно разрешили жить там же), и непосильным трудом на фабрике по производству ваксы — в последнем он винил мать больше, чем отца.
Портрет Джона Диккенса, отца писателя В цвете, увы, не нашла. Автора не знаю.
Когда мальчик пожаловался родителям, что, живя вдали от семьи и занимаясь бессмысленным трудом среди законченных тупиц, он потерял надежду на лучшую участь и глубоко несчастен, отец, по свойственной ему беспечности, готов был разрешить сыну бросить работу и вернуться в семейное лоно, но мать, требовавшая от сына денег, заставила его остаться на фабрике, чем обрекла на прежнее ужасное и одинокое существование. Он кормил родителей, а не наоборот. Поэтому Диккенс возносил на пьедестал — возможно, чрезмерно высокий — те семьи, где отец работал и содержал домочадцев, мать занималась детьми и домом, а детям оставалось только радоваться жизни. Диккенс обожал семью и был счастлив в кругу родных. В гимнах домашнему очагу, которыми изобилуют его первые романы, не было ничего лицемерного. В жизни Диккенса и Кэтрин был счастливый период, хотя позднее измученный, разочарованный Диккенс говорил, что такого не было никогда.
Много лет спустя Диккенс уверял, что у них с Кэтрин никогда не было ничего общего. Он приложил немало усилий, чтобы создать образ непонятого гения, обреченного на союз с недалекой, невзрачной особой. Скорее всего, Кэтрин и впрямь не была ему ровней по уму, но много ли на свете умных мужей, чьи жены не уступают им по уму? У Диккенса были друзья-мужчины: юрист и писатель Джон Форстер, художник Дэниэл Маклиз и актер-трагик Уильям Чарльз Макриди, с которыми он часто ужинал и обсуждал профессиональные дела, особенно с Форстером. Диккенс всегда любил мужскую компанию и в первые годы брака, когда еще был настроен на то, чтобы радоваться семейной жизни, не жаловался на отсутствие полноценного общения…
Лишь одна трагедия омрачила первые годы брака Диккенса и Кэтрин, но она принадлежала к разряду тех, что сближают, а не разъединяют людей. Оба они были очень привязаны к сестре Кэтрин Мери Хогарт, которую считали добрым гением своей семьи. В мае 1837 года, вскоре после рождения Чарльза, супруги Диккенс отправились вместе с Мери в театр на спектакль “Это и впрямь его жена?”. Около часа ночи они вернулись домой, и Мери, веселая и здоровая, поднялась наверх. Ей стало плохо, когда она раздевалась. Все произошло стремительно — на следующий день она скончалась на руках у Диккенса. До этого она никогда не жаловалась на здоровье и, вероятно, умерла от болезни сердца. Диккенс был безутешен. Впервые в жизни он не мог писать и не сдал рукописи в срок: в июне 1837 года не вышли ни “Пиквик”, ни “Оливер”. Много месяцев она ему снилась. Когда у Кэтрин случился выкидыш, они решили, что это результат пережитого горя, и, чтобы жена скорее выздоровела, Диккенс увез ее из дома, где они жили вместе с Мери, в тихий Хампстед (тогда это была деревня). Оба не без суеверия полагали, что были слишком счастливы — смерть Мери положила конец безмятежной поре их брака. Это не означает, что все разрушилось в одночасье, но, оглядываясь назад и расставляя жизненные вехи, оба пришли к выводу, что то был конец их семейной идиллии.
Мне этот портрет попался как портрет Мери Хогарт, но я не уверена, что это действительно так
Кое-кто находил привязанность Диккенса к юной свояченице подозрительной. Но можно усмотреть в этом и лишь подтверждение тому, что он чрезвычайно дорожил своими близкими, после Кэтрин Мери была ему ближе всех на свете и умерла первой. Смерть такого молодого и прелестного существа не может не потрясти. Все в жизни Диккенсу довелось увидеть рано, и со смертью он столкнулся тоже рано, осознав в возрасте двадцати пяти лет, что любимый человек может уйти навсегда и что боль этой потери не смягчат ни работа, ни успех, ни талант. Смерть юных героев стала, наряду с семейным счастьем (зачастую оттеняя его), отличительной чертой романов Диккенса.
В июне 1841 года в возрасте двадцати девяти лет он отправился в Шотландию. Для человека, безвыездно жившего в Лондоне и не любившего слишком отдаляться от дома, это стало серьезным событием (позже, однако, выяснилось, что то была лишь легкая разминка перед триумфальной поездкой по Америке в следующем году). Кэтрин, уроженка Эдинбурга, поехала вместе с ним. Она не была там с детства. Родной город встретил ее торжественным обедом в честь мужа. По окончании пиршества в сопровождении ста пятидесяти дам она прошла на галерею, чтобы послушать заранее подготовленные торжественные речи. Главную произнес Джон Уилсон из “Блэквудс мэгэзин”. Этот уважаемый в литературных кругах джентльмен назвал Диккенса величайшим из здравствующих писателей, мастером, снискавшим известность благодаря божественному пониманию законов человеческого сердца. Единственным недостатком, который Уилсон (надо сказать, безосновательно) усматривал в творчестве Диккенса, было отсутствие в его произведениях полнокровных женских образов. Но кто после Шекспира был в состоянии их создать? Миссис Диккенс имела удовольствие выслушать панегирик в свою честь, произнесенный скульптором Энгусом Флетчером, любезно заметившим, что своим успехом Диккенс обязан тому, что выбрал в спутницы жизни шотландку. Если прием в Эдинбурге был большим событием в жизни Диккенса — первым публичным чествованием, подтверждавшим невероятную популярность писателя, то он наверняка был не менее важен и для Кэтрин, чье имя тоже прозвучало во всеуслышание.
Один обед следовал за другим. Всем хотелось видеть у себя самого знаменитого автора современности и его жену. Диккенс впервые попал в лучи славы, и это вызвало у него тоску по дому и маленькому кругу друзей. “Мне стало понятно, — писал он своему лучшему другу Джону Форстеру, — что нет на свете места лучше, чем дом, и я горячо благодарю Бога, давшего мне спокойный нрав и сердце, где есть место лишь немногим”. Он скучал по дому на Девоншир-террас и по маленькому приморскому городку Бродстэрс, куда они с Кэтрин каждое лето вывозили детей. Ему хотелось играть в волан и тихо, по-домашнему ужинать с Форстером, Маклизом и Макриди, его закадычными друзьями. “Единственное, что я чувствовал на обеде в Эдинбурге (и чувствовал сильно), это что, кроме Кейт, мне ни до кого нет дела”.
Дэниэл Маклиз. Портрет Кэтрин Диккенс
В Америку Диккенс направился тоже не ради славы. Он жаждал новых впечатлений и надеялся увидеть идеальное, бесклассовое общество — страну своей мечты. Кроме того, ему был необходим отдых. Пять лет он писал ежедневно и выпустил пять книг. Возможно, в Америке он найдет новый материал. Для поездки было много причин. Когда он впервые заговорил об этом с Кэтрин, та расстроилась. Она не могла представить себе, что не увидит мужа несколько месяцев, но и мысль о том, что придется расстаться с детьми, если она последует за ним, была невыносима. Всякий раз, когда речь заходила об Америке, Кэтрин принималась плакать. Диккенс отнесся к этому очень серьезно и посоветовался с Макриди, не взять ли с собой и детей (Макриди, у которого тоже были дети, дважды ездил в Америку и, стало быть, должен был знать). Макриди с женой категорически отсоветовали брать детей, зато сказали, что могут присмотреть за ними в отсутствие родителей. Постепенно возник план, который устроил Кэтрин: свой дом на Девоншир-террас они сдадут, а для детей и гувернанток наймут дом поменьше, неподалеку от Макриди, на Оснабург-стрит. Фредерик, брат Диккенса, поселится с детьми, которые будут ежедневно навещать Макриди. Когда детали этого плана были оговорены, Кэтрин приободрилась и стала вместе с мужем готовиться к захватывающему путешествию. Именно она попросила Маклиза нарисовать портрет четверых детей, и эта картина, ставшая для нее священной, служила ей утешением во время долгого путешествия, подобно тому как сейчас фотографии близких скрашивают нам разлуку.
Пароход отплыл из Ливерпуля в январе 1842 года. Зима — не лучшее время для плавания по океану, и на хорошую погоду рассчитывать не приходилось. Но чета была счастлива и готова к приключениям. Провожавший их Форстер рассказывал Маклизу, как весела была Кэтрин. “Она заслуживает того, чтобы быть любимой, и ее часто так и называют”. Четыре с половиной месяца, которые заняла эта тяжелейшая поездка, Кэтрин и ее горничная Энн Браун были единственным обществом Диккенса. Слабая, изнеженная Кэтрин прекрасно перенесла тяготы пути, хотя ей наверняка было труднее приспособиться к ним, чем мужу.
Пароход был переполнен, путь через океан ужасен, почти все пассажиры страдали морской болезнью — даже Диккенс. “На восемнадцатый день путешествия, — писала позднее Кэтрин сестре Диккенса Фанни, — мы познали ужасы шторма, который бушевал всю ночь и вдребезги разнес колесные кожухи и спасательную шлюпку. Я едва не сошла с ума от страха и не знаю, что бы со мной стало, если бы не поразительная доброта и выдержка моего дорогого Чарльза”. В ту страшную ночь они понимали, что могут погибнуть в любую минуту. Дымовую трубу едва не сорвало ветром, и если бы это произошло, пароход бы неминуемо сгорел. Чарльз и Кэтрин Диккенс думали о детях, которых не надеялись больше увидеть. Возможно, Чарльз был доволен — если только можно испытывать подобное чувство, находясь на волосок от гибели, — что застраховался перед отплытием. Это хотя бы обеспечивало детей материально. По счастью, к утру шторм стих, и все остались живы.
Когда Кэтрин описывала шторм Фанни Бернет, они с Чарльзом были на суше, в безопасности, но уже начинали понимать, что умереть можно и там -от любви почитателей. Они просто боготворили Диккенса. Дни состояли из непрерывной череды встреч, визитов и обедов (Кэтрин даже не пыталась пересказать Фанни, как это происходило, “потому что я не умею хорошо описывать, а Чарльз рано или поздно все тебе расскажет гораздо лучше”).
Дэниэл Маклиз. Портрет Кэтрин Диккенс
Ничто в анналах современной литературы не может сравниться с тем, как Америка встречала Диккенса в 1842 году. Прием был таким восторженным, что стал скорее пыткой, чем удовольствием для объекта поклонения. Несмотря на свою кипучую энергию и радость, которую ему доставляли веселые пиршества, Диккенс был не в состоянии принять все приглашения и отозваться на все просьбы. Америка утомила и даже огорчила его. Он жаловался, что люди, которым непременно хотелось дотронуться до него или получить что-нибудь на память, разорвали его пальто в клочья. Если бы он дарил пряди волос всем, кто его об этом просил, то остался бы совершенно лысым…
Когда с Восточного побережья супруги двинулись на Запад, возникли новые проблемы. Толпы поклонников, осаждавших Диккенса в Нью-Йорке и Бостоне, поредели, зато вступила в свои права дикая природа. Горничная Энн Браун поскользнулась на льду и упала, но все обошлось. “О бедах, постигших Кейт, я умолчу, — писал Диккенс Форстеру, — но ты ведь знаешь ее? Если она садится в карету или ступает на палубу, то непременно спотыкается. То же самое происходит, когда мы вновь оказываемся на земле. Она стирает ноги в кровь, отчего появляются огромные волдыри, растягивает связки и то и дело ставит синяки. Тем не менее она преодолела первые трудности, выпавшие на нашу долю в новых обстоятельствах, и показала себя заправской путешественницей. Она никогда не жалуется и не выказывает страха, причем и тогда, когда даже я счел бы это оправданным. Никогда не падает духом, не унывает, хотя мы более месяца без остановок ехали по очень суровому краю; она безропотно приспосабливается к любым обстоятельствам и радует меня доказательствами своей храбрости”. Кэтрин была крайне неуклюжа, и это вызывало у Диккенса раздражение еще в 1842 году, однако общий тон письма — тон человека любящего, счастливого и снисходительного. Диккенс прекрасно понимал, что любой женщине, не приученной к физическим нагрузкам и подвижному образу жизни, было бы трудно поспевать за ним, как, кстати, и большинству мужчин. Даже при его высоких требованиях она казалась ему героиней.
Когда в конце июня 1842 года чета вернулась в Лондон, счастью детей не было предела. У старшего, Чарли, приезд отца и матери вызвал такую бурю эмоций, что даже сделались судороги и пришлось вызывать врача. В отсутствие родителей дети были здоровы, но несчастны. Порядки в семействе Макриди были гораздо строже, чем в родном гнезде, и детям их дом казался чопорным, угрюмым и скучным. Ежедневные визиты были им в тягость. Можно представить их восторг, когда они снова увидели родителей!
В книге “Отец, каким я его помню” Мейми Диккенс, так и не вышедшая замуж, вспоминала, каким прекрасным отцом был Диккенс. По природе он был человеком домашним, утверждала она. Никому на свете семейный круг не доставлял столько радости, и чем более известным писателем он становился, тем больше удовольствия получал от общения с близкими, особенно с детьми. Он охотно вникал в их заботы, помогал украшать детские комнаты (куда наведывался ежедневно), покупал сласти, устраивал состязания, игры, дни рождения. Но ярче всего его талант устроителя домашних праздников проявлялся на Рождество — праздник прежде всего семейный, и, конечно, его “Рождественские повести” были призваны превратить религиозное торжество в домашнее.
День рождения Чарли приходился на Двенадцатую ночь, и, отмечая его в 1843 году, после возвращения из Америки, Диккенс впервые выступил в роли фокусника: так возникла традиция устраивать в эту ночь и в дни рождения, совпадавшие с рождественскими праздниками, “чудеса”. Диккенс и Форстер приобрели у бывшего иллюзиониста реквизит и своим представлением сразили наповал и детей, и взрослых. Диккенс был главным, Форстер ассистировал. Диккенс превращал часы в жестянки для чая, заставлял монеты летать по воздуху, сжигал, не сжигая, носовые платки. По его прихоти маленькая кукла исчезала и вновь появлялась, чтобы сообщить нечто важное тому или иному из сидящих в комнате детей. Но венцом всего было приготовление сливового пудинга в мужской шляпе.
На одном из таких праздников присутствовала Джейн Карлейль, это было 26 декабря 1843 года, в день рождения маленькой Нины Макриди. Гости съехались в дом Макриди, но организовал все Диккенс: он хотел поднять настроение миссис Макриди и детям, дожидавшимся возвращения отца семейства из Америки. Джейн говорила позднее, что никогда ей не было так весело в гостях, как в тот вечер. Диккенс и Форстер, опьяненные успехом, трудились так усердно, что с них градом катился пот. Фокусы шли час без перерыва, и ничего лучше Джейн в своей жизни не видела даже в цирке. Диккенс превращал дамские носовые платки в конфеты, пакет с отрубями — в морскую свинку, а под конец показал свой коронный номер: смешав в шляпе муку, яйца и другие ингредиенты, через несколько секунд достал из нее свежеиспеченный, пышущий жаром сливовый пудинг. Восторгу детей и взрослых не было предела.
Затем начались танцы. Огромный Теккерей, старик Джердан из “Литерари газет” и прочие маститые литераторы “прыгали, как менады”. После ужина веселье вспыхнуло с новой силой: трещали хлопушки, звучали речи, лилось шампанское. Джейн была уверена, что ни один, даже самый аристократический, салон в Лондоне не шел ни в какое сравнение с этой комнатой по части веселья, блеска и остроумия.
Но в то самое время, когда Диккенс куролесил на дне рождения Нины Макриди, “прыгая, как менада”, и вытаскивая пудинги из шляпы, на душе у него было тяжело, вернее, он старался сбросить тяжесть с души, отчего и веселился как безумный. Он только что ценой огромного напряжения закончил “Рождественскую песнь”, которую писал параллельно с “Мартином Чезлвитом”, выходившим, как и прежние романы-фельетоны, по частям. Ему было без малого тридцать два, на семь лет больше, чем когда он так же одновременно писал “Пиквика” и “Оливера”, а затем “Оливера” и “Николаса Никльби”. Доставать подобные пудинги из шляпы становилось все труднее. Предыдущие семь лет, не считая американской поездки, которая была трудна по-своему, он работал без остановки, как машина. И что же? “Мартин Чезлвит” продавался плохо, “Рождественская песнь”, которая, по его расчетам, должна была поправить финансовое положение семьи, принесла гораздо меньше денег, чем он рассчитывал. В надежде больше заработать он в очередной раз поменял издателей (как прежде ушел от Бентли к Чепмену и Холлу, так теперь предпочел Чепмену и Холлу Брэдбери и Эванса), но это ни к чему не привело. Он ненавидел всех своих издателей, полагая, что обогатил их в ущерб себе. Его преследовал призрак Вальтера Скотта, умершего в бедности.
Ральф Брюс. Диккенс со своими героями
Финансовое бремя, которое он нес, было огромно: помимо Кэтрин и детей, ему приходилось содержать отца, мать и братьев, что было уже непосильно. Особенно невыносим был отец, Джон Диккенс, частенько преподносивший сюрпризы в виде долговых обязательств, которые подписывал, не ставя близких в известность. Родители получили в подарок от сына дом в деревне, но отец предпочитал жить в Париже или Лондоне. В конце концов, не спросив Чарльза, Джон Диккенс дом этот сдал, а деньги, разумеется, забрал себе. Он все время просил взаймы у издателей и банкиров сына. Что бы тот для него ни делал, всего было мало. “Я думаю о нем денно и нощно и не знаю, как быть. Совершенно очевидно, что чем больше мы для него делаем, тем легкомысленнее и наглее он становится”, — признавался Диккенс. Ему казалось, что все они — отец, мать и братья — рвут его на части и видят в нем лишь источник наживы. Их вечные домогательства, страх, что с него потребуют еще больше, повергали его в отчаяние, угнетали и мешали работать. Самым ужасным было то, что с этим ничего нельзя было поделать, — он не мог избавиться от этой докуки: “Мысль о них вызывает у меня тоску”.
Кроме того, Диккенса осаждали читатели: ему все время приходилось надписывать книги, давать советы, оказывать помощь. Он писал по десятку писем на дню и никогда не успевал ответить всем. В конце 1843 года он даже стал подумывать, не уехать ли из Англии навсегда и не поселиться ли во Франции или Италии, где жизнь была дешевле. Сдав дом на Девоншир-террас и ведя скромное существование за границей, Диккенс мог бы урезать расходы и выправить свое финансовое положение. Он полагал, что слава и деньги сделают его богатым человеком, но с горечью убеждался, что это не так. И несмотря на любовь, которую он питал к своим четверым детям, тяжкий груз финансовых обязательств не позволял ему искренне радоваться тому, что Кэтрин ждала очередного ребенка. Она и сама переносила беременность с несвойственной ей нервозностью и унынием, боялась родов. Вряд ли это покажется странным, если учесть, что Диккенс ожидал прибавления в семействе без всякого энтузиазма: “Похоже, мы отметим Новый год появлением еще одного ребенка. В отличие от короля из сказки, я неотступно молю волхвов не тревожить себя более, поскольку мне вполне хватает того, что есть. Но они бывают непомерно щедры к тем, кто заслужил их благосклонность!” Пятый сын Диккенса Фрэнсис Джеффри родился в начале 1844 года. В 1852 году детей стало уже десять.
Сэмуэл Лоуренс. Портрет Кэтрин Диккенс
Мы не знаем, что побудило миссис Генри Уинтер после двадцати четырех лет молчания написать человеку, который в свое время был безумно влюблен в нее и которого она отвергла, когда они оба были молоды. Зато мы знаем, как подействовало это письмо на него. Чарльз Диккенс узнал почерк женщины, которую до того, как женился и стал знаменитым писателем, знал под именем Марии Биднел: “Двадцать три или двадцать четыре года растаяли, как сон, и я взял перо в руки, трепеща, как влюбленный Дэвид Копперфильд”. Диккенс написал ей в ответ длинное послание. Потом другое, третье… Он писал сущую правду: двадцать четыре года растаяли, как сон, и он снова был влюблен в… восемнадцатилетнюю Марию Биднел.
Размышляя над ролью, которую Мария сыграла в его жизни, он пришел к выводу, что она предопределила его судьбу. Потом он никого уже так не любил. Она стала источником его таланта, энергии, страсти, честолюбия и решимости. Благодаря ей он проделал путь от нищеты и безвестности к вершине славы. Ради нее он был готов на все — даже умереть. Она должна была стать ему наградой. Но она отвергла его. Удар был тяжким, и, оглядываясь на прошлое, Диккенс понимал: что-то в нем тогда надломилось навсегда. После их разрыва он уже не мог безоглядно любить, разве что своих детей, да и то когда они были совсем маленькими.
Миссис Уинтер отнюдь не смутило то, что она задним числом превратилась в роковую возлюбленную великого писателя. Его бурный натиск вызвал у нее признания того же рода. Она, как и Диккенс, была уже очень немолода и, без сомнения, тоже гадала, как сложилась бы ее судьба, не отдай она предпочтение человеку заурядному. Непройденный путь представлялся ей весьма романтичным. Что делать, даже порядочные дамы, жены преуспевающих дельцов и матери прелестных дочек, внушив себе, что жизнь с бывшими воздыхателями сложилась бы более счастливо, испытывают иногда потребность — особенно если им сильно за тридцать или сорок — вновь встретиться с прежними возлюбленными и прикинуть, нельзя ли обратить прошлое вспять и начать все заново, вернувшись к последнему объяснению. Жизнь сыграла с миссис Уинтер злую шутку: предпочтя замужество по расчету, она отказала одному из самых блестящих людей своего времени, да еще всего за два года до того, как тот стал богат и знаменит! Отрадно было узнать, что он ее по-прежнему любит и что ее образ вдохновил его на все, что им было создано, — так он по крайней мере утверждал.
У миссис Уинтер было меньше иллюзий, чем у Диккенса. Когда он принялся умолять ее о тайной встрече, она предупредила, что стала “беззубой, толстой, старой и уродливой”, однако он не поверил. Хотя Марии было сорок пять, а Кэтрин сорок, старой, толстой, а также глупой, скучной и вялой была его жена. Но это был особый случай — Кэтрин была хуже всех женщин. Она сама была виновата в том, что старела некрасиво: просто неприятный характер отражался на внешности. А Мария Биднел — очаровательная, юная, веселая Мария — не могла состариться.
Маркус Стон. Любовное письмо
Они договорились встретиться в воскресенье у него дома — в отсутствие Кэтрин. Миссис Уинтер приехала между тремя и четырьмя часами, спросила миссис Диккенс и, поскольку той удивительным образом не оказалось дома, засвидетельствовала почтение мистеру Диккенсу, как он и рассчитывал. Ему хватило одного взгляда на предмет юношеской страсти, чтобы мечты о возобновлении отношений рассыпались в прах. Возможно, тучные формы миссис Уинтер были лишь оболочкой, за которой скрывалась юная Мария, но Диккенс этого не разглядел. Интересно, какими банальностями они обменивались во время мучительной беседы, которая, по первоначальному замыслу Диккенса, несомненно, должна была стать прелюдией к обольщению. Прошлое — как давно это было! Дети — какая радость, хотя в молодости этого нельзя себе представить! Возраст! Оказывается, и мы стареем. И так далее, пока она не уехала. Затем Диккенсу пришлось высидеть обед с четой Уинтер и Кэтрин, который “тайные любовники” запланировали еще до первого свидания. Но уж потом Диккенс пустил в ход все свое красноречие, чтобы избежать встреч с прелестницей из романтического прошлого: “Тот, кто посвятил себя искусству, — втолковывал он ей, — должен довольствоваться служением одному ему и в нем одном находить себе награду. Если Вы сочтете, что я не хочу Вас видеть, мне будет очень грустно, но ничего не поделаешь: я, несмотря ни на что, должен идти своим путем”.
Женщина, вдохновившая Дэвида Копперфильда на любовь к Доре Спенлоу, превратилась в Флору Финчинг, ужаснувшую Артура Кленнема: “Он поднял голову, взглянул на предмет своей былой любви — и в тот же миг все, что оставалось от этой любви, дрогнуло и рассыпалось в прах”.
Словоохотливая Флора, чья речь не отягощена смыслом и лишена знаков препинания, стала одним из самых ярких персонажей “Крошки Доррит”. “Очень рад, что Вам понравилась Флора, — писал Диккенс герцогу Девонширскому. — В какой-то момент я понял, что у каждого из нас есть своя Флора (моя жива и очень расплылась), и эта правда одновременно и столь серьезна, и столь нелепа, что ее никто никогда не высказывал”. Правда заключалась во всевластии времени. Девическая живость, не изменившаяся за двадцать четыре года, становится курьезной. Красивые женщины стареют, толстеют и теряют привлекательность. Мечты юности, смешно это или прискорбно, оборачиваются неприглядной реальностью пожилого возраста. Можно добиться успеха и славы, но быть несчастным. Можно в двадцать три года жениться на женщине, которую искренне любишь, а в сорок три понять, что вас ничто не связывает, кроме совместно прожитых лет и десяти детей, которых не очень-то и хотелось иметь.
Романы, появившиеся после “Дэвида Копперфильда”, написанного, когда Диккенсу было тридцать восемь лет, заметно отличаются от созданных до этого времени, и критики часто сравнивают ранние книги Диккенса с поздними. В ранних больше юмора и оптимизма, поздние сложнее и изобилуют символами. Есть различия в строении и стиле. Даже рукописи выглядят иначе: в поздних видна новая манера письма, лишенная той стихийной непредсказуемости, какая была свойственна Диккенсу прежде. Он часто переделывает написанное, возвращается к нему снова и снова. Ему стало труднее писать, но сила воображения возросла, хотя и лишилась прежней импульсивности. Творчество Диккенса — прекрасное подтверждение теории Эллиота Жака, считавшего, что стиль и содержание работ гениальных художников радикально меняются в середине жизни и что без таких изменений творческий источник иссякает. Литература давала Диккенсу возможность расти и меняться. Она ни в коей мере не подавляла его. А вот опора семейной жизни подломилась, и только этим можно объяснить ложные надежды, которые возникли у Диккенса в 1855 году после получения письма Марии Биднел.
Он жаждал эмоционально наполненных отношений, чего жена дать ему не могла. Кэтрин Диккенс была славной, но ограниченной. Сказать, что ее невозможно было сравнить с Диккенсом по яркости, энергии и таланту, значит не сказать ничего, но в викторианской Англии такими, как Кэтрин, были почти все женщины ее круга. “Ничего ужасного в моей матери не было, — говорила позднее ее дочь Кейт. — У нее, как и у всех нас, были свои недостатки, но она была кротким, милым, добрым человеком и настоящей леди”.
Диккенс, любивший порядок и буржуазный комфорт, требовал, чтобы домашний механизм работал, как часы. Однако у Кэтрин, кажется, не осталось больше ни сил, ни желания управлять слугами, заниматься счетами и воспитанием детей. За шестнадцать лет она родила десятерых, а ведь были еще и выкидыши. Кэтрин почти всегда была либо беременна, либо кормила, и это ее совершенно изнурило. Она не выдерживала жизни с одним из самых энергичных и пылких мужчин Англии. С домашним хозяйством, по крайней мере, она явно не справлялась, и это взяла на себя Джорджина Хогарт, жившая в доме сестры с пятнадцатилетнего возраста (как в самом начале их брака жила Мери Хогарт). К 1856 году Джорджина прочно заняла место Кэтрин и как хозяйка дома, и как доверенное лицо Диккенса. К ней, а не к матери обращались дети с вопросами. А обессиленная Кэтрин лежала на диване, и ее влияние в доме ощущалось все меньше и меньше.
Ей оставалась только одна обязанность жены — сексуальная, но муж был далеко не в восторге от того, как она ее исполняла. Кэтрин не будила в нем прежнего желания. К тому же она все время беременела и рожала! Недовольство Диккенса прибавлениями в семействе, из-за чего увеличивался и без того тяжкий груз расходов, росло, и он жаловался на плодовитость жены, как будто не имел к этому никакого отношения. Но самым невыносимым было то, что беременности, возраст и, возможно, жирная пища неблагоприятно сказывались на ее внешности. Одни только глаза-незабудки напоминали о том, что это расплывшееся лицо в молодости было красивым. Пухлая, бесформенная шея перетекала в громоздкое тело. Это его отталкивало — но не всегда, и должно быть, Диккенс отчасти презирал себя за непоследовательность. Впрочем, он и тут, как обычно, перекладывал вину на нее, поскольку она была виновата во всем, что разрушало их брак. Она непрерывно рожала!
Исследование глубины человеческой души, стремление к познанию мира в его противоречии и разнообразии, анализ человеческих поступков — то, чему посвятил свое творчество Чарльз Диккенс.
Биография писателя
Чарльз Джон Хаффем Диккенс родился в Портсмуте 07.02.1812 года. Он был вторым ребенком в семье. Сестра Фанни старше его на два года. Отец, Джон Диккенс, мелкий служащий в Адмиралтействе, сын горничной и лакея, был очень щедрым и добродушным человеком. Любил прихвастнуть и рассказывать анекдоты. Все это сочеталось в нем со слабостью к джину и виски.
Он мечтал стать актером, но мечту осуществить так и не смог. Пристрастие к театру, жизнь не по средствам привели его в конце концов в тюрьму для должников. С ним вместе там оказалась и вся семья. Диккенс в романе «Крошка Дорит» превосходно опишет «долговую тюрьму». В 12 лет Чарльз Диккенс был вынужден работать на фабрике ваксы. Воспоминания об этом периоде жизни найдут отражение в романе «Дэвид Копперфилд», в эпизоде мытья бутылок.
Диккенса эти воспоминания мучили даже в зрелые годы. В его сознании навсегда остался страх перед нищетой. Шесть месяцев, что он работал на этой фабрике, Чарльз чувствовал себя беспомощным, униженным. В одном из своих писем он написал, что никто и не подозревал, как он горько и тайно страдал.
Семья. Отец
Тем не менее, Чарльз не скрывал, что отца он любил больше, чем мать. Мистер Джон старался ни в чем детям не отказывать, окружил их заботой и лаской. В частности любимца Чарльза. Для мальчика отец стал близким другом. Он частенько брал его с собой в Майтр-инн, где вместе с сестрой они пели песни завсегдатаям таверны.
От него Чарльз Диккенс унаследовал любовь к театру, богатое воображение, легкость слова. Диккенс интересовался театром настолько, что старался не упустить ни одной любительской постановки. Побывал несколько раз в королевском театре Рочестера. Дома они с удовольствием разыгрывали пьесы, читали стихи.
С восторгом вспоминает он прогулки за город, катанье с отцом по реке и волшебные картины, открывавшиеся с вершины холма. Отец всегда просил Чарльза рассказать о своих впечатлениях. Проходя мимо дома Гэдсхилл, он рассказывал отцу, как прекрасен и величественен этот дом. На что отец отвечал, что может статься, Чарльз сможет жить в этом доме, если будет упорно трудиться.
Семья. Мать
Мать Элизабет — добрая, честная женщина стояла по происхождению выше своего мужа. Среди ее родственников были и чиновники. Но мягкость ее характера не позволяла как-то повлиять на мужа. Чарльз рано научился читать и писать, в этом помогла ему мать. Она же научила его латыни. Времени на занятия с Чарльзом у нее не было, отвлекали хлопоты и заботы о младших детях. Няня, служившая в их доме, говорила, что миссис Диккенс превосходная женщина и заботливая мать.
В семье было восемь детей. Чарльз просто не понимал, что на плечи матери легли все заботы о благосостоянии семьи. Он, как зачастую и происходит с болезненными детьми, у которых нет полноценного общения со сверстниками, замыкался в себе. А материнская любовь казалась ему непрочной и непостоянной.
Детские годы
Хорошая память и необычная наблюдательность проявились у Чарльза, когда ему еще не было и двух лет. Будучи взрослым, он отчетливо помнил все, что происходило в то время: что творилось за окном, как его водили смотреть солдат, вспоминал сад, по которому топал маленькими ножками за старшей сестрой.
В 1814 году отец Чарльза занимает ответственный пост, и семья переезжает в Чатем. Первые несколько лет были счастливейшими для Чарльза. Он с наслаждением вспоминал эти дни, детство оставило в его душе яркий след. Вместе с сестрой мальчик разведал все чатемские доки, облазил кафедральный собор и замок, исходил все улицы и тропинки.
Он помнил до мельчайших деталей все, что происходило: каждое событие, каждую мелочь, случайно брошенное слово или взгляд. Маленький Диккенс рос болезненным ребенком, и поэтому не мог вдоволь играть с детьми, но любил, оторвавшись от чтения, наблюдать за ними. Соседский мальчик, чуть постарше Чарльза, стал его другом.
Диккенс уже в столь раннем возрасте подмечал привычки, странности и причуды людей. Позднее он отразил эти воспоминания в «Очерках Боза».
Первая школа
Когда мальчику исполнилось девять лет, семейные дела были настолько плохи, что просторный, светлый и веселый дом пришлось сменить на плохонький домик. Но жизнь мальчика настроилась на серьезный лад. Он поступил в школу, где молодой священник посоветовал ему как можно больше читать английских классиков, пишет в своих воспоминаниях Чарльз Диккенс. Книги стали для него самой большой отрадой и главной школой.
В начале 1823 года семья переезжает в Лондон. Чарльз, приехавший чуть позже, был опечален. Уйти из школы — для мальчика это был тяжелый удар. Диккенсы не могли себе позволить прислугу, и Чарльзу приходилось нянчить братишек и сестренок, бегать по поручениям, чистить обувь. Друзей у него не было. Оставило его и то радостное чувство, которое он испытывал в школе — приобщение к знаниям.
Сестра Фанни уезжала учиться в Королевскую музыкальную академию. Через много лет Чарльз пожалуется одному из друзей, насколько ему было больно провожать сестру и думать, что теперь до тебя никому нет дела. Вскоре дела стали совсем плохи. Чтобы рассчитаться с кредиторами, Диккенсы вынуждены сдать в ломбард все, что у них было. Семья оказалась в «долговой тюрьме».
Долговая яма
Чтобы хоть как-то помочь им, родственник матери берет Чарльза к себе на фабрику ваксы. Чарльз переживает этот период очень болезненно. В начале 1924 года мистер Джон получил небольшое наследство и выплатил долг. Вскоре семья перебралась в отдельный домик. Случайно отец Чарльза зашел на фабрику, где работал сын, и увидел чудовищные условия. Ему это не понравилось, мальчика немедленно уволили.
Мать была расстроена и пыталась договориться с хозяином, чтобы сына взяли обратно. Обида глубоко засела в душе мальчика. В своих воспоминаниях Чарльз пишет, что он никогда не забудет о том, как она хотела за 6 шиллингов в неделю обречь его снова на бесконечные муки. Но отец настоял на том, что ему необходимо учиться. И Чарльз становится приходящим учеником частной школы, в которой он проучился два года.
Школа и первая работа
В школе он быстро стал всеобщим любимцем — первый ученик в школе, приветливый, подвижный. Чарльз на тетрадных страничках стал выпускать еженедельную школьную газету, в которую писал сам. Ее он давал почитать в обмен на грифельные карандаши. В общем, он отлично проводил время. Это были счастливейшие годы его жизни.
На дальнейшее обучение в семье денег не было. После школы в 15 лет Чарльз поступает на работу к адвокату. Чтение книг, его наблюдательность и жизненный опыт сделали свое дело. Ему предложили должность репортера в местном суде. Параллельно сотрудничает с несколькими лондонскими журналами и газетами, получая гроши за свою работу. Но он упорно трудится, надеясь вскоре утвердиться в качестве журналиста.
Диккенс очень хорошо знал Лондон, каждую его улочку, со всеми трущобами, фабриками, рынками и роскошными особняками. Он был первый, кто описал город с глубоким знанием дела, ночную и преступную жизнь. Пожалуй, с этого и началась его литературная деятельность.
Начало литературной деятельности
В качестве репортера Диккенс посещал здание лондонского суда. Вскоре на страницы его романов вылилось то, что он там слышал и видел. В 1833 году Чарльз прочитал в журнале Monthly Magazine рассказ никому не известного автора «Обед в аллее тополей». Это был его литературный дебют. Диккенс создал цикл очерков о Лондоне и его обитателях под псевдонимом «Воз». Они понравились читателям, и издатель опубликовал их отдельной книгой «Очерки Воза».
В английскую литературу Чарльз Диккенс вошел с «Очерками Воза», но утвердился в ней с романом «Посмертные записки Пиквикского клуба». Роман публиковался по частям, был пронизан юмором и рассказывал о приключениях добродушного мистера Пиквика. В то же время в романе автор высмеивает английское правосудие. По жанру он был близок к распространенным в то время в Англии «спортивным новостям».
Диккенс не случайно выбрал этот жанр, так как он позволял ввести новые темы, героев, которым предоставлял большую свободу действий, позволял прервать повествование. Так, с первых страниц романа у Диккенса появляются дорогие его сердцу образы, утверждающие добро вопреки обстоятельствам.
Художественный мир Диккенса
Диккенс обладал богатейшим воображением. Именно это и знание неприглядных сторон Лондона, да и в целом Англии, помогли ему создать многоликий художественный мир. Истории Чарльза Диккенса были населены бессчетным числом драматических, комических и трагических персонажей. Его романы насыщены людьми всех сословий, бытом, нравами и деталями, выписанными с репортерской точностью.
С первых страниц внимание читателя приковывают веселые сценки и юмор по отношению к своим любимым героям — простым людям. Мир, созданный Диккенсом, театрален и представляет собой смесь реализма и фантастики. Он отличается яркостью и гиперболичностью. К примеру, образы Трухти Вэка, Скруджа, Ловкого Плута — гиперболичны, но тем не менее, несмотря на все преувеличения, они являются вполне реалистичными типами.
Ловкий Плут не просто смешон — он карикатурен. Но вполне типичен. Мальчишка, живущий в развращенном мире, мстит ему за все свои несчастья. На суде заявляет, что лавочка для правосудия не годна. Выросший в трущобах Лондона, Плут груб и смешон, но он заставляет осознать, насколько этот мир ужасен, — он породил его для того, чтобы растоптать.
Художественный мир писателя представляет извечную борьбу зла и добра. Противостояние этих сил определяет не только тематику романа, но и своеобразное решение этой проблемы. Диккенс-моралист утверждает в романе свой идеал — добро. Диккенс-реалист не может не любоваться своими героями, как олицетворяющими зло, так и олицетворяющими добро.
Основные периоды творчества
В многочисленных очерках, рассказах, заметках, эссе и в шестнадцати романах Диккенса перед читателем предстает образ Англии 19-го века, вступившей на путь экономического развития. Реалистическая картина Англии, созданная писателем, отражает процесс эволюции писателя-художника. В то же время, убежденный реалист, он всегда остается романтиком. Иными словами, реализм и романтизм тесно переплетает в своем творчестве Чарльз Диккенс. Книги и этапы его творческого пути делятся условно на четыре периода.
Период первый (1833-1837 годы)
В это время созданы «Записки Пиквикского клуба» и «Очерки Воза». В них отчетливо вырисовывается сатирическая направленность его творчества. И, конечно, этическое противопоставление «добра и зла». Оно выражается в споре между правдой (эмоциональное восприятие жизни, основанное на воображении) и кривдой (рациональным подходом к действительности, основанном на цифрах и фактах).
Период второй (1838-1845 годы)
В этот период писатель выступает реформатором жанра. Он расширяет никем серьезно не разрабатывающуюся нишу — детскую тематику. В Европе он первым стал отображать в своих произведениях жизнь детей. Здесь напрямую связывает две темы Чарльз Диккенс — «большие надежды» и детство. Она и становится центральной и в этом периоде творчества, и продолжает звучать в последующих произведениях.
- «Барнаби Радж» (1841) — обращение к исторической тематике объясняется попыткой автора осознать сквозь призму истории современный мир.
- «Лавка древностей» (1841) — попытка найти в сказочных сюжетах альтернативу злу.
- «Американские заметки» (1843) — постижение современной Англии. Поездка Чарльза в Америку расширила кругозор писателя, и у него появилась возможность взглянуть на Англию с «другой стороны».
В этот период творчества он также создал следующие произведения, которые глубоко затрагивают детскую тему, в которой трогательно и бережно автор раскрывал душу ребенка. Унижения, издевательства и тяжелый труд — это то, чем до глубины души был возмущен Чарльз Диккенс. Оливер Твист — герой его романа, печальный пример жестокости и бессердечия общественности.
- 1838 г. — «Оливер Твист».
- 1839 г. — «Николас Никклби».
- 1843 г. — «Мартин Чезлвит».
- 1843-1848 гг. — цикл «Рождественские рассказы».
Период третий (1848-1859 годы)
На этом этапе углубляется социальный пессимизм писателя. Заметно меняется техника письма, она становится более сдержанной и продуманной. Углубляется исследование автором детской психологии. Появляется и новая, ранее им неисследованная, нравственная пустота. В это время вышли следующие романы:
- 1848 г. — «Домби и сын».
- 1850 г. — «Дэвид Копперфильд».
- 1853 г. — «Холодный дом».
- 1854 г. — «Тяжелые времена».
- 1857 г. — «Крошка Доррит».
- 1859 г. — «Повесть о двух городах».
Период четвертый (1861-1870 годы)
В романах этого периода уже не встретишь мягкого юмора. Он сменяется на безжалостную иронию. И Чарльз Диккенс «большие надежды» превращает, по сути, в бальзаковские «утраченные иллюзии». Только больше иронии, скепсиса, больше горечи. Последние свои романы Диккенс подвергает глубокому философскому осмыслению — лицо и маска, его скрывающая. На этой игре «лицо-маска» построен его последний роман «Наш общий друг». Два последних шедевра Диккенса:
- 1861 г. -«Большие ожидания».
- 1865 г. — «Наш общий друг».
Роман «Тайна Эдвина Друда» остался незавершенным. Он и сейчас остается загадкой для литературоведов, критиков и читателей.
Три самых популярных романа
«Дэвид Копперфильд» — это во многом автобиографический роман, многие события здесь перекликаются с жизнью автора. Это роман-воспоминание. Это то, что пережил сам Чарльз Диккенс. Биография главного героя тесно переплетена с его собственной жизнью. Бережно доносит до читателя впечатления и суждения ребенка взрослый человек, сумевший сохранить в своей душе чистоту детского восприятия. Здесь рассказывается история мальчика, ставшего писателем.
Копперфильд рассказывает жизненную историю уже достигнутых высот. К концу повествования вера в победу справедливости сменяется усталостью — переделать можно только себя, а мир не переделаешь. К такому заключению приходит Чарльз Диккенс. Краткое содержание романа уже ясно показывает, как человек сумел остаться хорошим, хотя на его пути постоянно были несправедливость, ложь, коварство, утраты.
Герой романа, росший рядом с милой, доброй, но слабой матерью сталкивается со злом впервые, когда она выходит замуж. Жестокий отчим и сестра возненавидели мальчика, всячески унижали его и издевались над ним. Но худшее еще впереди. Умирает мать Дэвида, отчим не хочет платить за учебу и отправляет его работать на склад. Мальчик страдает от неподъемной работы, но больше всего от того, что его лишили возможности учиться. Но, несмотря на все трудности, Дэвид сохранил чистую душу ребенка и веру в добро.
Дэвид вспоминает свою жизнь и многие события в ней оценивает совершенно по-другому, не так, как оценивал их мальчиком. Сквозь повествование пробивается голос талантливого малыша, который много запомнил и понял.
Диккенс показывает, как ребенок учится отличать добро и зло, трезво оценивать силы, и даже в отрицательном персонаже пытается разглядеть что-то хорошее. Мягкий юмор автора спасает читателя от излишней назидательности. И читатель не просто извлекает жизненные уроки, но и проживает жизнь вместе с Дэвидом Копперфильдом.
«Приключения Оливера Твиста»
Оливер Чарльза Диккенса — мальчик, чья жизнь с самого рождения была жестокой. Родился он в работном доме, умирает после родов мать, а отца он никогда не знал. Едва появившись на свет, он сразу получает статус преступника, и его увозят на ферму, где большинство детей умирали.
В романе чувствуется ирония, когда автор рассказывает о том, какое воспитание получил там мальчик: сумевший выжить на ферме, «бледный, чахлый ребенок», значит, пригодный работать. Общественных попечителей Диккенс обличает, показывая всю их жестокость. У этих несчастных детей выбор был невелик. В частности у Оливера их было три: идти учеником к трубочисту, плакальщиком к гробовщику или в преступный мир.
Всем сердцем автор привязан к своему герою и помогает ему пройти испытания. Роман заканчивается благополучно, но читателю предоставляется возможность задуматься о несправедливых законах бытия, об унижениях и издевательствах, которым подвергается основная масса народа. Это то, с чем до конца своих дней не мог примириться Чарльз Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» — это живой отклик на злободневные темы современности.
«Рождественская песнь»
Главный герой повести — скупой и безжалостный старик Скрудж. Ему чужды веселье и радость. Любит он только деньги. Старик готовится встретить на работе приближающееся Рождество. Вернувшись домой, он видит перед собой призрак компаньона, умершего несколько лет назад. Призрак рассказывает ему, как страдает от тяжести грехов, совершенных прежде. Не хочет, чтобы Скруджа постигла такая же участь. И сообщает ему, что его посетят три духа.
Первый, Святочный дух прошлых лет, переносит Скруджа в детство. Старик видит себя беззаботным молодым человеком, радуется жизни, любит, имеет надежды и мечты. После этого он переносит его в то время, когда он сосредотачивается на накоплении богатства. Где его возлюбленная уходит к другому человеку. Скруджу это тяжело видеть и он просит перенести его обратно.
Второй, Дух нынешних Святок, приходит и показывает, насколько все люди рады Рождеству. Они готовят кушанья, покупают подарки, спешат домой к близким, чтобы встретить праздник. Домашний очаг, семья, уют — то, чему придавал большое значение Чарльз Диккенс.
Рождественская предпраздничная суета всегда у него ассоциировалась с домашним очагом, где любой человек был в тепле и безопасности. Вот Дух переносит Скруджа в небогатый дом, где семья готовится к Рождеству. Веселье омрачается тем, что младший ребенок очень болен и до следующего Рождества, возможно, не доживет. Это дом клерка, который работает у Скруджа.
Третий, Дух будущих Святок, молчит и, не говоря ни слова, переносит старика по разным местам и показывает возможное будущее. Он видит, как в городе умирает известный человек, но это вызывает у всех плохо скрываемую радость. Скрудж понимает, что с ним может быть так же. Он взмолился, чтобы Дух позволили ему изменить настоящее.
Скрудж становится другим человеком, становится добрым и щедрым, проводит Рождество с племянником. Основная идея повести — это нравственное перерождение Скруджа. Он переосмыслил ценности, оживил свою когда-то живую душу, вспомнил, что такое радость и добрые дела. То, что происходит накануне Рождества, — это символ обновления и рождения нового.
Известный писатель, заботливый отец и муж
К середине тридцатых годов Чарльз Диккенс был известным писателем Англии. Произведения пользовались огромным успехом. Популярность Диккенса была настолько велика, что ему неоднократно предлагали баллотироваться в парламент. Его мнением интересовался весь мир, настолько известным стало имя Чарльза Диккенса. Когда он решил выступить с чтением романов и встретиться со своими читателями, вся Англия ликовала.
Новый роман Диккенса все ждали с нетерпением. Когда в Нью-Йорк приходило судно с его очередным шедевром, его уже встречали толпы читателей. В Америке люди брали приступом залы, где он выступал с чтением собственных романов. Люди спали в сильный мороз перед кассами. Залы все были малы, и в итоге писателю и его слушателям уступили для чтения Бруклинскую церковь.
Диккенс был прекрасным отцом для своих детей. Он и его супруга Мэри Хоггард вырастили и воспитали семь дочерей и трех сыновей. Дом Чарльза Диккенса буквально звенел от детского смеха. Он уделял им много внимания, несмотря на загруженность работой. Дети получили достойное образование и место в обществе. Всю жизнь они с теплотой вспоминали о своем отце и ценили ту любовь и доброту, которая их окружала.
Чарлз Диккенс
Прежде чем развестись с женой, Чарлз Диккенс прожил с ней 20 лет. Его супруга Кэйт Хогарт была заурядной женщиной. Выйдя замуж за Диккенса, она полностью посвятила себя ведению хозяйства и воспитанию детей. С мужем у Кэйт не было взаимопонимания, но в целом на протяжении 20 лет их отношения оставались более или менее ровными. По крайней мере, в их семье не было ни ссор, ни скандалов, ни взаимных упреков. Диккенс отдавал всего себя творчеству, а Кэйт занималась домашними делами. Но чем больше Диккенс становился известным как писатель, чем больше он зарабатывал на жизнь, тем сильнее отдалялась от него жена.
Она была несколько странной женщиной: ей почему-то совсем не нравилось, что Диккенс испытывал потребность обставить свою жизнь с внешней стороны по возможности лучше и комфортнее.
Когда книги Диккенса стали приносить его семье приличный доход, писатель начал устраивать у себя дома вечера, на которые собирались люди, посвятившие свою жизнь, творчеству: как мужчины, так и женщины.
Кэйт совсем не нравились друзья мужа, и на приемах она даже не пыталась скрыть свою неприязнь, которую испытывала к ним. Кроме того, жена Диккенса, несмотря на то что была неплохой хозяйкой, совершенно не умела организовывать светские приемы. Впрочем, учиться всем тонкостям приема гостей у нее не было желания.
Принимать гостей писателю помогала сестра жены, которая со временем начала играть в доме ведущую роль: постепенно она взяла хозяйство в свои руки, и Кэйт оказалась как бы не у дел. Она возненавидела сестру, считая, что у Диккенса с ней роман. Но она ошибалась. Сестра принимала и развлекала гостей не для того, чтобы показать свое превосходство над Кэйт, а отчасти потому, что хотела скрыть неумение последней.
Кэйт подозревала, что муж изменяет ей с сестрой, а после того, как Диккенс по неосторожности сказал, что сестра Кэйт – идеал женственности, ее подозрение переросло в уверенность. В этот день Кэйт впервые в жизни осыпала мужа упреками и оскорблениями. Диккенс клялся в том, что не изменял ей. И Кэйт готова уже была поверить, если бы до ее ушей не долетела фраза Диккенса, высказанная им в кругу друзей. В разговоре с приятелями-литераторами о браке Диккенс, говоря о своей жене, заметил: «Она создана не для меня…»
Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Кэйт. Устроив мужу жуткий скандал и пожелав ему счастья со своей сестрой – идеальной женщиной, созданной для него, Кэйт ушла от Диккенса и через некоторое время проинформировала его о том, что подала на развод.
После развода Диккенс стал выдавать бывшей жене по 200 фунтов ежегодно. Как уже говорилось, Кэйт ушла из дома Диккенса, а после развода родителей к ней переехал жить старший сын. Остальные 9 детей, а также сестра Кэйт, послужившая причиной разрыва Диккенса с женой, остались жить в доме писателя.
Кэтрин была писательницей, актрисой и кулинаром — но все ее таланты ушли в тень из-за того, что она состояла в браке со знаменитым Чарльзом Диккенсом. Обозреватель BBC Culture — и прапраправнучка жены Диккенса — рассказывает, что она была за человек .
В феврале 1835 года Чарльз Диккенс отмечал свой 23-й день рождения. Среди приглашенных была Кэтрин Хогарт, дочь издателя журнала, в котором публиковались произведения писателя.
«При личном знакомстве мистер Диккенс производит гораздо более благоприятное впечатление», — писала она своей двоюродной сестре после праздника.
Должно быть, впечатление оказалось неизгладимым: вскоре Кэтрин дала согласие выйти за Чарльза замуж. Свадьбу сыграли в Лондоне 2 апреля 1836 года.
Их браку суждено было стать одновременно очень счастливым и безнадежно печальным.
В течение последующих 15 лет Кэтрин выносила десятерых детей и пережила по крайней мере два выкидыша.
А они с Чарльзом превратились из красивой влюбленной пары, блиставшей на приемах и радовавшейся совместным выездам, в чужих друг другу людей, не желавших жить под одной крышей.
Кэтрин выносила десятерых детей и пережила по крайней мере два выкидыша
Впрочем, Кэтрин была не только матерью, но и писательницей, весьма одаренной актрисой, искусным кулинаром, а также, по словам ее мужа, прекрасным спутником в путешествиях.
Однако брак со знаменитым человеком привел к тому, что ее собственные таланты оказались в тени.
Новая выставка в лондонском Музее Чарльза Диккенса «Другой Диккенс» дает нам шанс увидеть Кэтрин такой, какой она была на самом деле. В каком-то смысле для нас она снова становится самой собой.
Будучи прапраправнучкой Кэтрин и Чарльза, я изучила историю этой пары и своей семьи и пришла к собственным выводам по поводу личности Кэтрин — и того, что произошло между ней и Чарльзом.
О браке Диккенса и Кэтрин и об их очень громком расставании, произошедшем в 1858 году, написано очень много.
В начале ХХ века, через несколько десятилетий после смерти обоих супругов, общество прочно заняло сторону Чарльза.
Начали ходить неприятные слухи по поводу того, почему ему «пришлось» расстаться с женой — поговаривали даже, будто Кэтрин была алкоголичкой (это неправда).
Начали ходить неприятные слухи по поводу того, почему Чарльзу «пришлось» расстаться с женой
Эти слухи иногда всплывают даже теперь, в XXI веке. Чарльзу Диккенсу редко позволяют быть настоящим человеком с настоящими недостатками.
Его все время представляют либо каким-то демоном, либо полубогом, в зависимости от личного мнения автора.
В связи с этим и роль Кэтрин рассматривалась с той же позиции: ее либо воспринимали как подвергшуюся гонениям мученицу, либо обвиняли в том, что она изматывала великого человека, лишая его воли.
Я была поражена тем, как часто журналисты задавали мне вопрос: «Ну вы-то наверняка на стороне Чарльза Диккенса — вы же родственники?»
Каждый раз мне приходилось напоминать, что ведь и Кэтрин тоже моя родственница — более того, в том, что касалось производства на свет потомства, основную часть работы все-таки выполнила она!
Работая над биографией их дочери-художницы по имени Кейти, я стала понимать, что этот брак распался по вполне понятным причинам: отношения супругов подверглись неожиданному и нестерпимому испытанию, связанному со стремительным восхождением Диккенса на вершину славы, ранее казавшейся немыслимой.
Когда молодые люди познакомились, Чарльз вознес Кэтрин на пьедестал.
Его детство было омрачено нищетой и постоянно маячившей угрозой долговой ямы, а Кэтрин происходила из счастливой и уютной семьи со средним уровнем достатка.
Мне кажется, Диккенсу хотелось подражать ей, он мечтал о жене и матери, способной дать его детям стабильность и дом, жизнь в котором будет течь беззаботно. Кэтрин стала для него идеальной женщиной.
Когда молодые люди познакомились, Чарльз вознес Кэтрин на пьедестал
В начале совместной жизни Кэтрин стояла выше своего мужа и по социальному, и по материальному положению, но очень скоро Чарльз превратился из журналиста, работавшего на ее отца, в знаменитого писателя, труды которого читала сама королева Виктория.
Через пару лет после свадьбы убеждения Чарльза стали влиять даже на политические взгляды в стране.
В лучах славы мужа блеск самой Кэтрин начал меркнуть. И хотя сначала она была так же счастлива, как и ее супруг, многочисленные беременности, от которых она едва успевала оправиться, стали подтачивать ее здоровье, силы и их брак.
Вот уже больше века фигуру Кэтрин отдвигают на второй план и вспоминают о ней исключительно как о скучной и старомодной матроне.
Даже в единственной экранизированной биографии Диккенса главная женская роль принадлежит не Кэтрин, а любовнице Диккенса Эллен Тернан, отношения с которой в итоге и стали причиной его расставания с женой.
Нелепо утверждать, будто Чарльз мог добровольно выкроить время в своем жестком графике писательской работы только лишь для того, чтобы издать книгу под женским псевдонимом
Но в действительности Кэтрин была веселой молодой женщиной, которая, будучи женой всемирно известного писателя, много путешествовала и имела возможность увидеть и испытать то, что не доводилось увидеть и испытать большинству женщин того времени и ее социального положения.
К примеру, они с Чарльзом очень увлекались любительским театром, причем Кэтрин играла не только в домашних спектаклях, но на подмостках американских и канадских театров.
В числе прочих достижений Кэтрин следует упомянуть публикацию книги. Исследуя эту тему, я с гневом обнаружила, что многие — в том числе уважаемые академики — заявляли, будто ее написал Чарльз.
Тем самым они проявляют крайнее высокомерие, как бы намекая, что у Кэтрин не хватило бы ума написать книгу.
Однако столь же нелепо и утверждать, будто Чарльз мог добровольно выкроить время в своем и без того жестком графике писательской работы только лишь для того, чтобы издать книгу под женским псевдонимом — в то самое время, когда большинству писательниц приходилось публиковаться под мужскими именами, чтобы их книги увидели свет.
Книга Кэтрин называется «Что у нас на обед?» Это не просто сборник рецептов, это пособие для молодых жен, в котором можно найти советы по ведению домашнего хозяйства и примеры меню для приема с участием до 18 персон.
По сути, Кэтрин стала предтечей миссис Битон — британской домохозяйки, издавшей первую книгу по домоводству и кулинарии, — за полтора десятилетия до публикации той легендарной книги.
Сегодня посетители Музея Чарльза Диккенса могут наконец узнать обо всем этом и познакомиться с энергичной, остроумной и интересной женщиной.
революция — это… Что такое революция?
РЕВОЛЮЦИЯ и, ж. revolution f. <лат. revolutio откатывание; переворот. 1. астр., устар. <лат. Полный оборот космического тела. Я думал, объезжая поселения и потом, когда я переправился из оных, что мен какою-то революциею глобуса перекинуло из области образованной в какую-то варварскую страну. 1822. граф В. Кочубей. // Словский 356. У Дарвина слово «революция» не встречается и, вероятно, потому, что в биологии это слово вызывало еще свежее воспоминание о revolution du globe Кювье, под которым разумелись вымышленные геологами катаклизмы, совершившиеся будто бы с быстротой какой-нибудь театральной частой перемены декораций и сопровождавшиеся исчезновением целых поселений земли и сотворением новых. Тимирязев Дарвин и Маркс. Суточная революция. СИЗ. 2. устар. Дворцовый переворот, который приводит к замене правящих лиц без изменения основ общественного строя. Между все тем еще здесь последнее упование ожидается ведомость из Англии, какой перемены или революции при входе нынешнего парламента королевы, с объявлением мира, или смерти ея, королевы. 1713. АК 7 19. Дабы всяк яснее о последующих революциях (отменах) известие имел. П. Шафиров. // РР 1968 3 68. Да нелегко здесь <в России> возбудить революции. 1843. Рескрипт Кантемиру. // К. 1868 2 301. Мы с лишком тридцать лет обращаемся в революциях на престоле, и чем больше их сила распространяется между подлых людей, тем смелее, безопаснее и возможнее стали. 1762. Н. И. Панин. // РИО 7 208. Аббата Вертота заслуги для истории довольно известны, а паче те, когда он старался выбрать самые важнейшия приключения из истории некоторых государств описанныя под титулом Revolutions, или перемены правления, каковых он кроме перемен Шведских, издал в печать и о Португалии, и о древнем Риме. ЕС 1764 553. Князь Барятинский, гофмаршал двора, был сослан, как один из виновников революции 1762 г. В. Н. Головина Зап. // Ек. II Окруж. 405. ♦ Дворцовая революция. Почти все восшествия на российский престол, начиная с Петра I, — писал Лунин из ссылки, — отмечены дворцовыми переворотами ( par des revolutions du palais) совершенными во мраке и в интересах отдельных лиц. ЛО 1996 1 73. Можно надеяться, что также мирно, серьезно окончится другая тревога, напомнившая бедной Франции тяжелую тонкинскую историю, в разгар «революцийки». СВ 1893 8 2 115. ♦ Революция в серале. Дворцовый переворот. Там была une revolution de serail, переворот гнусного царедворца, переворот личного побуждения, здесь <восстание декабристов>переворот общественный. Поджио Зап. 70. || Психологический настрой о необходимости коренных политических изменений в стране. В нем <сочинении> без сомнения, усмотреть изволите, до какой степени простиралась дерзость проповедовать безверие и революцию. 1824. Шишков Зап. адмирала. Странно и довольно гадко было мне слушать обветшалые суждения и правила философизма, отчасти породившего революцию, в ту саму минуту, когда казалось, что она сокрушена была навсегда. Вигель Зап. // Мемуары 1800 493. 3. Коренной переворот в жизни общества, проявляющийся в насильственном низвержении отжившего общественного строя и утверждения нового, прогрессивного общественного строя. БАС-1. Коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации предшествующего общественного и политического строя и установлению новой власти. Крысин 1998. Давно мысль ево <радищева> готовилась ко взятому пути, а французская революция ево решила себя определить в России первым подвизателем. Екатерина II. // РР 1968 3 69. Зависть нарушая тогда святость права собственности почти заглушает меньшее число. и сие представляет состояние переворота (революции) и насилия. Стройновский 1817 2 477. Революция есть безумно губительное усилие перескочить из понедельника прямо в середу. Жук. 6 545. Покушение 14 декабря не мятеж, как, к стыду моему, именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической, опыт почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов. Г. С. Батеньков Показания следственной комииссии. // РР 1968 3 70. По нашему не так; revolution так revolution, с гильотиною. РВ 1888 4 275. Злоумышляют наши недруги, враги хитрые и коварные, погубить Святую Русь, расшатать устои вековечные, веру православную и власть Царя державную, водрузить знамя красное на Святой Руси, восстание-революцию проповедуя, учредить республику-самовольщину. 1905. Воззвания «Союза русского народа». 1905. Правые 1 71. Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго научном, так и в практически-политическом значении этого слова. Ленин-4 24 24-25. Революция — это когда народ берет власть в свои руки, а власть народ — за горло. ЛГ 11. 9. 2002. ♦ Пролетарская, социалистическая революция. Буржуазная, буржуазно-демократическая революция. Революция есть отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства. Кармз. // Иванчин-Писарев Дух Кармзина 1 149. Она <горничная> куда-то прописалась, в ихнюю в ливорюцию. Н. Шмелев Няня из Москвы. // Москва 1993 8 48. Ясно, с Яшкиной точки зрения, что у «царицы Ривалюцыи был сын; а как революцию и самого Наполеона, «задавившем революцию», называли господа «гидрой стоголовой», по понятно, что у Яшки «гидра» превратилась в «выдру». Мордовцев Двенадцатый 143. — Во, она, риволюция-то чего доказала. И.Шмелев Два Ивана. // Дон 1990 11 160. ♦ Великая революция. Революция (с большой буквы). Grande revolution. 1. Революция во Франции 1789-1794 гг. — Последнее время я много перечитал о так называемой «Великой революции», и все относящееся к этой эпохе особенно меня интересует. Д. Позняк Жемчуг королевы. // РВ 1884 11 184. 2. Октябрьская революция 1917 г. в России. С месье Д. был у нас однажды забавный разговор: мы обсуждали слово «велосипед», существующее также и по-французски, только здесь оно обозначает допотопные велосипеды, сделанные «сразу после революции», как сказал месье Д. Я тут же вспомнила михалковские «Несколько дней из жизни Обломова» и усомнилась: как это — после революции? по-моему много раньше. Мы немного поспорили, но месье Д. догадался первым: «Вы какую революцию имеете в виду? Действительно, наши хронологические представления о том, когда была Революция (с большой буквы) естественным образом различались на полтора столетия. А. Ярхо Французы из Бордо. // ЗС 1995 6 137. ♦ Стиль революция. Стиль эпохи Великой революции во Франции. С 1780-х годов и в эпоху великой революции Ампир существует уже в полном рассвете, хотя переходит в формы, называемые довольно произвольно: revolution, directoire, consulat. НЭС 2 117. | Коренной перелом в жизни человека. Видя, что его <карамзина> путешествие произвело в нем великую перемену в рассуждению прошлых друзей его. Может в и нем произошла французская революция. 4. 3. 1791. А. М. Кутузов — А. И. Плещеевой. // РР 1968 3 69. 4. устар., разг. Календарное исчисление времени в СССР от даты Великой октябрьской социалистической революции. А после работы было созвано экстренное цеховое собрание. По словам «старожилов», это было самое многолюдное собрание цеха чуть ли не за все 13 лет революции. Вожатый 1930 29 13. 5. Переворот в какой-л. области, ведущий к коренному преобразованию, усовершенствованию, обновлению чего-л. БАС-1. Коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому. Крысин 1998. Со временем предложу публике свои мнения и доказательства, которые, может быть, сделают революцию в философии. Карамз. ПРП. // РР 1968 3 71. И эти люди хотят сделать революцию в словесности не образцовыми произведениями, нет, системою новою, глупою. К. Н. Батюшков. // РР 1968 3 71. Медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг, В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже in spe. Чехов Палата №6. || шутл. Большая перемена, изменение. [Крутоусова (идет к дамам) :] У вас, я слышала, революция, mesdames? [Псищева:] Революция? Какая? [Крутоусова:] Встречаю вашу Анисью <служанку> в корридоре, она отходит от вас, и Ерофея тоже нет. Бобор. Не у дел. // Слово 1878 1 1 40. Мы газифицируем ванну и проводим горячую воду на кухню. Сия революция стоит и хлопот и капиталов. 8. 11. 1974. Ю. М. Лотман — Б. А. Успенскому. // Л. Письма 554. Все там, — он <генерал> ткнул себя пальцем в чрево, — крутится и бурчит. Спать не дает. Только засну — а там революция. Звезда 2003 2 121. 6. устар?, геол., биол. Геологический катаклизм, сильно изменяющий рельеф Земли и среду обитания животных и растений. Это были герцинская и аппалачская революции, которые, целиком меняя физические условия, давали новый импульс и новое направление развитию природы. Природа 1937 4 153. — Норм. На полях сочинения Шишкова, рядом с этими словами (revolution, revolte), Жуковский пишет: Сцена есть французское слово, но почему переворот французское? Оно изображает идеи, а идеи ни французские, ни русские. Душа народа может получать и выражать идеи прежде другого, другой выражает ее после него на своем языке. Фридлендер 111. В этот же период <1810-е гг.> «нетерпимыми в духовной книге» признаются выражения «организовать конституцию», «характеристика иудея», «религиозныя истины», «революция мира». Живов 1996 475. Иногда новацию (обновление) употребляют вместо реформа (изменение), но этим отнюдь нельзя заменить революцию (преобразование). 1846. КСИС. // Петрашевцы 1953 250. — Лекс. Ян. 1806: революция; САН 1847: револю/ция; СИЗ: революция 1710 (-луция 1720) полит.; революция (астр.) 1718.Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm. Николай Иванович Епишкин [email protected]. 2010.
Дуэль Лермонтова (Еще одна гипотеза)
Ирина Левит
Цвет власти
— Ты станешь Королем в День Великих Свершений. Это редкая удача. Каждый надеется взойти на трон в этот день, но Короли не выбирают себе судьбу. Судьба выбрала тебя. Значит, за тобой большое будущее. И хотя мы видимся в последний раз, та страна далека и народ ее неведом, я, твоя мать, счастлива. Впервые в жизни! «Моя мать никогда не ошибалась, — думал он. — Она предрекла Королю страны Кокосовых Пальм, что его свергнут, и его свергли. Она посоветовала Королю страны Заходящей Луны меньше доверять советникам, и раскрылся заговор. Мне она сказала только то, что за мной большое будущее». Накануне коронации все газеты печатали его фотографии. Писали о его уме, молодости и прекрасном образовании. Он листал газеты и мечтал, как мудро станет править страной. В течение первых недель Король велел построить дома для малолетних сирот и одиноких стариков, разбить для массовых гуляний парки и собрать для всеобщего обозрения шедевры искусства, снизить цены на хлеб и отдать под суд вельмож-казнокрадов. Он успевал многое и не успевал лишь одно прочитать толстую книгу по истории собственной страны. Впрочем, это его не слишком тревожило: история уводила в прошлое, а Король устремлялся в будущее. — Народ полюбил вас с первого взгляда! -уверяли придворные. — Смотрите, что пишут люди в газетах. — Народ оценил ваш талант!-убеждали советники. — Смотрите, сколько всего люди совершили. — Народ благословляет ваше имя! — утверждали церковники. — Смотрите, какие средства пожертвовали они на восславление ваших деяний. Король был молод, но ум и образованность не позволяли ему слепо верить словам, статистике и финансовым ведомостям. «Кто не убеждается сам, того легко убедить во всякой глупости», повторяла мать, которая никогда не ошибалась. Король тоже не хотел ошибаться, и потому однажды встал с трона и ушел на улицу. Вот так просто встал и ушел — никого не предупреждая, без свиты, без единого телохранителя, без маски на лице и даже без шляпы, надвинутой на брови. Он предполагал, что стоит ему покинуть дворец, и люди окружат его, расскажут о своих проблемах и радостях, возникнет столпотворение, но это не пугало Короля. Он хотел знать правду. Король бродил дотемна. Он впервые столь близко видел столицу и ее жителей. Он выходил на шумные площади и сворачивал в тихие улочки, посидел в каком-то садике и выпил чашечку кофе в баре. Удивительно! Он плохо понимал речь своих подданных, хотя считал, что прекрасно выучил их язык — по крайней мере изъясняться с обитателями дворца ему не составляло ни малейшего труда. Но не это было главным. Главное — его никто не останавливал, не расспрашивал и вообще не узнавал! «Боже мой! — сначала с изумлением, а затем с отчаянием думал Король. Почему никто, ну совершенно никто меня не узнает?!» — Говорят, наш Король велел выстроить дома для малолетних сирот и одиноких стариков, — заметил, как бы между прочим, Король, останавливаясь около будки пожилого сапожника. — Да, говорят, — согласился сапожник, продолжая подбивать ботинки. Благая мысль. Будет, куда перед смертью податься. Но когда еще это будет… — Говорят, наш Король велел разбить для массовых гуляний парки и собрать для всеобщего обозрения шедевры искусства, — сказал Король, усаживаясь рядом с уличным художником. — Да, говорят, — кивнул художник, не отрываясь от мольберта. — Хорошая идея. Будет, где отдохнуть. Но когда еще это будет… — Говорят, наш Король велел снизить цены на хлеб и отдать под суд вельмож-казнокрадов, — почти крикнул Король проходившей мимо девушке. — Да, говорят, — отозвалась девушка, не останавливаясь. — Похвальные дела. Они ему зачтутся. Но когда еще это будет… «Невероятно! — застонал Король. — Меня не ругают — хвалят! Но я живой, как есть живой, для них не существую!» — Что с тобой, сынок? Король обернулся и увидел женщину — не очень старую, но и не молодую, с лицом, напоминающим лицо его матери. — Ты знаешь, кто я? — грозно спросил Король. — Откуда же мне знать? — удивилась женщина. — Не знаешь?! Не узнаешь?! Но ведь я — Король! — Вот как… — задумчиво произнесла женщина, и не было в ее голосе ни страха, ни волнения.-А и впрямь- Король. — Но почему же ты меня сразу не узнала? Почему никто меня не узнает?! Вот мои портреты! И вот мои фотографии! — Конечно, конечно, — согласилась женщина. — Вот твои портреты и вот твои фотографии. Очень похожи… Да ты не обижайся. У нас Короли приходят и уходят — одни умирают, других свергают, третьи сами куда-то исчезают. И все быстро, все ненадолго. Мы и лица-то их различать не успеваем. Знаем только: один появляется, заявляет: «Все черное», и государственный цвет черным становится, а другой: «Все белое», и красят в белый цвет. А потом опять черное и опять белое… Мы уже приноровились. Всего два цвета запомнить легко. Не то что лица… На следующий день Король собрал всех обитателей дворца. — Безобразие! — гремел он. — Косность! Инерция! Равнодушие! И вы еще питаете меня иллюзиями! Народ вас любит! Народ вас ценит! Народ вас благословляет! А народ знает лишь черное и белое! Почему?! Почему никто не открыл мне правды?! — Ваше Величество, — смиренно склонил голову Первый Помощник, сохранившийся еще с прежнего Короля, а потому не сегодня завтра ждавший отставки. — Мы не осмеливались тревожить вас своими советами. Но коли вы спрашиваете, позволю себе сказать: каждый Король начинает с того, что устанавливал Цвет Власти. Вы же не изволили, и народ в смятении. Как строить дома, разбивать парки, собирать шедевры искусства, когда неясно, под знаменем какого цвета это делать? — А вельможи-казнокрады? — гневно прервал Король. — О-о! — обреченно вздохнул Первый Помощник.- Они есть и среди тех, кто исповедовал черный цвет, и среди тех, кто белый. Вы не уточнили, кого имеете в виду. — Так, так… — недобро усмехнулся Король. — А почему обязательно черный или белый? Почему не серый, не бурый, не малиновый, наконец? Смятение пронеслось по залу. Советники, генералы, церковники — все, вплоть до младшей горничной, испуганно зашептали: — Серый…. Бурый… Малиновый… — Ваше Величество! — смело выступил вперед Главный Трибун — единственный приближенный, сохранявший свой пост при всех Королях. — Позвольте заверить, что ваша мысль очень верна, она будет донесена до народа и найдет самый широкий отклик! — Да, да, — кивнул Король, уязвленный собственным гневом, который не совпадал с желанием при любых обстоятельствах оставаться добрым Королем. Я верю, что народ поймет меня правильно. Советники, генералы, церковники — все, вплоть до младшей горничной, облегченно вздохнули. Первый Помощник судорожно обмахнул рукавом лысину, а Главный Трибун победно улыбнулся дамам. Женщины, как известно, любят спасителей. Утром Король проснулся рано. Он всегда просыпался рано, хотя ему не всегда этого хотелось. Но он чтил завет матери: «Если желаешь быть подлинным владыкой, не упускай утренних часов. Многие Короли открывают глаза к полудню, когда все самое важное сделано без них». Правителя страны Кокосовых Пальм свергли на рассвете. И заговор против главы страны Заходящей Луны тоже намечался на утро. Чужих уроков Король не забывал. Утро начиналось с газет. Один из Указов предписывал печатать правду и только правду. И хотя минувшие события вселили некоторые сомнения, Король верил, что его повеления выполняются свято. «А как же иначе? — размышлял он. — Они мудры и направлены на общее благо. Кто же будет упускать свое благо?» Всю первую страницу газет занимала статья, подписанная Главным Трибуном. Называлась она: «Под знаком серо-буро-малинового цвета!» В стиле высокой патетики Главный Трибун сообщал, какую прозорливость и дальновидность продемонстрировал Король, объявив серо-буро-малиновый цвет символом власти. «Борьбе черного и белого положен конец! Положен конец нашим противоречиям и сомнениям! Только под серо-буро-малиновым знаменем мы достигнем всеобщей гармонии и благоденствия. Теперь мы все, как один, можем провозгласить: «Да здравствует Король! Да здравствует новый цвет, гарантирующий нашему народу подлинное процветание!!!» Так — тремя восклицательными знаками — заканчивалась статья. «Мамочка!» — ахнул Король, вспомнив свою мудрую мать, которая любила повторять: «Бойся восклицательных знаков. Они порой сильнее самой жирной точки». — Позвать ко мне Главного Трибуна! — приказал Король. Но прежде, чем слуга успел ступить через порог, в покои проскользнул Первый Помощник. На его лице лежала привычная тень неуверенности, а на вытянутых руках — праздничная корона. — Что это? — спросил Король. — Корона, — смиренно ответил Первый Помощник. — Я вижу, что корона, — Король чувствовал, как в нем, словно в бутылке с минеральной водой, начинают подниматься пузырьки раздражения. — Для чего она здесь? Разве сегодня бал, или какое иное торжество? — Вы как всегда правы, Ваше Величество. Как всегда! — Ив чем же на сей раз? Гневные пузырьки защекотали язык, и, чтобы не дать им вырваться наружу, Король прикусил язык зубами. — Вы совершенно верно изволили заметить: у нас торжество. Сегодня День провозглашения Цвета Власти. Народ уже приготовился ликовать. Первый Помощник пододвинул газеты, и Король прочитал, что сегодня действительно День Провозглашения Цвета Власти. Увлекшись статьей Главного Трибуна, он не обратил на это внимания. — Ну и ну… — недоуменно протянул Король и тут увидел еще одно новшество. В центре короны, на том самом месте, где полагалось сверкать большому бриллианту, поблескивал камень странного грязноватого цвета. — А это что? — спросил он изумленно и в нарушение всяких приличий ткнул в камень пальцем. — О-о! — простонал Первый Помощник, схватившись за сердце. — Не извольте гневаться, Ваше Величество! Это ученые. Это они во всем виноваты. Как всегда. Эти умники, которые сидят на шее Вашего Величества, заявили: есть бриллианты белые, есть бриллианты черные, а серо-буро-малиновых нет. Представляете?! Они осмелились так заявить! Разумеется, институтам было дано соответствующее задание. Прошло несколько часов — пропасть времени! но они ничего не предложили. И вот… — Первый Помощник опять схватился за грудь, однако, видимо, по рассеянности, за правую сторону, — …на узком совещании решили заменить пока на стекло. Оно ведь тоже блестит. — Кошмар! — воскликнул Король. — Кто это придумал? Кто все это придумал?! Первый Помощник молчал, обреченно закрыв глаза. Мелкие капли, росой покрывшие его лысину, беспрепятственно скатывались за шиворот. — Ваше Величество! — раздался бодрый голос Главного Трибуна. — А-а, вы наконец-то явились… Оч-чень даже отлично… Похоже, это ваша идея? — язвительная улыбка подергивала губы Короля. Он широким жестом обвел комнату, машинально сдвинул тяжелую штору, бросил взгляд в окно: на соседних домах развевались серо-буро-малиновые знамена. — Ваша идея?! — Как можно! — радостно откликнулся Главный Трибун. — Я всего лишь донес прекрасную идею до народа. А придумали — вы! — Я?! — Разумеется! И, должен заметить с присущей мне прямотой, мысль ваша великолепна! Право же, сколько еще менять черный цвет на белый, и снова на черный, и опять на белый. Никакого развития, никакого движения вперед, А народ жаждет перспективы, ему нужны новые идеалы! Не знаю, кто как… Главный Трибун словно невзначай глянул на Первого Помощника, — …но я народ понимаю. И скажу с присущей мне объективностью: вы его понимаете прежде всего! Объявить совершенно новый Цвет Власти — это величайшая смелость. А выбрать серо-буро-малиновый — это показатель высочайшего полета мысли! — Но я ничего не объявлял и не выбирал! — Вы слишком скромны, — тонко улыбнулся Главный Трибун. — Позвольте говорить с присущей мне откровенностью. Мысль, выданная в лоб, не обязательно самая доходчивая. Порой достаточно намека, и всегда найдутся люди, которые этот намек облачат в надлежащую форму. Вы благородно предоставили простор нашей фантазии, и, поверьте, то было гениальным решением! Нет теперь ни черного, ни белого — есть единый серо-буро-малиновый, он объединит разные устремления, уничтожит противоречия, примирит враждующих. Гениально! Слов не найти — гениально! Король был молод и, как свойственно молодым, легко поддавался свежим идеям. Особенно, если они сопровождались комплиментами. Главный Трибун был зрелым (хотя на его голове ни один волосок не отливал сединой) и, как свойственно зрелым людям, умел пользоваться чужой молодостью. «А может, он прав?» — подумал Король, который благодаря природной мудрости не утратил способности сомневаться в себе. — Ну что ж… — произнес он вслух. — Попробуем… Посмотрим… Не исключено, что тут есть резон… В течение дня Королю сообщили, как радуется народ новому Цвету Власти. Однако он уже не был столь доверчив и хотел во всем убедиться сам. Несколько раз приказывал подать машину, чтобы отправиться в город, но тут выяснилось: его приема ждет очередной посланник очередной страны, или требуется срочное указание, или… В общем, когда Король решил, что с делами наконец-то управился, ему принесли парадное платье: через час начинался бал. Глубокой ночью, ложась в постель, Король услышал едва различимые залпы канонады. «Надо же, до сих пор гремят праздничные салюты», — мелькнула усталая мысль, которая тут же растворилась в сладкой дреме. Проснулся Король раньше обычного. Его разбудил шум, рвущийся сквозь плотно занавешенные шторы. — В чем дело? — спросил он, нажав кнопку звонка. — В-ваше В-величество, — появившийся на пороге слуга заикался, хотя заик во дворце не держали. — Т-там… эт-то… н-ну… — Там некоторые неувязки, — робко перебил слугу невесть откуда взявшийся Первый Помощник. — Там все нормально! — бодро перебил Первого Помощника неожиданно возникший Главный Трибун. — Конкретнее! — потребовал Король, которому залпы ночного салюта стали подозрительно напоминать оружейные выстрелы. Слуга шустро юркнул за дверь. За ним попытался ретироваться Первый Помощник, но Главный Трибун перехватил его за полу пиджака, поскольку рукав самого Главного Трибуна цепко сжал Король. — Видите ли, — вкрадчиво заметил Первый Помощник, — как ни странно, люди восприняли ваше благодеяние по-разному… — Но восприняли все! — решительно вставил Главный Трибун. — Они почему-то начали спорить… — Но спорить не принципиально! — Нельзя сказать, чтобы они не приняли новый Цвет Власти… — Они его, разумеется, приняли! — Однако некоторые… — Отдельные элементы! — Стали утверждать, что белый цвет им нравится больше.. — Черный дороже! — А серо-буро-малиновый… — Да, серо-буро-малиновый! — Вроде как не тот… — Вроде как не этот! — И в итоге… — В конечном счете! — Началось брожение… — Волнение! — Но это ни о чем не говорит… — Абсолютно! — Потому что мы-то с вами понимаем… — Твердо знаем! — Всякое новшество сначала пугает… — А потом радует! — Машину! — приказал Король. — Зачем? — разом спросили Первый Помощник и Главный Трибун. — Я должен сам увидеть и понять! — Ваше Величество! — взмолился Первый Помощник. — Я послал своих людей, они разберутся и примут меры. — Ваше Величество! — объявил Главный Трибун. — Я тоже послал своих людей, они выступят и убедят. Король распахнул окно. Порывистый ветер ворвался в комнату, обрушив свежую волну, смешанную с многоголосым гулом. Огромная площадь, где проходили торжества, напоминала пестрый ковер. Так много было здесь людей, державших в руках черные и белые знамена, черные транспаранты с белыми надписями и белые транспаранты с черными надписями. Все, казалось, говорили разом, но громче других ораторы, стоящие на высоком помосте, обтянутом черной и белой материей. — Я всегда исповедовал черный цвет! — гремел один оратор. — И я всегда боролся за свой цвет! Но я никогда не боролся за серо-буро-малиновый! Он чужд мне! Он противоречит моим убеждениям! — Я за белый и только за белый, — взывал другой. — Я готов жизнь за негоположить! Черный сроду не доводил до добра! Но серо-буро-малиновый — это еще худшее безобразие! — Он вносит раскол в наши ряды! Он лишает нас идейной почвы! — дружно неслось из толпы. — С ума сойти… — бормотал Король, наблюдая, как летят, разметаемые ветром, серо-буро-малиновые клочья знамен. В полдень во дворце собрались все его обитатели. — Как это расценивать? — Король мрачно посмотрел на придворных. — Вчера мне докладывали, что народ ликует. А сегодня… — Вы напрасно слушали эту ругань на площади. Обычная площадная ругань, и только, — испуганно попятился Первый Помощник. — Вы бы лучше поручили это мне! — предусмотрительно отошел подальше Главный Трибун. — Попрошу не указывать! — яростно одернул Король. — Пока еще я здесь правлю! — Конечно, конечно, — прошептал Первый Помощник. — Никто не смеет оспаривать! — поддакнул Главный Трибун. — Однако… — Что — однако? — метнул гневный взгляд Король. — Если вы настаиваете, скажу со свойственной мне откровенностью. Правителям не по чину опускаться до масс. Там же вечно черт-те что творится! Это мы, ваши придворные, должны узнавать настроения людей и доносить их до ваших светлейших ушей. Так было всегда. И всегда Короли были спокойны. ‘А спокойствие Короля — это спокойствие всех нас, спокойствие государства! — Вранье! — Король уже забыл, что он должен быть добрым и великодушным. Выдумки! Чушь! Серо-буро-малиновый! Движение вперед! Перспектива! Новый Цвет Власти, гарантирующий процветание! А что на самом деле?! Черные и белые объединились против этого цвета! И против меня — тоже! А я хочу народу добра! Но разве можно творить добро, когда все против?! — Мы — за! Мы всегда — за! — разом закричали придворные. «Все политики одним цветом мазаны, но каждый пытается доказать, что его краски чище», — предупреждала мать. «Я что-то недодумал. Я позволил легко убедить себя, потому что не мог ничего предложить сам. Из множества трудных задач приятнее та, которая легче», — с горечью размышлял Король, умевший относиться к себе критически. — Мои люди немедленно наведут порядок, — нарушил повисшую тишину Первый Помощник. — Мои люди немедленно докажут вашу правоту! — добавил Главный Трибун. — Да! Да! — подхватили придворные. — Нет! — отрезал Король. — Я все отменяю! Никакого черного. Никакого белого. Никакого серо-буро-малинового. Пусть каждый выбирает тот Цвет Власти, какой ему хочется. Пусть будет свобода выбора! Зал ахнул. Такого в истории страны еще не случалось. — Мои люди сейчас же пойдут снимать серо-буро-малиновые знамена, радостно откликнулся Первый Помощник. — Мои люди сейчас же донесут до народа ваше мудрейшее решение! торжественно провозгласил Главный Трибун. — Пусть будет так! — сказал Король. — Я верю, что этот шаг оценят правильно. Несколько дней страна пребывала в суматохе. Люди Первого Помощника пытались чем-нибудь забить серо-буро-малиновый цвет, которым прежде умудрились выкрасить все, что только было можно. Но получалась жуткая мазня. Проще оказалось со знаменами — их срывали и сжигали во дворцовом подвале. Первый Помощник, чье лицо от недосыпания и нервотрепки само покрылось убийственным цветом, безжалостно гонял подчиненных и беспрестанно ругался с учеными. — Бездельники! — надрывался он. — Нахлебники, тугоумы! Время идет, а вы не в состоянии придумать, чем уничтожить этот омерзительный серо-буро-малиновый! Угроза отставки истребляла последние нервные клетки Первого Помощника. Главному Трибуну было легче. Конкретный результат не входил в его служебные обязанности. Его работа заключалась в словах. Тут, правда, тоже таилась опасность: слов имелась масса, и из них следовало безошибочно выбрать единственно правильные. Однако Главный Трибун давно поднаторел в своем деле, и даже среди ночи, даже в глубоком сне мог произнести нужную речь на любую тему. Подручных Главный Трибун подбирал и хорошо кормил, отчего те обладали крепкими ногами и сильными голосами. С утра до ночи носились они по стране, объявляя, что теперь серо-буро-малиновому конец, каждый волен решать, какой цвет ему милее, это мудрое повеление Короля, которое… Далее следовали сочные эпитеты, колоритные сравнения, впечатляющие выводы. Король ждал. Он часами простаивал у окна, прислушиваясь: не раздадутся ли звуки негодования или ликования. Нет, ничего не раздавалось. Он садился в машину и объезжал город, всматриваясь: есть ли на лицах его подданных возмущение или радость. Нет, ничего не читалось на лицах. Король был молод и мечтал о признании. Оно рисовалось ему ярким, восторженным, громким, как в многочисленных кинофильмах, отснятых в очень богатой стране, где жило полно бедняков. Но с другой стороны… «Может, так и надо? — рассуждал Король. — Может, самое разумное решение это то, что воспринимается спокойно?» По нескольку раз на дню к нему являлись Первый Помощник с Главным Трибуном и докладывали: все идет отлично. Впрочем, когда Король пытался выяснить, что же конкретно отлично, оба ограничивались междометиями. Только один исторгал их робко, а другой бодро. Король из последних сил старался доверять придворным, однако успел заразиться недоверием. И потому однажды, как уже случилось, встал с трона и ушел на улицу. Вот так просто встал и ушел — никого не предупреждая, без свиты, без единого телохранителя, без маски на лице и даже без шляпы, надвинутой на брови. Он надеялся, что стоит ему покинуть дворец, и люди окружат его, расскажут о своих проблемах и радостях, возникнет столпотворение, но это не пугало Короля. Он вполне допускал, что ничего подобного не произойдет, Король бродил дотемна. Он второй раз столь близко видел столицу и ее жителей, но отчего-то все казалось иным. Он выходил на шумные площади, забитые автомобильными пробками, и сворачивал в тихие улочки, заваленные старым мусором, посидел в каком-то садике с разбитыми скамейками и выпил чашечку жидкого кофе в баре. И опять его никто не узнавал. Абсолютно никто! — Говорят, наш Король велел выстроить дома для малолетних сирот и одиноких стариков, — заметил как бы между прочим Король, останавливаясь около будки пожилого сапожника. — Да? Возможно… — согласился сапожник. — Но я чиню только зеленую обувь, а ее так мало, что я постоянно без заработка. — Говорят, наш Король велел разбить для массовых гуляний парки и собрать для всеобщего обозрения шедевры искусства, — сказал Король, усаживаясь рядом с уличным художником. — Да? Возможно… — кивнул художник. — Но я пишу серебристой краской, а серебристые — лишь звезды. Людям надоело их покупать. — Говорят, наш Король велел снизить цены на хлеб и отдать под суд вельмож-казнокрадов, — почти крикнул Король проходившей мимо девушке. — Да? Возможно… — отозвалась девушка. — Но жениху не нравятся мои розовые волосы, и я, наверно, никогда не выйду замуж. — Невероятно! — застонал Король. — Они буквально помешаны на этих цветах. Они ничего, кроме них, не знают и знать не хотят! — Что с тобой, сынок? Король обернулся и увидел женщину — ту самую, что видел в прошлый раз, не очень старую, но и не молодую, с лицом, напоминающим лицо его матери. — Ты знаешь, кто я? — грустно спросил Король. — Разумеется. Ты — Король. Вот твои портреты и вот твои фотографии. Да и я не настолько дряхлая, чтобы позабыть тебя. — Ты похожа на мою мать, а она очень мудра. Ты не Первый Помощник, не Главный Трибун и даже не младшая горничная. А потому скажи: что творится в моей стране? — В твоей стране? — улыбнулась женщина.- Я здесь родилась, выросла и состарилась. Я помню год Великого Голода и год Богатого Урожая. Я помню, когда соседний правитель хотел напасть на нас, и мои сыновья даже спали, не выпуская из рук оружия. А потом объявили мир, и сыновья ушли искать счастье. Я помню, когда на месте многих зданий стояли убогие хибары, а гнилое болото было чистым прудом. Разве помнишь это ты? — Но я еще очень молод! — воскликнул Король. — Великий храм появился задолго до моего рождения, — сказала женщина, — но я знаю, как его строили. — Зато я велел выстроить дома для малолетних сирот и одиноких стариков, разбить парки, снизить цены, отдать под суд… — Это добрые помыслы, — мягко перебила женщина. — Все Короли приходили в мою страну с добрыми помыслами. Разница лишь та, что одни облачали их в белый цвет, а другие в черный. И когда они сменяли других, менялись и помыслы. Добрые на добрые. А дела… Время скоротечно, черный цвет не терпит белый, и белый не мирится с черным. — Но я отменил эти цвета! — Ты даже отменил серо-буро-малиновый, который прежде не провозглашал никто. Ты повелел людям самим выбирать цвета, и они исполнили твое повеление. Но… Нельзя носить лишь синие платья и убирать лишь коричневый мусор. Как нельзя всегда смеяться или всегда плакать. — В чем же моя вина?! — изумился Король. — В том, что я дал людям свободу?! — Свободу? Возможно, возможно… Суть, однако, в том, что ты думал о цвете и не думал о власти. А что такое цвет? Мазок кистью — и только. — И это все, что ты мне можешь сказать? — Пожалуй, все. Слов много. Как и помыслов. Держать кисть способен даже младенец. Но чтобы удержать власть… Нежная ладонь скользнула по руке Короля. Пальцы женщины были мягкие и теплые, словно пальцы матери. — Ты станешь Королем в День Великих Свершений. Это редкая удача. Ночь, залившая город темной краской, медленно рассеивалась. Далеко за домами пробивались первые солнечные лучи. Они несли на себе новый день. День Великих Свершений.
Какие были комнаты для прислуги в георгианском и викторианском стиле?
Освободить место для прислуги
Слуги часто начинали свою трудовую жизнь в раннем детстве; они жили на некотором расстоянии от своих семей и нуждались в размещении в загородном доме. Спальни и общежития для прислуги были отодвинуты на окраину дома: на чердаках, а иногда и в подвалах. В недавно построенных или расширенных домах были созданы крылья в главном доме, которые предлагали отдельные помещения для домашних и уличных слуг, например, конюхов, часто спящих над конюшнями.
Иерархии
У большинства слуг был бы свой ящик. Они носили это с собой, когда переходили из одного дома в другой и использовали его для хранения личных вещей. Всю остальную мебель предоставил их работодатель. Иерархия, созданная статусом внутри домохозяйства и обозначенная различиями в оплате труда, также проявлялась в размещении и мебели, предоставляемых слугам.
Служанки и лакеи
Слуги на нижних ступенях иерархии получали самое необходимое, но почти ничего: кровать, стул, возможно, стол, маленькое зеркало или кусок ковра.Матрасы были наполнены шерстью или конским волосом, а иногда и соломой; Кровати и подушки обычно были набиты перьями, и у всех был стандартный набор простыней и одеял, но многим слугам приходилось делить свои комнаты, и у немногих были костры.
Домработницы и стюарды
Старшие слуги в больших семьях жили намного лучше. Их комнаты могли напоминать комнаты их работодателей, отчасти потому, что они часто содержали ненужную мебель, перенесенную из семейных комнат. У многих были ковры, мягкие кресла, чайные сервизы и письменные столы (эти комнаты часто были местом работы), а у некоторых были картины на стенах и книги на полках.Они неизменно наслаждались огнем и отдельной комнатой.
Комнаты для прислуги сегодня
Слишком часто спальни для прислуги сегодня недоступны в исторических домах. Многие из них были переоборудованы в офисы или используются под склады; другие, например, в Таттон-парке и Аптон-Хаусе, остаются закрытыми, за исключением специальных туров.
Посмотреть комнаты и мебель для прислуги у нас
Слуг под лестницей
Как мы узнаем, наступило ли утро, если нет слуги, который поднимал бы жалюзи?
—J.М. Барри
Посетители великих деревенских особняков Британии часто представляют себе волшебную жизнь, прожитую в их стенах, фантазию, взлетающую при мысли о вечерних вечерах в роскошных гостиных, о вкусных блюдах, подаваемых на элегантном фарфоре, о сочных винах, заполняющих ряды хрустальных бокалов в каждом месте. . Путешествие по великолепным спальням дает возможность насладиться завтраком среди подушек с балдахином и удовольствиями прихорашиваться с мириадами таинственных принадлежностей викторианского туалетного набора.Кто бы не подумал, что жизнь в этих величественных домах действительно райская?
Действительно, когда шестой маркиз Бат вспомнил свое детство в Лонглите, где он родился в 1905 году, он сказал: «О тебе заботились в роскоши». Еще в детстве у него был собственный камердинер — один из 43 домашних слуг. «Я думаю, что чем больше у вас будет слуг, тем лучше», — прокомментировал он. Очевидно, с этим согласились и другие аристократы. В 1827 году граф Личфилд нанял 107 слуг в Шагборо-холл около Стаффорда.В Таттон-парке, доме барона Эгертона в Натсфорде, графство Чешир, в 1890-х годах было около 40 домашних слуг, а в Итон-холле недалеко от Честера герцог Вестминстерский нанял 300 домашних и уличных слуг, в том числе более 40 садовников.
Эти большие посохи означали, что большинство жителей величественных домов были не богатыми владельцами, а слугами и слугами, жизнь была тяжелой и, безусловно, далекой от небесной. В их многочисленные задачи входило поддержание безупречности дома и территории, уход за лошадьми и экипажами, приготовление и сервировка еды, воспитание детей, шитье, стирка и обеспечение удобств для животных, включая уголь для каминов, воду в спальнях, а также еду и питье всякий раз, когда это необходимо. .В аббатстве Уэлбек пятый герцог Портлендский настаивал на том, чтобы он ел жареного цыпленка всякий раз, когда ему нравился кусок, поэтому один из его 38 кухонных слуг должен был следить за тем, чтобы вертел всегда был готов к его удовольствию.
Чтобы обеспечить такой уровень обслуживания, требовалась регламентация. Дворецкий, или управляющий домом, присматривал за слугами-мужчинами, такими как лакеи и камердинеры, в то время как экономка присматривала за горничными. Под ее началом повар руководил бригадой кухонных прислуг, посудомойников и горничных из кладовых.За детьми присматривала няня или медсестра, которым помогали одна или несколько яслей. Старшая горничная наблюдала за всем обслуживанием в комнатах семьи, в то время как у старшей горничной было множество помощниц, которые они вытирали, убирали и полировали. Снаружи кучер присматривал за конюхами и конюхами, в то время как старший садовник назначал одних садовников в теплицы, а другие работали на клумбах, в огороде и в кустах.
Иногда высшие слуги, такие как гувернантки, горничные и горничные, могли происходить из бедных дворянских семей.В «Джейн Эйр», например, экономка миссис Фэйрфакс была дальним родственником своего работодателя, мистера Рочестера, и Шарлотте и Анне Бронте, дочерям священника, приходилось зарабатывать на жизнь гувернантками. Как пояснила Анна Бронте в своем романе «Агнес Грей», их положение может быть неудобным. Желая сохранить свой социальный статус, они отделяют себя от низших слуг, обрекая себя на одиночество, а иногда и на обиду. Даже среди слуг из рабочего класса слуги более высокого ранга ревниво охраняли свой престиж.Молодыми слугами на нижней ступеньке лестницы мог руководить каждый, кроме своих работодателей. Младшие слуги редко видели своих хозяев и любовниц.
В самом деле, часто нужно держаться подальше от глаз. Третий лорд Крю постановил, что «в Крю-холле никогда не должны появляться горничные, кроме как в часовне». Точно так же 10-й герцог Бедфорд настоял на том, чтобы в Уобурнском аббатстве под угрозой увольнения не появлялись служанки после полудня.
5AKG-IMAGES / A.F.KERSTING
Такие правила означали, что горничные должны были вставать уже в 5:30 утра, чтобы убрать жилые помещения и разжечь костры до появления семьи и гостей. На кухнях другие горничные зажигали печи и кипятили галлоны воды, которую должны были нести наверх старшие горничные и слуги, чтобы наполнить китайские умывальники или модные ванны в каждой спальне.
Слуги должны были использовать черные лестницы и боковые входы, чтобы случайно не встретить людей, которым они служили.В некоторых домах даже были отдельные коридоры для слуг. Также было скрыто жилье для прислуги. В задней части Таттон-холла — стороне, которую посетители никогда бы не увидели — находится кирпичное крыло от кухни для горничных. Чердаки также использовались для комнат горничных. Зимой было холодно, а летом жарко. Сотрудники-мужчины часто спали возле своей работы. В Шугборо посетители могут увидеть уединенные кирпичные дома, где спали садовники, чтобы они могли вставать холодными ночами, чтобы убедиться, что все в порядке с отоплением в теплицах.Конюхи и конюхи жили над конюшнями; лакеи иногда прилегали к таким ценным вещам, как серебряные шкафы.
Слуги обычно обедали около 14:00. в зале для прислуги. Все ждали за своими стульями, пока не подошли дворецкий и экономка и не дали знак сесть. Дворецкий обычно подавал мясо, а экономка наполняла тарелки овощами и раздавала их в порядке старшинства, так что младшие получали свои последние. На десерт старшие слуги удалялись в гостиную домработницы или дворецкого, где их ждала одна из горничных, предоставляя младшим слугам свободно болтать.Эта пауза в дневном труде давала немного свободного времени, но слугам редко разрешалось выходить из дома. Колокольчик мог звонить в любое время, призывая их оказать услугу или выполнить рутинные задачи. Фактически, у них не было конца рабочему дню, и один выходной в месяц был самым большим, на что они могли надеяться.
Служанки обычно шили себе униформу, иногда из ткани, предоставленной их работодателями: обычно розовые или синие хлопковые платья для работы по дому, горничные меняются на черную, с белыми фартуками и кепками во второй половине дня.В Таттон-холле даже фартуки имели цветовую маркировку: черная для маленьких девочек, зеленая для больших девочек, красная для маленьких мальчиков, синяя для больших мальчиков и так далее. В 18 веке многие слуги-мужчины носили изысканные ливреи, предоставленные их работодателями, но к концу 19 века их носили, как правило, только кучеры (а позже и шоферы).
Контраст между бесплатной одеждой, которую давали некоторым слугам-мужчинам, и платьями ручной работы, которые горничные должны были снабжать сами, — лишь один из способов, с помощью которого женщины-слуги обычно имели более жесткую сделку, чем мужчины.Хотя обязанности горничных и дворецких были сопоставимы, дворецким платили гораздо больше. В 1870-х годах дворецкий в Шагборо зарабатывал 73 фунта стерлингов в год, а экономка — всего 42 фунта стерлингов. Служащий зарабатывал 52 фунта стерлингов, а горничная, выполняющая аналогичную работу, получала всего 25 фунтов стерлингов. В нижних разрядах горничная из прачечной зарабатывала 18 фунтов стерлингов, а горничная в детской — 9 гиней, хотя ее босс, старшая медсестра, получала 31 фунт стерлингов.
5Медные колокольчики на тяжелых спиралях, установленные в зале для слуг в Эрддиге, позволяют слугам видеть и слышать, когда их вызывают в любую комнату в доме.В холле для прислуги не было такого понятия, как «не при исполнении служебных обязанностей». NTPL / ANDREAS VON EINSIEDEL
Даже по меркам 19 века эти зарплаты были низкими. С другой стороны, у слуг было меньше расходов, чем у других рабочих, потому что им было предоставлено жилье и еда. В менее зажиточных домах это могло означать скудную добычу, но в больших аристократических особняках прислуга была хорошо накормлена. Они могут даже попробовать угощения, такие как игры или мороженое, оставшееся после развлечений. Когда работодателей не было, слуги получали пансион: деньги, чтобы покупать себе еду.Нижние слуги получали меньше, чем старший персонал, но тем не менее даже самые бедные горничные могли немного сэкономить.
Но в то время как иерархический характер работы слуг мог сильно сказаться на самых простых, это давало им возможность карьерного роста. Маркиз Бат объяснил: «В старые времена, когда людей привозили на домашнюю прислугу, они превращались из мальчиков-фонариков или кладовщиков в лакеев, уборщиков покоев или управляющих домами». Точно так же 12-летняя посудомойка на 5 фунтов стерлингов в год в 1860-х годах могла надеяться в конечном итоге стать поваром, зарабатывая до 60 фунтов стерлингов.
5Дом Шагборо, Стаффорд, является резиденцией графа Личфилда. АРХИТЕКТУРА UK / ALAMY
Это одна из причин, по которой многие слуги оставались в одном доме большую часть или всю свою трудовую жизнь. Лучше всего это можно увидеть в Эрддиг-Холле, семейном доме Йорков недалеко от Рексхэма во Флинтшире. Здесь кухня и стены подвала покрыты масляными портретами слуг и стихами, написанными о них хозяевами дома. Филип Йорк написал первую дань уважения своей поварке Мэри Райс в 1786 году.«У нее отличные и хорошие пироги» — гласит одна строка. О кухонном человеке, Джеке Николасе, он написал:
.Потом в кухонном углу застрял, Он ощипал птицу и потянул утку, Или с корзиной на коленях, Был лущищем гороха.
Сын Филиппа Симон продолжил традицию, отметив Томаса Причарда, садовника, который помогал егеря:
Из петуха и куропатки звенел в колокола, И громко крикнул как мертвец.
Когда семья Йорков передала Эрддига Национальному фонду в 1973 году, все в доме осталось неизменным, поэтому посетители могут увидеть многие детали жизни слуг.В Зале для слуг до сих пор стоит большой стол, а также ряды колоколов, которые заставили бы лакея подлить уголь в огонь или горничную принести чай. В буфете дворецкого есть чаша из папье-маше, предназначенная для мытья стаканов, точильщик для ножей и корзина для вина, чтобы переносить вино из погреба. Чтобы защитить его содержимое, рядом спал один из лакеев, а спальни горничных можно увидеть на чердаках вместе с гостиной, где они могли шить.
5Ранним обедом в зале для прислуги председательствовали дворецкий и экономка.Даже ниже лестницы существовала строгая социальная иерархия, в которой каждый знал и держал свое место. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ШУБОРОУ: CHRIS BEECH
В Таттон-холле недалеко от Натсфорда — города Чешира, который Элизабет Гаскелл выдумал как Крэнфорд, — также выставлены помещения для прислуги. Здесь особенно очевиден контраст между великолепием жилища семьи Эгертон и подвалом, где слуги проводили свои дни. Поверните в одну сторону от входа, и ваш путь ведет через Музыкальную комнату, Гостиную и в Столовую, где стол красиво украшен фарфором Минтон.На втором этаже 24 спальни, в том числе одна с оловянной ванной, нагретой углем, которую горничные наполнили медными банками для воды, теперь спрятанными под умывальником. У входа поверните в другую сторону, и по ступеням вы попадете в подвал, в буфетную и кухню с десятками медных кастрюль и форм, а также в гостиную экономки. Там домработница не только управляла слугами, но и развлекала своих сверстников и сторожила туалеты, в которых хранился лучший фарфор и лучшее белье.
В Шагборо-холле около Стаффорда доценты, обученные играть роли слуг в викторианскую эпоху, объясняют подробности своей жизни.Посетители входят в огород, где «садовники» рассказывают о том, как обеспечить семью овощами и зеленью. Среда — это день встречи с садовником, когда посетители собираются за пределами Кварталов слуг для прогулки с гидом по территории. В помещении повар демонстрирует приготовление пищи на открытом воздухе в кухне 1880-х годов, а также дает рецепты и ответы на вопросы о методах приготовления пищи 19 века. Пивоварня по соседству с кухней демонстрирует старые традиции домашнего пивоварения и обычно предлагает образцы своего пива.
Посетители кухонь и кварталов для слуг могут только удивляться тому, как усердно приходилось работать слугам, чтобы поддерживать в рабочем состоянии величественные величественные дома. Не в последнюю очередь их трудностями было отсутствие свободного времени. Первая мировая война открыла больше рабочих мест, особенно для женщин, и по мере развития 20-го века все меньше людей терпели ограничения жизни слуг. Хотя маркиз Бат сказал, что он хотел бы вернуться в те изнеженные дни в Лонглите, «потому что там было намного удобнее для нас», он не жаловался.«Я не жалуюсь, — сказал он, — времена изменились».
Загородный дом для прислуги
Erddig, Wrexham, LL13 OYT, выезжает с автомагистрали A483 из Честера или Рексхэма.
Дом открыт с субботы по среду включительно с 11-4 января по июнь и с октября по декабрь и с 11-5 июля по сентябрь. Вход в дом и сад стоит 9,80 фунтов стерлингов. Вход только в сад стоит 6,40 фунтов стерлингов. Для получения дополнительной информации: тел .: 01492 860123 или www.nationaltrust.org.uk
Шагборо, Милфорд, Nr. Стаффорд, ST17 0XB, находится на автомагистрали A513 на Милфорд-Коммон, между Стаффордом и Личфилдом, и четко обозначен указателями со стороны развязки 13 M6.
Shugborough открыт ежедневно с 11 до 5 с конца марта в течение лета и ранней осени. Полную схему проезда и подробную информацию о специальных мероприятиях можно загрузить с веб-сайта www.shugborough.org.uk. Дневные билеты стоят 12 фунтов стерлингов (10 фунтов стерлингов при покупке заранее), 9,50 фунтов стерлингов для пожилых людей. Тел: 01889 881388
Tatton Park, Натсфорд, Чешир, WA16 6QN.Отель Tatton Park находится всего в 9,6 км от аэропорта Манчестера и хорошо обозначен указателями от автомагистрали M56.
Низкий сезон: с середины октября по март парк открыт со вторника по воскресенье 11–5, хотя сам особняк закрыт. Высокий сезон: с конца марта до начала октября, открыт со вторника по воскресенье, 10–7. Информацию о многих специальных мероприятиях и точном времени работы можно найти на сайте www.tattonpark.org.uk или по информационной линии: 01625 374435. Билет Totally Tatton (вход в особняк, сады и ферму), 7 фунтов стерлингов; парковка — 4,50 фунта стерлингов; пешеходы и велосипедисты могут входить в парк бесплатно.
Подробнее: Объекты индустриального наследия — локомотивы современного мира
* Первоначально опубликовано в июле 2016 года.
Внутри викторианских домов и домов
Внутри викторианских домов
Многие люди в викторианскую эпоху жили в домах без каких-либо современных удобств, которые мы сегодня принимаем как должное. Людям приходилось обходиться без центрального отопления и горячей воды из-под крана — вместо этого у них был открытый огонь и подогрев воды на большой плите, называемой плитой.
В большинстве викторианских домов в каждой комнате был камин.
На этой фотографии выше показана небольшая серия чугунов.
Без пылесосов и стиральных машин ухаживать за домом было очень тяжело.
Бедные дома
Бедные люди в викторианскую эпоху жили в ужасных стесненных условиях в ветхих домах, часто всей семьей в одной комнате.
Многие люди в викторианские годы переехали в города в поисках работы на фабриках.Люди теснились в уже переполненных домах. Комнаты сдавались целым семьям или, возможно, нескольким семьям.
В большинстве домов для бедных была только одна или две комнаты внизу и одна или две наверху. Семьи собирались в этих комнатах, по нескольку в каждой комнате, а некоторые жили в подвалах.
Оловянная ванна Более бедные семьи, если у них вообще есть ванна, ставят ее перед кухонным звонком.Это было самое теплое место в доме и очень близко к горячей воде. Вся семья умывалась одна за другой, доливая еще воды, но, вероятно, не сливала воду, пока все не закончили. |
В этих домах не было водопровода и туалетов . В каждом доме будет общий водяной насос. Вода из насоса часто была загрязненной.
водяной насос
На некоторых улицах будет один или два внешних туалета на всю улицу !
Дома были построены вплотную друг к другу, между ними были узкие улочки и открытые канализационные трубы, идущие посередине улиц.Мусор выбрасывали на улицы. Неудивительно, что немногие дети дожили до взрослой жизни.
Богатые дома
Дома для среднего и высшего классов были намного лучше. Они были лучше построены и были крупнее. В домах было установлено большинство новых устройств, таких как туалеты со смывом, газовое освещение и внутренние ванные комнаты.
Состоятельные викторианцы украшали свои дома в новейшем стиле.Там будут тяжелые занавески, обои с цветочным рисунком, ковры и коврики, украшения, хорошо сделанная мебель, картины и растения. Помещения отапливались открытым угольным камином, а освещение обеспечивали свечи и масляные или газовые лампы. Позже, в викторианский период, электричество стало более распространенным, и поэтому стали использовать электрическое освещение.
У богатых викторианцев на кухнях были водяные насосы, а мусор вывозили в подземную канализацию.
У самых богатых людей были слуги, и они жили в одном доме.Спали они на верхнем этаже дома или на чердаке. В комнатах для прислуги зимой было холодно, а летом душно.
Девочки двенадцати лет работали горничными. Их одели, накормили и дали крышу над головой в обмен на зарплату — горничная зарабатывала около 7 фунтов стерлингов в год.
Освещение
Свечи продолжали оставаться важным источником освещения. Парафиновые лампы были представлены в 1860-х годах, а с течением века газовое освещение стало все более распространенным явлением.
Ссылки на домашнее задание в викторианском стиле
Внизу в аббатстве Даунтон: как настоящие слуги работали по 14 часов в день, а горничные были ограничены «девственными комнатами»
Внизу в Даунтоне: как настоящие слуги работали по 14 часов в день, а горничные были ограничены ‘девственные помещения’
Тони Реннелл для MailOnline
Обновлено:
Зевая и потягиваясь, она проснулась в пять утра, выползая из своей кровати в мансарде в том, что хихикающие лакеи, которых отправили по общежитиям несколькими этажами ниже в подвале, чтобы отпугнуть ханки-панки, называли «крыло девственниц».
Начался тяжелый день горничной в разросшейся деревенской куче.
Он следовал образцу, изложенному в «Полном слуге», написанном в 1825 году Сарой и Сэмюэлем Адамс, бывшими дворецким и горничной по профессии, с дополнительными советами, как заверил читателей, «от дамы высокого ранга». На протяжении многих десятилетий это была библия о том, как должен работать хорошо организованный загородный дом — настоящие аббатства Даунтон.
«Беги» было рабочим словом для горничной, когда она поспешила вниз по черному этажу — парадная парадная лестница была строго закрыта — открывала ставни в семейных гостиных, разгребала и заново разжигала костры, чернила и полировала камины, убирали беспорядок, небрежно сделанный накануне ее так называемыми лучшими, расстилали ковры с влажными чайными листьями, чтобы удалить пыль, подметали чайные листья.. . затем перешел в столовую, чтобы повторить процесс.
Хит-драматический сериал ITV «Аббатство Даунтон», несмотря на его гламурную обстановку и тщательно соблюдаемую эдвардианскую аутентичность, может лишь поверхностно описать то, чем он был.
Затем он снова поднялся по лестнице в гримерные милорда и миледи. Слейте помои из ночных горшков, зажгите костры, чистые и пыльные, все время ходя на цыпочках, чтобы не потревожить еще крепко спящих хозяина и хозяйка и их привилегированное потомство.
Наконец, она осторожно подметала парадную лестницу (единственный раз, когда ей разрешили ступить по ней).
Тогда, и только тогда, она позавтракала. Только начался долгий день, посвященный уборке и утеплению.
Больше костров, которые нужно разложить и долить, кровати, которые нужно заправить, комнаты, которые нужно содержать в чистоте, всегда на шаг впереди невысказанных потребностей семьи, всегда, если возможно, вне поля зрения, чтобы они могли скользить из одной идеальной обстановки другому, не задумываясь ни на минуту, как будто комнаты прибирались сами по себе.
Возможно, уже около полуночи дворецкий подаст сигнал, что семья — все их прихоти выполнялись с утра до ночи — ушла на пенсию, как и она, и остальные измученные домочадцы. До 5 утра, когда все началось снова.
Нам трудно в эти демократические дни 21-го века полностью осознать размеры аристократических вотчин, которые усеяли ландшафт (естественно, Возможности Брауна!) Этой страны перед Первой мировой войной.
Величественные владения дома, по которым мы гуляем, поскольку туристы неизбежно становятся музеями, в которых не хватает жизненной силы многолюдных жителей.Хит-драматический сериал ITV «Аббатство Даунтон», несмотря на его гламурную обстановку и тщательно соблюдаемую эдвардианскую аутентичность, может только поверхностно. Чтобы соответствовать действительности, потребовались бы сотни актеров.
В аббатстве Уэлбек у герцога Портленда было более 60 сотрудников в доме, а еще 200 работали в конюшнях, садах и домашней ферме. В сегодняшней Великобритании такое количество сотрудников можно отнести к категории крупного бизнеса. Ежегодный Бал слуг Велбека был настолько огромным и грандиозным, что пришлось привезти оркестр и 50 официантов из Лондона.
Персонал: В аббатстве Уэлбек, например, у герцога Портленда было более 60 сотрудников в доме
Замок Хайклер, где снимался Даунтон, в 1912 году насчитывал 25 горничных, 14 лакеев и трех поваров. Примерно в то же время. , в реестре персонала в Лонглите значились — сделайте глубокий вдох — стюард, помощник дворецкого, конюх, лакей, три лакея, кладовщик, мальчик из холла, стальной мальчик (который полировал серебро), экономка, две горничные , восемь горничных, две швейных горничных, шесть прачечных, повар, две кухонные горничные, овощная горничная, посудомойка, доярка, конюхи, шоферы и «тигр», маленький мальчик в ливрее, который ехал в карете.
Поскольку тогдашний маркиз Бат — во многом как грозная вдовствующая герцогиня, которую великолепно сыграла Мэгги Смит в «Даунтоне» — отказался подключать электричество из соображений вкуса, появился еще мальчик с лампой, чья бесконечная задача, немного похожая на роспись Форт-Бриджа. , должен был очистить, подрезать и заправить 400 масляных ламп Лонглита (плюс 140 свечей в частной часовне). Как будто этого бедному парню было мало, каждое утро ему выставляли 60 пар обуви для полировки.
Огромные здания требовались для размещения этих сообществ и их разнообразных задач.Не только прекрасные семейные комнаты и просто меблированные помещения для персонала, но и огромная кухня с высокими потолками, сухая кладовая, кладовая для мяса, буфетная и молочная, пекарня, прачечная и оружейная — все под одной пещерой, вероятно, в стиле Ванбурга. крыша.
В некоторых домах были специальные комнаты, единственной целью которых была чистка и чистка охотничьей одежды. В Йоркшире 63 штатным сотрудникам графа Фицуильяма в Вентворт-Вудхаусе предстояло преодолеть не менее пяти миль коридоров.
И поскольку главным оскорблением для носа высшего класса было проникновение запахов готовки, кухню, как правило, располагали далеко от официальных столовых, что приводило к утомительным доставкам и переноске на дальние расстояния (а также -питание еды). Один герцог построил туннель из кухни в столовую с рельсами для тележек.
Нам трудно в эти демократические дни 21 века полностью осознать размеры аристократических вотчин, усеивающих ландшафт
Очевидным фактом было то, что в период их расцвета викторианской и эдвардианской эпохи величественные дома Англии были лебедями — элегантными и непринужденными на поверхности, в то время как, невидимые, сотни пар ног яростно гребли внизу.
Этими ногами руководил дворецкий (за исключением самых величественных домов, где его мог бы превзойти дополнительный уровень руководства, стюард). Как и дворецкий Аббатства Даунтон Карсон, в своем черном костюме джентльмена (чтобы отличать его от других слуг в их ливрее), он излучал спокойствие и уверенность вверх и абсолютную власть вниз.
Его кладовая была командным центром. Именно здесь хранились лучшие тарелки и бокалы под его замком (и мылись в его специальной раковине).Дворецкие, заботящиеся о безопасности, спали на кроватях через дверной проем, чтобы защитить семейное серебро своей жизнью.
Карсоны этого затерянного мира жили ради работы, хозяина, семейных традиций и самого дома — так же, как и титулованные землевладельцы, которым они служили, привязанные к его истории, настоящему и будущему.
Большинство из них не состояли в браке. Известно, что гранды увольняли дворецкого, который брал себе жену, на том основании, что его внимание будет отвлекаться. «Ты женишься на мне очень неудобно», — раздражался один из тех, кто неуместно думал, что у него своя собственная жизнь.
Следом за дворецким, на первом этаже, шла домработница с связками ключей от каждой комнаты в доме, которые висели у нее на поясе. Как он был глазами и ушами хозяина, так и она была голосом хозяйки. Согласно «Полной служанке», идеальной домработницей была «стабильная женщина средних лет, с большим опытом работы в своей профессии и сносным знанием мира» — мало чем в отличие от миссис Хьюз из Даунтона. Хранительница белья и фарфора, ее работа, по словам известной миссис Битон — еще одного викторианского источника домашних знаний, — заключалась в том, чтобы «постоянно следить» за любыми проступками со стороны персонала.
Ничто не должно ускользать от ее глаз-бусинок. Хотя обычно она была старой девой, ей всегда давали титул «миссис» в знак уважения, ключевое слово в ведении величественного дома.
Известно, что вельможи увольняли дворецкого, который брал себе жену, на том основании, что его внимание будет отвлекаться.
Уважение и повиновение дворецкому и экономке было тем цементом, который скреплял все здание, и эта пара была столь же надежной защитой. их высокий статус среди персонала, как и их голубые крови по ту сторону качающейся двери из зеленого сукна, разделявшей эти два владения.
В вымышленном Даунтоне мы видим, как сотрудники едят вместе в холле для прислуги, Карсон председательствует во главе стола, не терпит споров или плохих манер и особенно не придирается или сплетничает о слабостях семьи наверху — по крайней мере, не в пределах его слышимости.
Но во многих аристократических домах зал для прислуги был строго предназначен для хой-поллоев. Десять верхних, как называли высший эшелон слуг (дворецкий и домработница, очевидно, но также включая главного камердинера, старшую горничную и горничную), обедали отдельно в другой комнате и в другое время.
Они сели за ростбиф и вино, в то время как прислуга должна была довольствоваться вареным мясом и пивом. Повар или сапожник будут счастливы получить больше, чем мимолетный кивок — и, скорее всего, наручники на голову — от этих высоких, самоуверенных фигур.
Но в этом безумии званий был метод. Это был бизнес, и нижние слуги учились своему ремеслу, ожидая высших слуг: лакей служил дворецкому, а сапожник служил лакею.Юниоры стремились упорным трудом и самоотверженностью добиться повышения по служебной лестнице.
В этой жесткой иерархии «вознесение над собой» или «притворство и благодать» было высшим преступлением, преступлением не только в замкнутом мире под лестницей, но и в те почтительные дни против самого порядка. вещей.
В 1911 году национальная перепись насчитала 1,3 миллиона домашней прислуги против 1,2 миллиона рабочих в сельском хозяйстве и 971 000 в угледобывающей промышленности
Почему, мы можем задаться вопросом сегодня, так много людей мирилось с этим унизительным рабством? Почему они согласились быть такими переутомленными и забитыми? Простой и удивительный ответ заключается в том, что служба на службе не считалась унизительной, а в целом считалась должным и прилично оплачиваемым призванием.
Это определенно было на голову выше альтернатив. Лакей зарабатывал больше, чем сельскохозяйственный рабочий, и ему добавляли доску и плату в качестве надбавки. Затем были льготы. Кук получила остатки капель и кроличьи шкуры, которые она могла продать с прибылью. Гости дома оставляли щедрые чаевые.
Проницательным слугам не нужно тратить ни цента. Они могли сохранить всю свою зарплату, и многие так и поступили. Обслуживание не было крайней мерой, это была очень востребованная работа.
И это не было второстепенным занятием.В 1911 году национальная перепись насчитала 1,3 миллиона домашних прислуг против 1,2 миллиона рабочих в сельском хозяйстве и 971 000 человек в угледобыче.
Некоторым не нравилась жизнь, это «мужско-женское существование», как записал в своем дневнике один рассерженный лакей, «по милости дворянских прихотей и прихотей, запертых взаперти день и ночь без изменений».
Но один американский посетитель был удивлен проявленным им почтением, особенно по сравнению с наглым характером слуг в США.S.
«Английский слуга ожидает быть не чем иным, как слугой, и таким образом совершенствуется в этом искусстве», — сказал он. «В моей стране слуга рассчитывает сам стать хозяином через несколько лет. Какая система предпочтительнее, я не берусь на это ответить ».
Но эта наглость должна была изменить саму природу английского величественного дома, как это наглядно показано в сценарии Джулиана Феллоуз для аббатства Даунтон. На стене написано, что это древний режим.
Наверху прибытие наследника среднего класса демонстрирует врожденное аристократическое превосходство.Контроль ускользает от правящего класса.
Как отчаянно замечает вдовствующая герцогиня, когда на это указывают: «Я надеюсь, что мы что-то контролируем, если только мы сами». На что ее более сообразительная внучка отвечает: «Но, разве вы не видите — мы нет. »
Под лестницей горничная и главные лакеи сговариваются, чтобы править на насесте, в то время как горничная имеет амбиции жить вне дома. Когда раскрывается ее дерзкое намерение пойти на секретарские курсы и стать лучше, слуги Даунтона приходят в ужас.’Какие? И бросить службу? — задыхаются они. «В обслуживании нет ничего плохого, моя девочка».
Во многих аристократических домах зал для прислуги предназначался исключительно для хой-поллои
Однако дни великих домов были сочтены. Рост затрат на заработную плату, падение арендной платы и налогообложения — особенно пошлины на смертную казнь на поместья, которые были введены в 1894 году — подорвали экономику.
Мастера часто не обращали внимания на реалии быстро меняющегося мира. В Даунтоне вымышленный граф Грэнтэм осторожен со своими деньгами и женится на американской наследнице, чтобы избавиться от поместья.Но многие из его реальных коллег, несмотря на это, продолжали свои распутные поступки.
Одному герцогу было предложено в эти трудные времена вместе с французским поваром и английским поваром отказаться от кондитера, которого он также использовал на своих кухнях.
жалобно, старик умолял: «Боже мой, разве мужчина не может больше иметь печенье со стаканом хереса?»
Первая мировая война — невидимый призрак на пиру в Даунтоне — скоро подорвет эту страну -домовая культура, лишив ее рабочей силы, без которой она была обречена.Демократия смерти в окопах также стала издевкой над всем этим почтением.
Депрессия положила конец этому образу жизни.
Но когда Upstairs свернули, и это справедливо в глазах многих, Downstairs пошел вместе с ним. И чем горничная и мальчик с лампой будут зарабатывать на жизнь, когда их несовершенный, но защитный мир рухнет вокруг них?
Убийство в Салеме | История
Ричард Крауниншилд избил 82-летнего капитана.Джозеф Уайт, пока спал бывший работорговец и капитан корабля. Крис БеатрисВечером 6 апреля 1830 года свет полной луны проникал через окна 128-й Эссекс-стрит, одного из самых роскошных домов в Салеме, штат Массачусетс. Трехэтажное здание, построенное в 1804 году, украшенное красиво сбалансированным фасадом из красного кирпича, портиком с белыми коринфскими колоннами и резной деревянной балюстрадой на крыше, было символом процветающей и настоящей домашней жизни Новой Англии. Он принадлежал капитану.Джозеф Уайт, сделавший состояние капитаном и торговцем.
Бездетный вдовец, Уайт, которому тогда было 82 года, жил со своей племянницей Мэри Бекфорд («красивая женщина сорока или сорока пяти лет», согласно свидетельству современника), которая служила его экономкой; Лидия Кимбалл, домашняя прислуга; и Бенджамин Уайт, дальний родственник, который работал разнорабочим. Дочь Бекфорда, которую также звали Мэри, когда-то была частью домашнего хозяйства, но тремя годами ранее она вышла замуж за молодого Джозефа Дженкинса Кнаппа-младшего., известный как Джо, и теперь жил с ним на ферме в семи милях от Уэнама. Кнапп ранее был капитаном парусного судна, принадлежащего Уайт.
В ту ночь капитан Уайт удалился немного позже, чем обычно, примерно в 9:40.
В 6 часов следующего дня Бенджамин Уайт встал, чтобы приступить к своим делам. Он заметил, что заднее окно на первом этаже было открыто и к нему опиралась доска. Зная, что капитан Уайт хранил золотые дублоны в железном сундуке в своей комнате и что в доме было много других ценностей, он опасался, что грабители получили к нему доступ.Бенджамин сразу же предупредил Лидию Кимбалл, а затем поднялся по элегантной винтовой лестнице на второй этаж, где дверь в спальню старика была открыта.
Капитан Уайт лежал на правом боку, по диагонали поперек кровати. На его левом виске был нанесен сокрушительный удар, хотя кожа не была повреждена. Кровь сочилась на постельное белье из ряда ран около его сердца. Тело уже остывало. Железный сундук и его содержимое остались нетронутыми. Никакие другие ценности не были потревожены.
Я впервые прочитал об убийстве в Салеме много лет назад в книжном магазине Гринвич-Виллидж. Я нырнул внутрь, чтобы избежать внезапного ливня, и, осматривая пыльные полки, я обнаружил потрепанную антологию известных преступлений без обложек, составленную в 1910 году капитаном полиции Сан-Франциско Томасом Дьюком.
Capt.Джозеф Уайт на портрете, написанном за много лет до того, как его избил Ричард Крауниншилд. Музей Пибоди Эссекс, Салем Массачусетс, # 2987 Перерыв в расследовании наступил, когда мелкий вор дал показания, что он слышал, как братья Крауниншилд готовили преступление в игорном доме. Крис Беатрис Дом Гарднер-Пингри был местом преступления и был восстановлен в своем великолепии 1814 года.Крис Беатрис Вдохновленный судом, Эдгар Аллан По (1848) включил темы убийства и вины в свои художественные произведения. Коллекция Грейнджер, Нью-Йорк Писатель Натаниэль Хоторн нашел вдохновение в убийстве Уайта, написав The Scarlet Letter два десятилетия спустя.Коллекция Грейнджер, Нью-Йорк Ричард Крауниншилд думал, что избежит виселицы — и вполне мог бы, — если бы Джо Кнапп не признался преподобному Колману в своей роли в заговоре. Крис Беатрис Набросок могилы Фрэнка Кнаппа взят из книги 1830 года, в которой рассказывается об убийстве и суде.Кнаппа повесили на глазах у многотысячной толпы в Салемской тюрьме. Испытания капитана Джозефа Дж. Кнаппа-младшего и Джорджа Крауниншилда, эсквайра. за убийство капитана Джозефа Уайта , опубликовано Чарльзом Эллемсом, 1830, Бостон Неустанный взгляд и властное присутствие прокурора Дэниела Вебстера снискали ему прозвище «Черный Дэн».» Художественный музей Гуда, Дартмутская коллегия (Ганновер, Нью-Хэмпшир), подарок доктора Джорджа С. Шаттака, класс 1803 г.Глава о жестоком убийстве капитана Уайта, напоминающая о мистических сказках золотого века конца 19 века, сразу же приковала меня к себе. Знаменитый адвокат и конгрессмен Дэниел Вебстер выступил обвинителем на последующем судебном процессе. Его подведение итогов перед жюри — его неумолимая ритмичность, медленный сбор ужасающих атмосферных деталей — тронуло мою память, напомнив мне ужасные сказки Эдгара Аллана По.Фактически, после разговора с учеными По я узнал, что многие из них согласились, что знаменитая речь, вероятно, послужила источником вдохновения для рассказа По «Сердце-обличитель», в котором рассказчик хвастается убийством пожилого человека. Более того, я обнаружил, что дело об убийстве даже вошло в некоторые работы Натаниэля Хоторна, с его темами испорченных семейных состояний, обильного чувства вины и последующего возмездия.
Одни только эти факты оказались непреодолимым магнитом для такого историка-криминалиста, как я.Но обстановка — мрачный, спокойный Салем, где в 1690-х годах девятнадцать мужчин и женщин были осуждены за колдовство и повешены — придала делу об убийстве еще один пласт готической интриги. Это почти наверняка подпитывало широко распространенное (и, по общему признанию, мрачное) восхищение смертью капитана дальнего плавания среди американской публики в то время. Город, согласно редакционной статье 1830 года в номере Rhode Island American , был «навсегда … запятнан кровью, кровью, кровью».
Вскоре после обнаружения тела Стивен Уайт — племянник убитого и член законодательного собрания Массачусетса — послал за Сэмюэлем Джонсоном, известным салемским врачом, и Уильямом Уордом, клерком и помощником капитана Уайта.Уорд заметил доску у открытого окна и рядом с ней обнаружил два грязных следа, которые, по его мнению, были оставлены злоумышленником. За несколько десятилетий до того, как следы стали общепризнанным доказательством, Уорд осторожно накрыл их молочным поддоном, чтобы защитить их от мелкого тумана, который начал падать. Между тем беглый осмотр доктора Джонсона показал, что тело было не совсем холодным; он пришел к выводу, что смерть наступила за три-четыре часа до этого.
Затем доктор Джонсон провел вскрытие перед «коронерским жюри», состоящим из местных жителей, роль которого заключалась в оценке исходных фактов и определении того, имело ли место преступление.В присутствии присяжных Джонсон внимательно осмотрел труп, снял рубашку и вставил зонды в некоторые колотые раны, чтобы определить их глубину и направление. Он насчитал 13 колотых ран: «пять уколов в область сердца, три перед левой папкой [соском] и пять других, еще дальше назад, как если бы рука была поднята вверх, а инструмент ударил снизу». Он приписал все ножевые ранения одному и тому же оружию, что наводило на мысль, что убийца был единственным убийцей.Хотя раны сочились, не было никаких признаков брызг или брызг крови. Джонсон интерпретировал это так, что первым был нанесен удар по голове, который либо убил Уайта, либо оглушил его, тем самым замедлив его кровообращение. Не зная, какая из многих ран была смертельной, Джонсон полагал, что необходимо более полное вскрытие.
Это было совершено 8 апреля в 5:30 вечера. Доктор Абель Пирсон, коллега-медик, помогал Джонсону. Второе вскрытие, столь же тщательное, как это, было необычным для уголовных расследований начала XIX века.В 1830 году судебная медицина все еще оставалась в основном примечанием в юридических и медицинских текстах. Но благодаря все более тщательным анатомическим исследованиям в медицинских школах был достигнут прогресс в выявлении орудий убийства на основе характера ран и определении наиболее вероятной причины смерти.
Хирурги согласились, что перелом черепа произошел в результате одного сильного удара тростью или дубинкой и что по крайней мере некоторые из ран на груди были нанесены кинжалом (коротким кинжалом), перекладина которого попала в ребра. с достаточной силой, чтобы сломать их.Пирсон не согласился с первоначальной оценкой Джонсона, согласно которой нападавший, вероятно, был только один. Медицинский консенсус был недостижим отчасти из-за 36-часового интервала между дознанием и вторым вскрытием, что позволило внести обширные посмертные изменения, повлиявшие на внешний вид ран, как и первоначальное введение зонда Джонсоном.
Стивен Уайт разрешил изданию Salem Gazette опубликовать результаты вскрытия. «Каким бы отвратительным ни был этот предмет, — писала газета, — мы считаем своим долгом представить нашим читателям каждую частичку достоверной информации, которую мы можем получить, в отношении ужасного преступления, которое так потрясло и встревожило наше сообщество.”
Вероятность того, что могло быть замешано более одного нападавшего и что может начаться заговор, вызвала беспокойство. Жители Салема вооружились ножами, саблями, пистолетами и сторожевыми собаками, и повсюду раздался звук ударов новых замков и засовов. Давние друзья стали настороженно относиться друг к другу. Согласно одному сообщению, зять Стивена Уайта, обнаружив, что Стивен унаследовал большую часть состояния капитана, «схватил Уайта за шиворот, сильно встряхнул его в присутствии родственников» и обвинил его в убийстве.
Городские отцы попытались уладить ситуацию, организовав добровольную вахту и назначив Комитет бдительности из 27 человек. Несмотря на то, что они не были обременены каким-либо опытом проведения уголовных расследований, их членам было дано право «обыскивать любой дом и допросить каждого человека». Члены принесли клятву хранить тайну и предложили награду в размере 1000 долларов за информацию, «касающуюся убийства».
Но расследование ни к чему не привело; комитет столкнулся со сценарием слишком большого количества подозреваемых и слишком мало доказательств.Никто не делал гипсовых слепков с компрометирующих следов ног, которые Уорд тщательно замазал утром в день убийства. (К 1830 году ученые и скульпторы использовали гипсовые слепки для сохранения окаменелостей, изучения анатомии человека и воссоздания знаменитых скульптур, но эта техника еще не использовалась в уголовных расследованиях.)
Поскольку ничего не было украдено, мотив нападавшего озадачил как горожан, так и власти. Но о мести не могло быть и речи. Как известно многим в Салеме, Джозеф Уайт вряд ли был «всеми уважаемым и любимым» стариком, о котором говорила местная газета.Немного домашний тиран, он был склонен менять свою волю по прихоти и использовать свое большое состояние в качестве оружия для выполнения своих желаний. Когда его симпатичная молодая внучатая племянница Мэри объявила о своей помолвке с Джо Кнаппом, старик объявил Джо охотником за состояниями, а когда брак продолжился без его согласия, Уайт лишил Мэри наследства и уволил Кнаппа.
Более того, Уайт был работорговцем. Владение рабами было отменено в Массачусетсе в 1783 году, а работорговля объявлена вне закона пятью годами позже.Тем не менее в 1788 году Уайт хвастался салемскому министру Уильяму Бентли, что у него «нет никакого сопротивления продавать какую-либо часть человеческого рода». (По оценке Бентли, это «обнаруживает признаки величайшего нравственного разврата».) В запятнанном водой письме, написанном в 1789 году, которое я нашел глубоко в архивах музея Пибоди Эссекс в Салеме, моряк по имени Уильям Фэйрфилд, служивший на шхуне Felicity , рассказал своей матери о восстании рабов, в результате которого погиб капитан корабля. Джозеф Уайт был одним из владельцев Felicity .
Некоторые из кораблей Уайта вели законную торговлю, перевозя все, от трески до обуви. Но многие прибыли из Салема, нагруженные инструментами и безделушками, чтобы их обменяли в Африке на человеческий груз. Закованные в наручники и зажатые в ужасных трюмах, многие из пленников не пережили плавание. Тех, кто это делал, продавали в Карибском бассейне на золото — достаточно, чтобы купить недвижимость, построить особняк и наполнить железный сундук.
«Многие морские семьи в Салеме так или иначе поддерживали систему рабства», — говорит Салемский историк Джим Макаллистер.Так они сколотили свое состояние и оплатили учебу своих сыновей в Гарварде. В салемском обществе существовало понимание, что об этом постыдном деле лучше не говорить, особенно в Массачусетсе, где резко возросли антирабовладельческие настроения. «Некоторые из наших купцов, как и другие в разных морских портах, по-прежнему любили деньги больше, чем гораздо большие богатства чистой совести, больше, чем соответствие требованиям прав человека, законам страны и религии своего Бога, Министр из Салема Джозеф Б.Войлок писал в 1791 году.
Спустя чуть больше недели после убийства Стивен Уайт получил письмо от тюремщика в 70 милях от Нью-Бедфорда. В письме говорилось, что заключенный по имени Хэтч, мелкий вор, утверждал, что у него есть важная информация. Посещая игорные заведения в феврале, Хэтч услышал, как два брата, Ричард и Джордж Крауниншилды, обсуждали свое намерение украсть железный сундук Джозефа Уайта. Братья Крауниншилд были отпрысками известной семьи Салем.Ричард, согласно протоколам судебных заседаний, был известен тем, что одобрял «пристанище порока» Салема. Городской комитет бдительности привел Хэтча в цепях для дачи показаний перед большим жюри Салема. 5 мая 1830 года присяжные предъявили обвинение Ричарду Крауниншилду в убийстве. Его брат Джордж и двое других мужчин, которые были в его компании в игорном доме, были обвинены в пособничестве преступлению. Все они содержались в Салемской тюрьме, мрачном здании из гранитных блоков, окон с железными решетками и камер с кирпичными стенами.
Затем, 14 мая, Джозеф Кнапп-старший., отец человека, женившегося на лишенной наследства внучатой племяннице Уайта, получил письмо из Белфаста, штат Мэн. Он потребовал «ссуду» в размере 350 долларов и пригрозил разоблачением и разорением, если она не будет своевременно выплачена. Он был подписан «Чарльз Грант».
Старший Кнапп ничего не понял и попросил совета у сына. «Это дьявольский мусор», — сказал Джо Кнапп-младший своему отцу и посоветовал передать его комитету.
Комитет бдительности набросился на письмо.Он отправил 50 долларов Анонимно Гранту в его местное почтовое отделение с обещанием получить еще больше, и был отправлен человек, чтобы задержать того, кто заберет деньги. Получателем оказался Джон К.Р. Палмер. Арестованный как возможный соучастник убийства, но пообещавший иммунитет за свои показания, он рассказал сложную историю: во время пребывания в доме семьи Крауниншилд Палмер услышал, как Джордж сказал Ричарду, что Джон Фрэнсис («Фрэнк») Кнапп, сын Джозеф Кнапп-старший хотел, чтобы они убили капитана Уайта — и этого Джо-младшего.Брат Фрэнка заплатит им 1000 долларов за преступление. Комитет бдительности немедленно арестовал братьев Кнапп и отправил их в Салемскую тюрьму, их камеры недалеко от тех, что были заняты Кроуниншилдами.
Сначала Ричард Крауниншилд излучал чувство справедливости, будучи уверенным, что его сочтут невиновным. Во время заключения он просил книги по математике и речи Цицерона и проявлял безразличие — до конца мая, когда Джо Кнапп признался в своей роли в заговоре с целью убийства.
Признание было дано преподобному Генри Колману, близкому другу семьи Уайтов. Колман также имел тесные связи с Комитетом бдительности и в этой роли пообещал Джо иммунитет от судебного преследования в обмен на его показания.
Признание на девяти страницах, написанное почерком Колмана, но подписанное Кнаппом, начиналось так: «В феврале прошлого года я упомянул своему брату Джону Фрэнсису Кнаппу, что не буду завидовать тысячей долларов, чем этот старый джентльмен, имея в виду капитан.Джозеф Уайт из Салема был мертв ». Далее объяснялось, что Джо Кнапп считал, что если капитан Уайт умрет без законного завещания, его состояние будет разделено между его близкими родственниками, что принесет Мэри Бекфорд, свекрови Кнаппа, значительное состояние.
С этой целью Джо открыл железный сундук капитана Уайта за четыре дня до убийства и украл то, что он ошибочно считал законным завещанием старика. Истинная последняя воля Джозефа Уайта в пользу его племянника Стивена была в безопасности в офисе адвоката покойного.Но Джо этого не знал. Он спрятал документ в коробку, которую накрыл сеном, и сжег украденную бумагу на следующий день после убийства.
Джо и Фрэнк спорили, как совершить убийство. Они думали устроить засаду на Уайта на дороге или напасть на него в его доме. Фрэнк, однако, сказал Джо, что «у него не хватило смелости сделать это», и предложил нанять Ричарда и Джорджа Крауниншилдов, которых братья Кнапп знали с подросткового возраста.
После нескольких встреч Кнаппы и Кроуниншилды собрались на Салемском Коммон в 8 p.м. 2 апреля доработать план. Ричард, по признанию Джо, вдумчиво продемонстрировал «инструменты», которые планировал использовать для проекта. Используя свои навыки машиниста, он сам изготовил одно из орудий убийства — дубинку. Он был «длиной два фута, выточен из твердого дерева … и украшен … бусами на конце, чтобы не соскользнуть … Кинжал имел длину около пяти дюймов на лезвии … острые с обеих сторон. и сужается к точке ».
В тот же вечер, украв то, что он считал завещанием, Джо Кнапп «открыл решетку и отвинтил» окно в доме капитана Уайта.Четыре дня спустя, в 10 часов вечера, Ричард Крауниншилд вошел во двор через садовую калитку и пролез через незапертое окно, чтобы убить Уайта.
Подробное признание указывало на Ричарда Крауниншилда как на главного исполнителя преступления: его обязательно повесят. Но Ричард узнал от адвоката защиты Франклина Декстера, что закон Массачусетса не разрешает суд над соучастником преступления, если его не судили и не осудили. Ричард, должно быть, нашел способ проявить свою изобретательность в последний раз и, возможно, спасти своего брата и друзей.15 июня, в 2 часа дня, тюремщик обнаружил тело Ричарда, висящее на шее на двух шелковых носовых платках, привязанных к решетке окна его камеры.
Казалось, Содружество Массачусетса было обмануто открытым и закрытым делом, если только штат не сможет найти законное основание для предания трех других мужчин суду. Репортеры газет приехали в Салем даже из Нью-Йорка — якобы с благородной целью добиться справедливости. По словам журналиста-новатора Джеймса Гордона Беннета, в то время корреспондента New York Courier : «Пресса — это живое жюри нации!»
Обвинение по делу Уайта оказалось в затруднительном положении.Мало того, что у директора не было предварительного осуждения (из-за самоубийства Ричарда Крауниншилда), но и Джо Кнапп отказывался давать показания и поддерживать свое признание. Таким образом, обвинение обратилось к сенатору Дэниелу Вебстеру из Бостона, юристу из Нью-Гэмпшира, законодателю и будущему госсекретарю, которого, возможно, больше всего помнят за его усилия по достижению компромиссов между северными и южными штатами, которые, по его мнению, предотвратят гражданскую войну.
Вебстер, которому тогда 48 лет, несколько раз проработал в Палате представителей, прежде чем был избран в США.С. Сенат в 1827 году. Он был близким другом таких знатных людей Салема, как Стивен Уайт и судья Верховного суда Джозеф Стори. Власть Вебстера, его драматическая темная окраска и безжалостный взгляд снискали ему прозвище «Черный Дэн». В зале суда он был известен своей жестокостью при перекрестном допросе и приковыванием итогов — «бессмертный Дэниел», как его называли в New Hampshire Patriot и States Gazette .
Когда Стивен Уайт попросил помочь прокурорам в деле об убийстве, Вебстер был разорван.На протяжении своей долгой юридической карьеры он всегда стоял на стороне защиты. Значительная часть его репутации основывалась на его страстном красноречии от имени обвиняемых. Кроме того, его личные связи с друзьями и родственниками жертвы поднимали деликатные вопросы правовой этики.
С другой стороны, если бы он поддержал своих друзей, однажды их услуга была бы отплачена. Затем был щедрый гонорар в размере 1000 долларов, который Стивен Уайт незаметно устроил за свои услуги. Вебстер, сильно пьющий, имевший склонность тратить сверх средств и хронически находившийся в долгах, согласился «помочь» обвинению — что, конечно, означало, что он возглавит его.
Обвиняемые предпочли предстать перед судом отдельно, и первым, кто предстал перед судом в августе 1830 года, был Фрэнк Кнапп. Интерес резко возрос. Беннетт сообщил, что толпы, пытающиеся войти в зал суда, чтобы увидеть Вебстера, были «подобны приливу, набегающему на скалы». После смерти Ричарда Крауниншилда — «Нет спасения от признания, кроме самоубийства, а самоубийство — это признание», — сказал Вебстер, — намерение Вебстера состояло в том, чтобы сделать Фрэнка Кнаппа главным, а не соучастником. Несколько свидетелей заявили, что они видели человека в «камлетном плаще» и «глазурованной кепке», которые Фрэнк часто носил поздно вечером в ночь убийства на Браун-стрит, за домом Уайт.Вебстер утверждал, что Фрэнк был здесь, чтобы оказать непосредственную помощь убийце, и поэтому был главным актером. Защита оспаривала опознание свидетелей и высмеивала, что простое присутствие Фрэнка на Браун-стрит могло оказать жизненно важную помощь. Присяжные заседали 25 часов, прежде чем объявить, что зашли в тупик. Судья объявил неправильное судебное разбирательство. Через два дня было запланировано повторное рассмотрение дела.
Второй судебный процесс выдвинул на первый план дебаты по поводу судебно-медицинских доказательств. В первом испытании только Dr.Джонсон дал показания. Но на этот раз обвинение включило официальные показания доктора Пирсона. Его особое мнение о вскрытии — о том, что нападавших могли быть двое — было широко прочитано в Salem Gazette . Теперь Пирсона использовали в качестве свидетеля-эксперта в очевидной попытке поставить под сомнение теорию о том, что Ричард Крауниншилд действовал в одиночку при смертельном нападении на Джозефа Уайта. Вебстер предположил, что Кнапп мог нанести «последний удар»; или что другие раны были нанесены «по причине распутства».Адвокат Кнаппа высмеял этот аргумент, задавшись вопросом вслух, почему Кнапп вернулся в дом, чтобы нанести удар мертвому телу: «Как и другой Фальстаф, он завидовал преступнику славе своего деяния и намеревался признать это своим собственным?»
В промежутке между двумя судебными процессами новое жюри присяжных ознакомилось с газетными отчетами о первом слушании, а также подверглось резкой критике в адрес предыдущего жюри за то, что оно не вынесло приговора. Ободренные таким образом, второе жюри присяжных внимательно слушало, как Вебстер очаровал зал суда драматическим воссозданием преступления: «Здоровый старик, для которого сон был сладким, первые звуки ночного сна заключили его в свои мягкие, но крепкие объятия. .Убийца входит через уже подготовленное окно. . . Бесшумной ногой он ходит по уединенному холлу, полуосвещенному луной; он поднимается по лестнице и достигает двери комнаты. При этом он перемещает замок мягким и постоянным давлением, пока он не повернется на петлях без шума; и он входит и видит свою жертву перед собою … »
Подведение итогов Вебстера позже было признано шедевром ораторского искусства. «Ужасная сила речи и ее главный интерес заключаются в извилистой цепи улик, звено за звеном, катушка за катушкой, вокруг убийцы и его сообщников», — писал британский литературный критик Джон Никол.«Кажется, слышно, как кости жертвы трескаются от удушья». Сэмюэл МакКолл, видный юрист и государственный деятель, назвал выступление «величайшим аргументом, когда-либо обращенным к присяжным».
Спустя всего пять часов обсуждения присяжные приняли утверждение Вебстера о том, что Фрэнк Кнапп был главным виновником преступления, и признали его виновным в убийстве.
«Город теперь становится более спокойным, чем это было после убийства мистера Уайта, — написал Натаниэль Хоторн в письме кузену, — но я полагаю, что волнение возродится после казни Фрэнка Кнаппа.”
Хоторн, 26-летний писатель, все еще борющийся с трудностями, живущий в доме своей матери в Салеме, был увлечен этим делом. Сын и внук уважаемых морских капитанов, он также был потомком Джона Хаторна, одного из печально известных повешенных судей на судебных процессах над колдовством. Семейные связи очаровывали и отталкивали будущего писателя и, без сомнения, повлияли на его пожизненный интерес к преступлениям и унаследованной вине. Во время судебного разбирательства по делу Нэппа Хоторн писал рассказы для местных газет, в том числе Salem Gazette , в которых эта история усердно освещалась.Некоторые ученые предположили, что Хоторн написал несколько неподписанных газетных статей об убийстве, хотя веских доказательств в поддержку этого нет.
В письмах Хоторн описал «всеобщее предубеждение» города против семьи Кнапп и выразил свою двойственную позицию по поводу вердикта присяжных: «Со своей стороны, я хочу, чтобы Джо был наказан, но мне не следует сильно сожалеть, если Фрэнк сбежит. . »
28 сентября 1830 года на глазах у многотысячной толпы Фрэнк Кнапп был повешен перед Салемской тюрьмой.Его брата Джозефа, осужденного в ноябре, постигла та же участь три месяца спустя. Джордж Крауниншилд, оставшийся заговорщик, провел ночь убийства с двумя вечерними дамами, которые предоставили ему алиби. После двух судебных процессов он был оправдан теперь уже исчерпанным судом. Двое мужчин, которые находились в компании Джорджа в игорном доме, были освобождены без суда.
К 9 сентября 1831 года Хоторн писал своему кузену, что «разговоры об убийстве капитана Уайта почти полностью прекратились.Но отголоски судебного процесса будут слышны в американской литературе.
Два десятилетия спустя Хоторн нашел вдохновение в убийстве Уайта в написании Алого письма (1850). Маргарет Мур — бывший секретарь Общества Натаниэля Хоторна и автор книги Салемский мир Натаниэля Хоторна — утверждает, что размышления Вебстера о неконтролируемом желании признаться повлияли на то, как Хоторн изобразил преподобного Артура Диммесдейла в «Письмо Скарлет».Диммсдейл мучает тайна любовника Эстер Принн — и, когда Хоторн слышит последнюю проповедь Диммесдейла, Хоторн пишет, что она смогла обнаружить «жалобу человеческого сердца, скорбного, возможно виновного, раскрывающего свою тайну, будь то вина. или печаль — к великому сердцу человечества; умоляя его сочувствия или прощения — в каждый момент — в каждом акценте … »
Покойный литературовед из Гарвардского университета Фрэнсис Отто Маттиссен утверждал, что отголоски убийства Уайта и выводы Вебстера также нашли свое отражение в The House of Seven Gables (1851).Вступительная глава задает готический тон, описывая отвратительную историю семьи Пинчхон — убийство за 30 лет до этого семейного патриарха, «старого холостяка, обладавшего не только домом и недвижимостью, но и большим богатством». Позже в романе Хоторн посвящает 15 страниц безымянному рассказчику, который описывает труп деспотичного судьи Пинчона и насмехается над ним. Маттиссен особенно видел влияние Вебстера в том, как Хоторн использовал образы лунного света: «Обратите внимание на этот серебристый танец на верхних ветвях грушевого дерева, то немного ниже, то теперь на всей массе ветвей, в то время как через их смещение. хитрости, лунные лучи косо падают в комнату.Они обыгрывают фигуру судьи и показывают, что он не шевелился в темное время суток. Они следуют за тенями в изменчивом спорте по его неизменным чертам лица ».
Убийство Уайта также наложило отпечаток на Эдгара Аллана По, который на момент совершения преступления был готов поступить в Военную академию США в Вест-Пойнте (которую он покинул через год, умышленно попав под военный трибунал за неповиновение). Никто не знает, следил ли По за процессом, когда он произошел, но к 1843 году, когда он опубликовал «Сердце-обличитель», он ясно прочитал об этом.Ученый Т. О. Мабботт писал, что По критически опирался на выводы Вебстера при написании рассказа. На суде Вебстер говорил о «самообладании» и «крайнем хладнокровии» убийцы. Преступник, добавил он, в конечном итоге был вынужден признаться, потому что считал, что «весь мир» увидел преступление в его лице, и роковая тайна «раскрылась». Точно так же вымышленный убийца По хвастается тем, «как мудро и с какой осторожностью» он убил старика в своей спальне. Но идеальное преступление раскрывается, когда убийца По — убежденный в том, что следователи полиции знают его секрет и издеваются над ним, — заявляет: «Я чувствовал, что должен кричать или умереть!»…Я признаю поступок! »
Завораживающее резюме, произнесенное Дэниелом Вебстером на суде, было напечатано как часть антологии выступлений позже в том же году и продано восхищенной публике. Но политические амбиции Черного Дэна резко ухудшились в 1850 году, когда, вопреки многолетнему сопротивлению рабству, он произнес страстную речь в защиту нового Закона о беглых рабах, который требовал от северных штатов помощи в возвращении беглых рабов в свои южные. мастера. Законодательство было частью компромисса, который позволил бы Калифорнии быть принятой в Союз как «свободный штат».Но аболиционисты восприняли эту речь как предательство и посчитали, что это попытка Вебстера выслужиться перед Югом в его заявке на пост кандидата в президенты от партии вигов в 1852 году, и он проиграл эту кандидатуру. Вскоре после этого Вебстер скончался от травмы в результате автомобильной аварии. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, осложнившееся циррозом печени.
Со своей стороны, Салем станет важным центром антирабовладельческой активности.До того, как Фредерик Дуглас стал национальной фигурой в 1840-х годах, уроженец Салема Чарльз Ленокс Ремонд был самым известным афроамериканским аболиционистом в Соединенных Штатах и Европе. Его сестра, Сара Паркер Ремонд, также читала лекции за границей и часто делила трибуну со Сьюзен Б. Энтони на антирабовладельческих конвенциях.
салемиты приложат все усилия, чтобы оставить убийство белых позади. Даже спустя столетие после суда город не хотел говорить об этом. Кэролайн Ховард Кинг, чьи мемуары Когда я жил в Салеме появились в 1937 году, уничтожила главу о преступлении перед публикацией, посчитав ее «нескромной.В 1956 году, когда Ховард Брэдли и Джеймс Винанс опубликовали книгу о роли Вебстера в судебном процессе, они сначала столкнулись с сопротивлением при проведении своих исследований. «Некоторые люди в Салеме предпочли скрыть все упоминания об этом деле, — писали Брэдли и Винанс, — и все еще были люди, которые с тревогой смотрели на запросы об убийстве».
Сегодня суды над салемскими ведьмами являются движущей силой туристической торговли города. Но каждый октябрь вы можете отправиться в тур историка Джима Макалистера «Тропа ужаса» при свечах, который включает в себя остановку на месте преступления, ныне известном как Дом Гарднера-Пингри.Вы также можете совершить поездку внутри дома — национального исторического памятника, принадлежащего музею Пибоди Эссекс, — который был восстановлен до состояния 1814 года. В музее есть сделанная на заказ дубинка, которая служила орудием убийства, но не экспонируется.
Мне разрешили осмотреть его, стоя в огромном складском помещении в паре ярко-синих смотровых перчаток. Клюшка изящно оформлена и легко ложится в руку. Я не мог не восхищаться мастерством Ричарда Крауниншилда.
Криминалист E.J. Вагнер является автором книги The Science of Sherlock Holmes . Крис Беатрис — иллюстратор книг и журналов, живущий в Массачусетсе.
Американские писатели ПреступлениеРекомендованные видео
«Доктор», сэр Люк Филдс, выставка 1891 г.
В 1890 году сэр Генри Тейт (1819–1898) заказал у Люка Филдса картину, предмет которой был оставлен на его усмотрение.Художник решил вспомнить собственную трагедию, когда в 1877 году его первый сын Филипп умер в возрасте одного года в своем доме в Кенсингтоне. Сын и биограф Файлдса писал: «Характер и поведение врача во время их беспокойства произвели глубокое впечатление на моих родителей. Доктор Мюррей стал символом профессиональной преданности, который однажды вдохновил его на картину «Доктор» (Файлдс, стр. 46). Файлдс изобрел новую обстановку и персонажей для своей картины, а в 1890 году он сделал несколько эскизов рыбацкого коттеджа в бухте Хоуп в Девоне.Он использовал это визуальное свидетельство, чтобы построить точную копию коттеджа в углу своей студии на Мелбери-роуд, чтобы он мог экспериментировать с эффектами света лампы, пока рассвет пробивался в темный интерьер. Доктор чем-то похож на самого Филдеса. Однако он, возможно, использовал более одной модели для этой цифры, его стремление состояло в том, чтобы «зафиксировать статус врача нашего времени», а не зафиксировать сходство с каким-либо одним человеком ( The Times 17 марта 1891 г.) . Ребенок был нарисован по этюдам головы его дочери Филлис и руки его сына Джеффри (Treuherz, p.89). Файлдс сделал ряд эскизов к картине, шесть из которых сохранились в архиве Тейт. Один набросок, хотя и наскоро нарисованный, показывает, что первоначальным намерением художника было разместить доктора справа от наблюдающего за мальчиком, сидящего в кресле, а не разложенного на двух кухонных стульях. На заднем плане положение мужа и жены также перевернуто, хотя их физические жесты такие же, как на готовой картине. Самая подробная часть этого наброска — серьезное выражение лица доктора, которое является центром внимания в окончательной версии.Это исследование похоже на меньшее масляное исследование картины в больнице Роберта Пакера в Сейре, штат Пенсильвания.
Филдес написал Тейту позже в 1890 году, чтобы убедить его в предмете картины и, добавил он, «все другие вопросы, касающиеся [] живописного мастерства, поведения в обращении, должны быть оставлены без предвзятого отношения к этому эскизу, который был сделано неясно, намеренно, чтобы дать мне как можно больше свободы в аранжировке художника и обработке очень большой картины — но в предмете нет никакой неопределенности, что вы можете видеть достаточно ясно и что я понимаю, это то, что вы в первую очередь хотите быть довольным… ’(TGA 7811.2.25). Две недели спустя в письме к своему зятю, художнику Генри Вудсу (1846-1921), Филдс описал реакцию Тейта на эскиз: «Мне кажется, он был доволен идеей, и когда я сказал ему, что мне нужно потребовать 3000 фунтов стерлингов, он согласился, и об этом были переданы письма »(цитируется по Fildes, с.118).
В окончательной версии Доктор Филдес рисует маленького ребенка в деревенском интерьере, лежащего на двух стульях, его бледное лицо освещается стеклянной лампой на столе.Врач, одетый в сшитый по индивидуальному заказу костюм, сидит у импровизированной кровати и с тревогой смотрит на своего пациента. Отец мальчика, стоящий на заднем плане, положив руку на плечо своей жены, сложившей руки, как будто в молитве, смотрит в серьезное лицо доктора. Их скромный образ жизни очевиден по оловянной посуде, остаткам ковра на каменном полу и их рваной одежде. О степени болезни юноши можно судить по полупустой бутылке с лекарствами на столе, а также по чаше и кувшину, которые использовались для снижения температуры мальчика, на скамейке.Клочки бумаги на полу могли быть рецептами, выписанными доктором на лекарства, которые уже были приняты. Филдс описал луч дневного света как знак скорого выздоровления ребенка. Он писал: «За окном коттеджа начинает красться рассвет — рассвет, который является критическим временем для всех смертельных болезней, — и вместе с ним родители снова вселяют надежду в свои сердца, а мать, пряча лицо, чтобы спастись, давая ей выход. эмоции, отец кладет руку на плечо своей жены, ободряя первых проблесков радости, которая должна последовать » (Саймон Уилсон, Галерея Тейт: Иллюстрированный компаньон, Лондон 1997, стр.90).
Через год после заказа Тейта, Доктор был выставлен в Королевской академии. Agnews немедленно опубликовал один из них, который был продан тиражом более одного миллиона экземпляров только в Соединенных Штатах и стал одним из самых прибыльных, выпущенных фирмой. Популярность картины подтверждает ее популярность в искусстве того времени, и Филдес был одним из многих художников, в том числе Фрэнка Холля (1845-88) и Хуберта фон Херкомера (1849-1914), чьи картины о тяготах работы классовая жизнь широко воспроизводилась в журнале The Graphic . «Доктор» был одной из пятидесяти семи картин, предложенных Генри Тейтом в качестве подарка нации в 1897 году.
Дополнительная литература:
Л. В. Филдс, Люк Филдс Р. А., Викторианский художник, Лондон: 1968, воспроизведено с.114
Алиса А. Мейер, «Доктор», Бюллетень Гатри, 43: 4, апрель 1974 г., стр. 155–169, воспроизведено на стр. 161.
Альберт Ринслер, «Доктор», Journal of Medical Biography 1993: 1, pp.165-70, воспроизведено с.166
Julian Treuherz, Hard Times: Social Realism in Victorian Art, каталог выставки , Лондон 1987, стр.86-9, воспроизведено стр.88
Хизер Бирчелл
сентябрь 2003
Содержит ли этот текст неточную информацию или формулировки, которые, по вашему мнению, следует улучшить или изменить? Мы бы хотели получить от Вас отзывы.
Слуг в Регентской Англии
Отрывок Донны Хэтч, автора романа эпохи РегентстваДоступно на Amazon
МиссисХэнкок просиял, когда Алисия подошла к ней, обняла Алисию и ввела ее в их круг. «Мисс Алисия Палмер, позвольте мне представить лорда Эймсбери».
Еще более ужасно, что вблизи лорд Эймсбери повернулся к ней. Его пронзительные голубые глаза угрожали ее коленям. Хотя Алисия была выше большинства женщин, ей все же приходилось поднимать глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Никакого другого цвета в этих глазах не было; Никакого зеленого или серого, только глубокого, темно-синего, как бездонная глубина океана.
Все остальные мужчины, с которыми она встречалась в последнее время, а именно те, которых ее дядя настаивал на том, чтобы она считала мужем, внимательно следили за ее фигурой.Но этот джентльмен только смотрел ей в глаза. Очень глубоко.
Лорд Эймсбери склонил голову. «Мисс Палмер». Его звучный басовый голос тронул ее душу.
Алисия встретилась с его откровенным взглядом, и ощущение, которое она не совсем понимала, закрутилось в ней, пока дыхание не превратилось в сознательное усилие. Миссис Хэнкок осторожно закашлялась, и Алисия поняла, что смотрела в глаза виконту гораздо дольше, чем положено.
Не в силах отвести взгляд, Алисия сделала реверанс.»Мой господин.»
Больше не просто вежливость, его улыбка стала шире, теплее, превращая уже красивое лицо в совершенно потрясающее лицо. От него исходила чувственность, но не так, что она чувствовала угрозу, а так, что у нее перехватывало дыхание. Более того, она не знала. Но она хотела узнать.
— Мисс Палмер, — сказал лорд Эймсбери, — можно мне следующий танец?
Алисия моргнула. Она оглянулась на Элизабет, которая ободряюще улыбнулась.Миссис Хэнкок также улыбнулась и кивнула, но легкое разочарование испортило ее одобрение, напомнив Алисии, дорогая леди надеялась, что ее собственная дочь привлечет внимание очень подходящего лорда Эймсбери. То, что он выделил Алисию, казалось мечтой.
Она подавила всякую надежду, что сможет удержать его интерес. Конечно, только вежливость побудила его сначала потанцевать с самой невзрачной девушкой. Вскоре он обратил внимание на красивых дам.
Обретя голос, Алисия ответила: «Я была бы счастлива, милорд.”
Когда закончились последние ноты текущего танца и начался следующий, лорд Эймсбери протянул руку. Она взяла его, и в животе у нее началась непривычная дрожь. Искусство танца, как она обнаружила в начале выступления, не покинуло ее так же окончательно, как ее остроумие. Красивый виконт танцевал с атлетической грацией, его внимание было сосредоточено на ней. Тепло его руки просачивалось сквозь их детские перчатки. Он держал ее нежно, крепко.
Игривый блеск коснулся его сапфировых глаз. «Я должен вас предупредить.Теперь, когда мы танцевали, моя тетя возьмет на себя смелость спросить ваше мнение обо мне. Она наверняка допросит меня насчет вас.
Она встретила эти пытливые глаза, и ее рот изогнулся. «Ой? Твоя тетя стала твоей самопровозглашенной свахой?
Кривая улыбка коснулась его губ. «Конечно. Мне тридцать, и я еще не замужем. Она считает своим долгом обеспечить, чтобы я произвел на свет наследника, пока я не стал слишком старым. Несмотря на мои попытки отсрочить выполнение этого обязательства, она упорствует ».
Алисия кивнула, ее улыбка стала шире от его нескромного заявления.«Это дилемма».
«Поскольку мы с вами только познакомились, будет сложно дать справедливую оценку вашему характеру. И если я скажу о тебе что-нибудь хорошее, она спланирует свадьбу. Его улыбка прояснилась, озарив его потрясающее лицо.
Алисия пропустила шаг. Даже когда она танцевала с очень красивым герцогом Суттенбергским два сезона назад, такое сильное влечение к мужчине никогда не преодолело ее, как сегодня. И все же ей было почти двадцать, ради всего святого, а не миссис школьница!
«Ваша тетя — сильная женщина и добрая женщина, милорд.Я уверен, что ты сможешь ее урезонить.
«Я полагаю, что глубоко внутри у нее доброе сердце, но будьте честны; она резкая и откровенная.
Она засмеялась и зажала рот ладонью. «Мой господин! Она может вас услышать.
Он усмехнулся. «Не бойся. Мы колем друг друга как можно чаще. Я говорю ей в лицо вещи похуже. Мне нравится смотреть, как она извивается и готовит контратаку.
