Блатные истории: Молодые и блатные. Как подростки-убийцы живут за решеткой
почему ее знают все • Расшифровка эпизода • Arzamas
Как в ХХ веке песни преступного мира стали важным пластом русской культуры
Автор Михаил Лурье
Блатную песню, понимаемую как аутентичный песенный фольклор криминальной или околокриминальной среды, а не как вообще любую песню на тему тюрем и преступлений, как правило, связывают с 20-ми годами ХХ века. И в этом, надо сказать, есть определенный резон, хотя воровские песни, естественно, существовали и до этого. Дело в том, что 1920-е годы не только ознаменовались катастрофическим уровнем преступности — они ознаменовались и колоссальным ростом, и, можно сказать, социальной экспансией криминальной среды. Одновременно с этим происходил небывалый расцвет культуры преступного сообщества — и институциональный, и фольклорный. В переполненных тюрьмах создавались театры и выпускались газеты, бесконечно писались стихи, статьи и сценки. Воровские песни возникали в огромном количестве, пополняя традицию, причем, конечно, лишь немногие реально удерживались в фольклорном бытовании.
Возникло ли оно в самой блатной среде или вне ее — не знаю. Да и не важно. В то же время, когда мы говорим о той самой блатной песне, об исконных аутентичных, так сказать, истых образцах жанра, о тех самых 1920-х годах, мы, как правило, держим в голове несколько хрестоматийных песен: «Мурка», «Гоп со смыком», «С одесского кичмана». Можно припомнить еще несколько, но едва ли в общей сложности наберется более десятка. Эти, так сказать, классические блатные песни дошли до нас благодаря эстрадным исполнениям того или иного времени, в основном — значительно более позднего. Это ни в коем случае не снижает их прелести и ценности, но по нескольким образцам было бы неправильно судить о том, что представляла собой традиция блатных песен в те самые 1920-е годы.
Описать ее в нескольких словах и в нескольких примерах невозможно. В преступном сообществе циркулировали десятки, а то и сотни песен. Некоторые из них были песнями-однодневками, другие держались дольше — обычная ситуация для живой фольклорной традиции.
В преступном сообществе циркулировали десятки, а то и сотни песен. Некоторые из них были песнями-однодневками, другие держались дольше — обычная ситуация для живой фольклорной традиции.
В этом массиве разнообразных текстов, лишь частично дошедшем до нас в записях тех лет, немного таких ярких шедевров, как «Гоп со смыком». Зато в нем можно разглядеть, например, некоторые лидирующие, типичные, воспроизводящиеся жанровые формы. Например, это песня «Криминальная биография»:
Все родные меня любили,
Баловались надо мной.
Учиться в школу отдавали,
Чтоб вышел мальчик неплохой.А как исполнилось двенадцать,
Я помню, помер мой отец,
Не стал я матери бояться,
И стал я уличный беглец.Водку пить, воровать научился,
Стал по тюрьмам жить.
Первый срок сидел недолго —Четыре месяца всего. Когда я вышел на свободу,
То не боялся никого.
Имел ключи, имел отмычки,
Имел я длинное перо.Не боялся ни с кем я стычки,
Убить, зарезать — хоть бы что.
А старший брат был легавый,
Хотел за мною подследить.А ну узнал, с кем я знакомый, —
Боялся близко подходить.
А как сравнилось двадцать первый,
Меня в солдаты забрали.Служба моя была тяжела —
Я выбрал дорожку и ушел.Приезжаю я в Одессу,
Кружок товарищей своих,Шинель казенную я продал,
Купил я рваный пинджачок.
Не стал зари я дожидаться
И в ширму сунул долото,В чужую хазу я забрался,
Нешумно выставил окно.
А фраер спал — и вдруг проснулся
И мигом запер ворота.Откуда взялись два мента?
Связали меня, молодца,
И за побег, за лом квартиры
Я на шесть лет в тюрьму попал.Звонит звонок от мирового,
А мировой судить не стал.
И он узнал, что я военный, —Отправил меня в трибунал. А в трибунале суд нелегкий —
Отправляют в Сахалин.
Прощай, прощай, моя Одесса,
Я уезжаю в Сахалин.
Другой, не менее распространенный класс песен — это блатные романсы. Они бывают как мужские, так и женские, а иногда — смешанные, в форме диалога или путаницы двух голосов.
Луной озарились зеркальные воды,
Где детки сидели вдвоем.
Так тихо и нежно забилось сердечко,
Ушла, не сказав ни о чем.Я вор-чародей из преступного мира,
Я вор, меня трудно любить.
Тюрьма нас разлучит — я буду в неволе
По тюрьмам скитаться и жить.Но только не надо, зачем притворяться,
Не надо напрасно мне врать.
Тогда лучше, детка, с тобой нам проститься,
Чем вместе безумно страдать.Я сяду — ты бросишь меня одиноко
И будешь другого любить,
А ласки, что будут далеки,
Я буду с тоской вспоминать.Я срок отсижу, меня вышлют далеко —
Уеду, быть может, навсегда.
Ты будешь счастливой и, может, богатой
И скоро забудешь меня.Я сразу поверил, но вдруг ошибился,
Что будет со мною тогда.
Как выйду на волю, вся жизнь моя разбита,
И, счастье, прощай навсегда.Но здесь, за решеткой, любви не бывает
В тюрьме, где преступный сидит.
А бедное сердце по воле страдает,
Тоскует, безумно грустит.Я пилку возьму и с товарищем верным
Решетку возьму пропилю.
Пусть светит луна своим светом неверным —
Она не мешает, уйду.Лишь только конвойный меня здесь заметит —
Тогда я навеки пропал.
Тревога и выстрел — и вниз головою
С верха сорвался, упал.И кровь побежит беспрерывной струею
Из ран, из груди, из спины.
Начальство опустит, склонив на колени.
О, как ненавижу я их.У Гааза в больнице на койке тюремной
Я буду один умирать,
Но ты не придешь, моя милая детка,
Не будешь меня целовать.Люби меня детка, пока я на воле,
Пока я на воле, я твой.
Тюрьма нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет другой.
В другом варианте в этой драматической строчке поется «Тобой завладеет кореш мой».
Откуда появлялись блатные песни, к тому же в таком количестве? Так же, как жестокие романсы не восходили к старому крестьянскому фольклору, а происходили из других источников, блатные песни никоим образом не наследовали старым разбойничьим песням. Среди них встречаются и оригинальные по тексту и мелодии, но их немного.
Чаще всего блатные песни создавались как переработки уже существующих современных песен. Как и обычно при подобных переделках, из песни-источника использовалась мелодия, отдельные строки, иногда сюжетная канва или общая тематическая рамка. Чаще всего новым вином блатной поэзии наполнялись старые меха все тех же жестоких романсов. В ход шли и военные песни, и собственно романсы, эстрадные песни и, в общем, все, что попадалось под руку. Одна из хрестоматийных блатных песен «С одесского кичмана сбежали два уркана», я уже ее упоминал, является не чем иным, как переработкой песни «Шли два героя с германского боя», варианты разного времени — с польского, с турецкого, с финского. Эта песня появилась, судя по всему, в Первую мировую, а восходит она, в свою очередь, к стихотворению Генриха Гейне в переводе Михаила Михайлова «Два гренадера». Солдатская песня-источник начинается так (один из вариантов, конечно):
Чаще всего новым вином блатной поэзии наполнялись старые меха все тех же жестоких романсов. В ход шли и военные песни, и собственно романсы, эстрадные песни и, в общем, все, что попадалось под руку. Одна из хрестоматийных блатных песен «С одесского кичмана сбежали два уркана», я уже ее упоминал, является не чем иным, как переработкой песни «Шли два героя с германского боя», варианты разного времени — с польского, с турецкого, с финского. Эта песня появилась, судя по всему, в Первую мировую, а восходит она, в свою очередь, к стихотворению Генриха Гейне в переводе Михаила Михайлова «Два гренадера». Солдатская песня-источник начинается так (один из вариантов, конечно):
Вот шли три героя с германского боя,
С германского боя домой.Только вступили на русскую землю –
Раздались три выстрела подряд.
Одна пролетела, втора засвистела,
И третья ранила меня.
Далее следует прощание умирающего с товарищем и горестные мысли об осиротевшей семье.
Блатная песня о двух урканах, сбежавших из тюрьмы (кичмана), имела счастливую судьбу. В 1928–1929 годах ее исполнял Леонид Утесов в спектакле ленинградского Театра сатиры «Республика на колесах». Там он играл Андрея Дудку — главаря шайки железнодорожных воров. Была она и в репертуаре его «Теа-джаза». А позже, в 1932 году, певец записал исполнение этой песни на грампластинку, как и другой блатной песни — легендарного «Гоп со смыком». Правда, вскоре появилось выражение «утесовщина», которое не сулило ничего хорошего артисту, и он перестал записывать блатные песни.
Кстати, «Два уркана» — не единственная блатная песня, обязанная своим появлением стихам Гейне в переводе Михайлова. Есть и еще одна, восходящая к стихотворению Гейне «Женщина». Прочитаю начало оригинала:
Любовь их была глубока и сильна,
Мошенник был он, потаскушка — она.
Когда молодцу сплутовать удавалось,
Кидалась она на кровать и смеялась.И шумно и буйно летели их дни,
По темным ночам целовались они.
В тюрьму угодил он — она не прощалась,
Глядела, как взяли дружка, и смеялась.
Далее по сюжету подруга, все так же смеясь, отказывается навестить героя в тюрьме, что, кстати, очень известный мотив в народных тюремных песнях, а потом, «вино попивая с другим», смеется в то время, как его вешают и вынимают из петли. Неудивительно, что этот текст, по самому своему содержанию отсылающий к персонажам и реалиям воровской жизни, спровоцировал создание блатной версии, которая оказалась достаточно продуктивной. Песня записана в нескольких вариантах в 1920–30-е годы. Приведу один из них:
Любовь ширмача, как огонь, горяча,
А проститутка, как лед, холодна.
Оба сошлися они на подбор —
Она проститутка, а он карманный вор.Вот утро приходит — он о краже хлопочет.
Она на кровати лежит да хохочет.
И вот завалился — в легавую ведут.
Ее, проститутку, товарищи ждут.Ведут его на кичу, а кича высока.
Стоит моя Моруха — и руки под бока.
В централ меня погонят дорожкой столбовой.
Имею я диканку, мальчишка молодой.
«Диканка» значит десять лет.
В записях фольклористов 1920-х — начала 30-х годов встречаются очень качественно сделанные блатные переработки общеизвестных песен. Например, переделка популярнейшей со времен Гражданской войны песни «Проводы» на стихи Демьяна Бедного. В оригинале мать уговаривает сына не уходить воевать за Красную армию:
Как родная меня мать
провожала,
Тут и вся моя родня
набежала:Ах, куда ж ты, паренек,
ах куда ты,
Не ходил бы ты, Ванек,
во солдаты.
В переработке шпаны сцена проводов рисуется так:
В уголовку сына мать провожала,
Все девчонки и шпана провожала.
А когда брали меня из квартиры,
По бокам со мной шагали конвоиры.
Далее в уголовке братва расспрашивает героя:
Или взяли тебя так, без дела,
Или легавым твое рыло надоело,
Или взяли тебя так прямо с бану,
Или набил ты пьяный рыло милифрану?
А в финале вся камера принимает оптимистическую программу:
Посидим мы как-нибудь, не загнемся,
Скоро выйдет новый кодекс — мы сорвемся
И поставим свободу вновь на карту,
И пошли-ка, нам, Господь, побольше фарту.
В нашем деле лишь одна нужна сноровка —
Не поймает нас тогда уголовка.
Другой, еще более радикальный опыт блатной переработки общеизвестной песни того времени — это переделка «Марсельезы». Она так и называется — «Марсельеза шпаны».
Она так и называется — «Марсельеза шпаны».
Скоро выйдем, друзья, из острога,
Отряхнем его прах с наших ног.
Мы не верим ни в черта, ни в Бога,
Воровать мы по новой пойдем.Трудно бросить нам наши привычки,
Не сумеем мы честно прожить.
Справим прочные фомки-отмычки,
Пусть от нас все на свете дрожит.
Надо сказать, что характерный прием в блатной песне и самодеятельной поэзии уголовников тех лет — сращение блатной поэтики насилия с революционным пафосом социального переворота: «Кто был ничем, тот станет всем» — и с идеей перераспределения благ, экспроприации экспроприаторов. А классовая криминальная позиция — ненависть к буржуазии, то есть к нэпманам, — должна была как бы роднить преступный мир с советской властью еще больше. «Марсельеза шпаны» продолжается так:
Много крепких серег мы сломаем,
Себе денежных касс заберем.
Кассу саре чужой промотаем
И гамгыры казенной попьем.Берегись, ненасытна утроба,
Мироеды, давай лихачей!
Мы повытащим мертвых из гроба
И заставим плясать нэпачей.
«Марсельеза»: история знаменитого марша
Ну и, конечно, среди литературных источников блатных песен не обошлось без Пушкина.
Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.Прелестная дева ласкала меня,
Но скоро я дожил до черного дня.
Так начинается пушкинское стихотворение, очень быстро ставшее романсом и попавшее в лубочные издания для народа и в широкий песенный обиход. В блатной песне сохраняется лишь размер, несколько строк в начале и любовная тема. В остальном это типичная блатная песня в форме хроники одного преступления.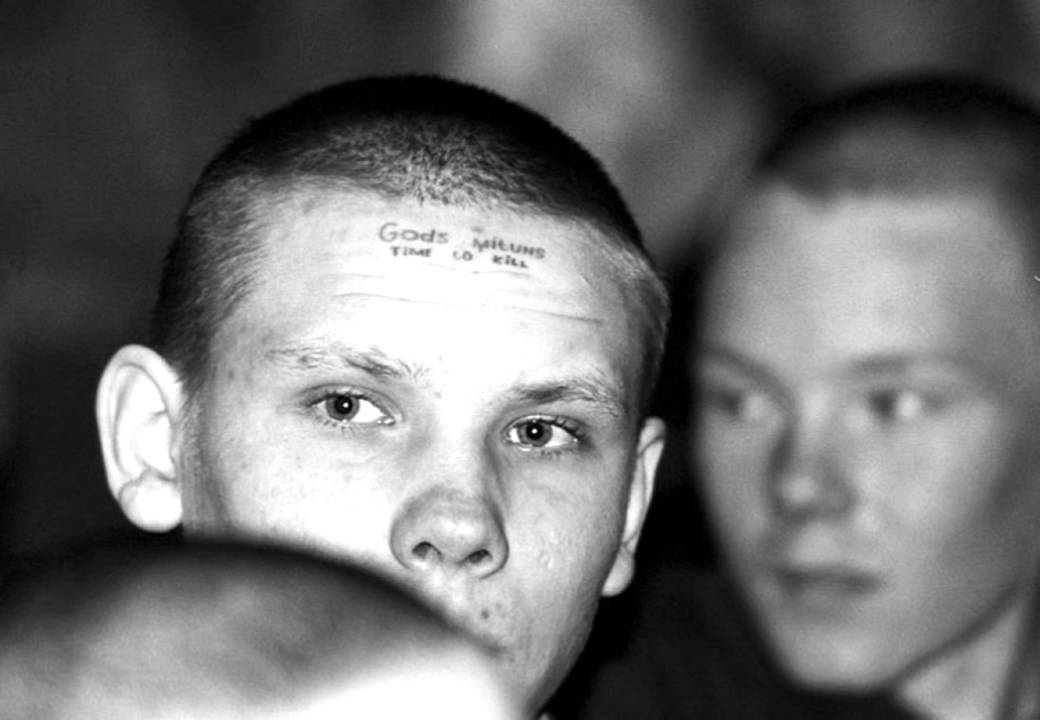
Смотрю сквозь решетку в туманную даль,
А хладную душу терзает печаль.Однажды я дожил до черного дня —
Младую девчонку любил я тогда.Я с ней распростился, уехал от ней
Пустые карманы набить пополней.Приехал в Одессу, инструмент весь со мной,
Отмычка, гитара и шпалер Шпалер — пистолет или револьвер. со мной.Иду я раз под вечер, наметил себе скок.
Не выйдет ли по фарту, не будет ли толк?Вхожу я в парадник — замочная щель.
Лишь одна минута — открытая дверь.И все, что мне нужно, я мог там найти,
Но снизу звук раздался: как смел сюда войти?Забилось во мне сердце, застыла во мне кровь –
Пропала свобода, пропала любовь.Взглянул я в двери — мой вечный враг стоял.
Я выхватил шпалер и стал в него стрелять,
Но пули отсырели и стали изменять.Постой же ты, голубчик, не удалось тебе.
За это преступленье ты будешь в тюрьме.Ведут меня на кичу Кича — тюрьма., а кича высока.
Взглянул я на свободу — свобода далека.Лежу я на нарах, и вспомнилось мне,
Как мы с ней гуляли, с ней наедине.Прощай, мой бедный мальчик, прощай, моя жена,
Быть может, не увижу тебя я никогда.
О блатной песне следует говорить не только как о фольклоре определенной социальной среды, но и как о явлении русской культуры ХХ века в целом. В том, что песенная традиция воровского сообщества выплеснулась далеко за его рамки и приобрела такое значение, общественный интерес к преступному миру, его типажам и его философии, его культурным традициям сыграл едва ли не большую роль, чем сами блатные песни.
Мода на песни воров, жуликов и городских оборванцев появилась у российской публики еще до революции. Я оставлю сейчас в стороне тюремные песни и интерес к ним — это отдельная большая история. Эта мода поддерживалась в том числе и литературой, и театром, — в частности, немалую роль в этом сыграла пьеса Максима Горького «На дне», где перед занавесом звучит тюремная песня «Солнце всходит и заходит». Удовлетворялся же этот запрос и одновременно поддерживался публикациями текстов в песенниках, граммофонными пластинками и эстрадой, где актеры в живописных лохмотьях пели босяцкие куплеты и воровские песни. Поставлю запись одной из известных песен тех лет, скорее всего даже пришедшей на эстраду из фольклора, а не наоборот. Поет Ефим Гиляров, запись 1912 года:
Я оставлю сейчас в стороне тюремные песни и интерес к ним — это отдельная большая история. Эта мода поддерживалась в том числе и литературой, и театром, — в частности, немалую роль в этом сыграла пьеса Максима Горького «На дне», где перед занавесом звучит тюремная песня «Солнце всходит и заходит». Удовлетворялся же этот запрос и одновременно поддерживался публикациями текстов в песенниках, граммофонными пластинками и эстрадой, где актеры в живописных лохмотьях пели босяцкие куплеты и воровские песни. Поставлю запись одной из известных песен тех лет, скорее всего даже пришедшей на эстраду из фольклора, а не наоборот. Поет Ефим Гиляров, запись 1912 года:
Закован цепями, и в замке я сижу,
Напрасно, напрасно, на волю я гляжу.
Погиб я мальчишка,
Погиб навсегда,
А годы за годами
Проходят года.Мать свою зарезал, отца погубил,
Младшую сестренку в море утопил.
Погиб я мальчишка,
Погиб я навсегда,
А годы за годами
Проходят года.
В 20-е годы и во времена Гражданской и позже, в эпоху нэпа, образы воров и беспризорников не сходят со сцены, воспроизводясь в эстрадных номерах, театральных постановках и фильмах. Формируется и пользуется большим спросом у публики образ свободолюбивого и бесшабашного вора, легко рискующего своей жизнью и еще меньше дорожащего чужими, умеющего красиво жить, сильно любить, превыше всего ставящего воровское братство. Образ, вполне соответствующий канону тогдашней блатной песни, примеры чему вы уже слышали. И вряд ли будет преувеличением сказать, что сам блатной фольклор формировался в том числе и под влиянием массовой культуры, усваивая ее стереотипы и заимствуя формы. Не только зрелищное искусство проявляло такое увлечение блатной темой, но и молодые писатели создают повести и рассказы о блатной жизни, а критики исправно ругают их за романтизацию блата, фольклористы и социологи собирают и публикуют блатные песни, пишут статьи и делают доклады об их происхождении, поэтике, социально-психологических основах.
Приведу один показательный случай. Актер и писатель Борис Глубоковский, проведший несколько лет в Соловецком лагере особого назначения, в качестве заключенного естественно, в 1926 году выпустил там брошюру «49: Материалы и впечатления». Число 49 в названии брошюры — это номер статьи тогдашнего уголовного кодекса о социально вредных элементах.
Автор всячески демонстрирует дистанцию по отношению к блатному миру, с которым он не по своей воле так плотно соприкасается, о чем, кстати, ни разу не упоминает. Это выражается даже в названии глав: «Их нравы», «Их песни», «Их тайны», «Их игры» и так далее. При всем том его брошюра представляет собой результат большой и увлеченной работы — это видно. Эта брошюра — подробный, насыщенный материалами и наблюдениями очерк фольклора и этнографии криминального сообщества в тюрьме, в том числе содержащий публикацию текстов песен. Вот так Глубоковский не любил воровской фольклор.
Блатной мир и песни как его полнейшее выражение уже к середине 1920-х годов сделались зоной особого общественного внимания и особой чувствительности.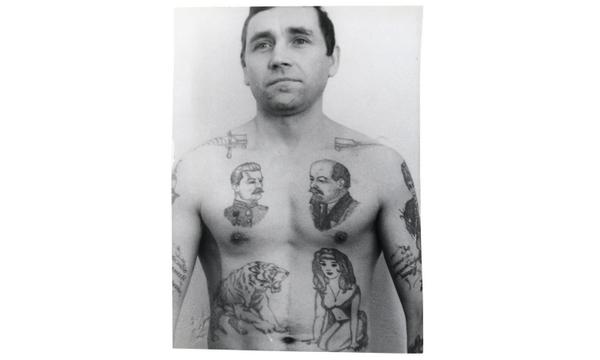 Это, собственно, и следует считать истинным рождением феномена блатной песни. Но не только романтический образ лихого уркагана и полной риска и наслаждений воровской жизни составлял своеобразие и привлекательность блатных песен, не только острая актуальность этого материала привлекала исследователей и общественных деятелей. Не менее важной составляющей поэтического и социального обаяния блатных песен был их язык, а может быть, и более важной. В песнях криминальной среды, в одних больше, в других меньше, использован так называемый условный язык — воровской жаргон, именовавшийся на себе самом блатной музыкой. Так назывался и словарь, составленный в 1908 году российским авантюристом Василием Трахтенбергом по собственным материалам (он сидел в тюрьме за мошенничество). Словарь вышел под редакцией и с предисловием крупнейшего лингвиста того времени, лексикографа, профессора Бодуэна де Куртенэ, высоко оценившего и труд собирателя, и сам блатной жаргон. Одним словом, внимание и интерес к воровскому языку проявлялись и раньше эпохи расцвета блатной песни.
Это, собственно, и следует считать истинным рождением феномена блатной песни. Но не только романтический образ лихого уркагана и полной риска и наслаждений воровской жизни составлял своеобразие и привлекательность блатных песен, не только острая актуальность этого материала привлекала исследователей и общественных деятелей. Не менее важной составляющей поэтического и социального обаяния блатных песен был их язык, а может быть, и более важной. В песнях криминальной среды, в одних больше, в других меньше, использован так называемый условный язык — воровской жаргон, именовавшийся на себе самом блатной музыкой. Так назывался и словарь, составленный в 1908 году российским авантюристом Василием Трахтенбергом по собственным материалам (он сидел в тюрьме за мошенничество). Словарь вышел под редакцией и с предисловием крупнейшего лингвиста того времени, лексикографа, профессора Бодуэна де Куртенэ, высоко оценившего и труд собирателя, и сам блатной жаргон. Одним словом, внимание и интерес к воровскому языку проявлялись и раньше эпохи расцвета блатной песни. Да и в самих песнях, как можно судить по единичным фиксациям, он использовался, естественно, и до 1920-х годов.
Да и в самих песнях, как можно судить по единичным фиксациям, он использовался, естественно, и до 1920-х годов.
Однако именно в 1920-е годы произошел интересный эффект: блатная музыка стала восприниматься как особый поэтический язык. В 1922 году молодой поэт Илья Сельвинский пишет стихотворение «Вор», представляющее собой повествование героя о произошедшем с ним крайне волнительном эпизоде. Стихотворение, насколько это возможно, написано на блатном жаргоне — и, похоже, именно ради этого. Начинается оно так.
Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу — золотой бамбер.
«Мусью, скольки время?» — Легко подхожу…
Дзззызь промеж роги… — и амба.Только хотел было снять часы —
Чья-то шмара шипит: «Шестая».
Я, понятно, хода. За тюк. За весы.
А мильтонов — чертова стая!
Упомянутый выше Глубоковский, последовательный в своем неприятии и обличении культуры уголовного мира, писал так:
«Язык их искусственен и полумертв.
Не чувствуется биения пульса жизни за этими вычурными словами. Это не слово — это ярлык, и это не язык, живой и полноценный, а жаргон, условный говорок, лишенный внутреннего органического содержания и видоизменяющийся механически».
В том же 1926 году Николай Хондзинский в предисловии к своей обширной публикации «Блатная поэзия» в журнале «Сибирская живая старина» совсем с другими интонациями писал о воровском жаргоне и различиях в его функциях в обычной речи и в песенном тексте:
«Нельзя оспаривать того факта, что в творчестве жаргон вводится не только в целях конспирации, но и как прием необычных словесных оформлений. Что это так, доказывает факт воздействия блатного творчества на наше сознание. Не столько обостренность тематическая, сколько словарная производит на наше восприятие впечатление резких отклонений от обычного. Мы испытываем это как новизну в приемах оформления, как особое качество, а это — закон художественных построений».
Не менее восторженно и увлеченно говорил о блатной музыке и о ее выразительном потенциале Орест Цехновицер в предисловии к сборнику блатных песен, который он готовил к печати в начале 1930-х годов. Он писал:
«Благодаря деформации слов общего языка воровской арго и насыщенная арготизмами поэзия приобрели исключительную выразительность и остроту. Ряд поэтов социального дна сами осознавали специфическую языковую особенность как систему их миропонимания. Так, один из тюремных заключенных в своем поэтическом произведении дал противопоставление представителей арготирующего мира — вольным: „Вы имеете вещи, мы — барахло, вам жены изменяют, у нас они ломают каблуки, вы волнуетесь — мы трехнаемся“ и так далее».
Воровской жаргон так или иначе встречается в текстах многих песен, но некоторые используют его в такой концентрации, что и целые фрагменты могут показаться непосвященному бессмысленным набором слов. Кажется, специфическую языковую особенность, о чем пишет Цехновицер, в той или иной мере осознавали не только тюремные поэты, но и безымянные авторы блатных песен, и осознавали не только как систему миропонимания, но и как беспроигрышный поэтический прием. Приведу одну из таких песен:
Кажется, специфическую языковую особенность, о чем пишет Цехновицер, в той или иной мере осознавали не только тюремные поэты, но и безымянные авторы блатных песен, и осознавали не только как систему миропонимания, но и как беспроигрышный поэтический прием. Приведу одну из таких песен:
В трамвае ехали мы с бана,
А рядом с нами фраер сел.
Когда шмеля его купили,
То фраер трекнул и запел:— Отдайте шмель, отдайте ксиву,
Сармак возьмите вы себе,
А то без ксив меня счурают,
И буду париться в киче.Сармак делите меж собою,
Коль деньги блатом доставать.
А кореш ботает по фене:
Даешь с трамвая плетовать.
В общем, в контексте языка этой песни указание на то, что кореш ботает по фене, выглядит довольно забавным.
Разумеется, при всем интересе к блатной поэзии со стороны эстрады, литературы и науки пение блатных песен советскими людьми в 20-е годы, а тем более позже не поощрялось. Блатные песни стали одним из объектов развернутой на рубеже 1920–30-х годов кампании по борьбе за новую песню — как идеологически чуждый фольклор деклассированных элементов, особенно предосудительный в репертуаре рабочих и комсомольцев. Со временем становится невозможна и научная публикация этого материала, даже в сопровождении предисловий со всей правильной идеологической оценкой блатного творчества и со всеми призывами к беспощадной борьбе с ним и к созданию конкурентоспособной истинно пролетарской песни. Никто официально не запрещал такие работы — их просто перестали публиковать. Летом 1933 года московский фольклорист Юрий Соколов пытался устроить в издательство «Академия» уже упомянутый сборник блатных песен Цехновицера и сокрушенно предупреждал его в письме:
Блатные песни стали одним из объектов развернутой на рубеже 1920–30-х годов кампании по борьбе за новую песню — как идеологически чуждый фольклор деклассированных элементов, особенно предосудительный в репертуаре рабочих и комсомольцев. Со временем становится невозможна и научная публикация этого материала, даже в сопровождении предисловий со всей правильной идеологической оценкой блатного творчества и со всеми призывами к беспощадной борьбе с ним и к созданию конкурентоспособной истинно пролетарской песни. Никто официально не запрещал такие работы — их просто перестали публиковать. Летом 1933 года московский фольклорист Юрий Соколов пытался устроить в издательство «Академия» уже упомянутый сборник блатных песен Цехновицера и сокрушенно предупреждал его в письме:
«Не скрою, что у меня есть опасения другого порядка. Работа над другой работой, но близкой по тематике к Вашей, книгой „Тюремная песня“, куда были включены и некоторые тексты из блатной поэзии, показала, что блатная песня с трудом проходит через Главлит».
Так или иначе, пережив взлет в эпоху нэпа, блатная поэзия стала сходить со сцены, в том числе и в прямом смысле — эпизоды с исполнением песен деклассированных слоев с середины 1930-х годов перестали включать в спектакли и фильмы.
В середине 30-х исследователь фиксировал снижение в репертуаре молодежи блатных песен:
«Если в записях 1930 года их можно насчитать десятки, то записи 1934 года дают всего две-три песни, из которых наибольшим распространением пользуется „Мурка“ с огромным количеством куплетов. Один из исполнителей уверял нас, что эта песня имеет их свыше двухсот».
Ну двухсот не двухсот — это, по-видимому, все-таки была гипербола, там на столько сюжета не хватит. Но дело не в количестве куплетов, а в том, что с окончанием своего золотого века воровские песни не исчезли, а стали менее видимы и менее влиятельны, ушли в подполье, так или иначе оставаясь при этом в фольклорном обиходе далеко не только воровской малины и тюремного барака. И поколение, сражавшееся на фронтах Великой Отечественной, двадцатилетние и сорокалетние советские воины, особенно горожане, несомненно, были носителями именно той музыкальной культуры, в которой блатная поэзия занимала свое почетное место. Очевидно, что плотная коммуникация в мужской среде в условиях фронтового быта вовсе не способствовала забвению этого слоя народно-песенного репертуара.
И поколение, сражавшееся на фронтах Великой Отечественной, двадцатилетние и сорокалетние советские воины, особенно горожане, несомненно, были носителями именно той музыкальной культуры, в которой блатная поэзия занимала свое почетное место. Очевидно, что плотная коммуникация в мужской среде в условиях фронтового быта вовсе не способствовала забвению этого слоя народно-песенного репертуара.
Более того, среди советских солдат и пленных блатные песни становились материалом для переработок на актуальные сюжеты и реалии. Например, песня девушек, которых угнали в Германию на работы, была переработана из колымской лагерной песни 1933–1934 годов о строительстве Магадана. В источнике первый куплет звучит так:
Я живу близ Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток.
Я живу без тоски и без горя –
Строю новый стране городок.
А в песне остарбайтеров — так:
Я живу близ Балтийского моря,
Где проходит дорога на юг.
Я живу при нужде и при горе,
Строю новый для немцев уют.
Закономерно, что происходило и обратное. Например, из песни времен войны «Когда мы покидали свой родимый край…» возникла одна из самых известных лагерных лирических песен «На Колыме, где тундра и тайга кругом…».
Блатная песня благополучно дожила до периода оттепели. К этому времени к песням классического периода — 1920-х годов — добавился и более поздний слой лагерных песен, во многом отличных и больше связанных с традициями не воровской, а тюремной лирики, но кому, спрашивается, это было важно. Весь тюремно-криминальный фольклор воспринимался просто как часть актуального репертуара и фигурировал под общим лейблом блатной песни. В частности, такие песни всегда были в чести в компаниях городских подростков, причем владение ими повышало престиж члена группы. Писатель и филолог Леонид Бахнов, листая свой старый рукописный песенник, вспоминает позднее хрущевское время:
«Пропыленный коленкор 96 листов, цена 44 копейки.
На странице, долженствовавшей изображать титульный лист, выведено: „Блатные песни“. „Таганка“, „Ты была с фиксою — тебя я с фиксой встретил…“ и прочие шедевры действительно блатной лирики перемежаются песнями Окуджавы, Визбора, Галича, а на последних страницах — Высоцкого. Что может быть прекраснее петь в компании „Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела…“, „Я был душой дурного общества…“, „По тундре, по железной дороге…“ и еще много всякого разного, мешая бесшабашную удаль с тоской, душевный взрыд — с практическим расчетом, где надо — входя в образ, где надо — над ним же иронизируя. А потом, когда станут приставать: „Спиши слова!“, так это небрежненько и через плечо бросить: „Могу тетрадку дать — сам спишешь“».
Пели их и во взрослых компаниях, причем самых разных слоев общества — от близких к самой криминальной среде до интеллигенции. По мере того как подпольные фабрики звукозаписи налаживали производство грампластинок на рентгеновских снимках, так называемые пластинки на костях, а в личном пользовании советских граждан появлялись бобинные магнитофоны, блатные песни стали не только петь, но и с удовольствием слушать, давать слушать и давать переписывать наряду с песнями эмигрантской русской эстрады и набирающими популярность авторами-исполнителями. В эти же годы блатная песня была подхвачена подпольной эстрадой, что во многом определило ее дальнейшую судьбу. Блатные песни пел и Высоцкий, в том числе и совершенно аутентичные, известные по ранним фиксациям. Вот одна из них в более поздней записи, сделанной уже незадолго до смерти певца:
В эти же годы блатная песня была подхвачена подпольной эстрадой, что во многом определило ее дальнейшую судьбу. Блатные песни пел и Высоцкий, в том числе и совершенно аутентичные, известные по ранним фиксациям. Вот одна из них в более поздней записи, сделанной уже незадолго до смерти певца:
В 1970-е годы репертуар короля подпольной эстрады Аркадия Северного, его исполнительское амплуа и его огромная популярность в значительной степени строились именно на блатном и тюремном фольклоре.
Более того, многие авторы-исполнители песен, весьма далекие от криминальной и тюремной среды, в те годы не избежали соблазна поиграть с блатной тематикой и поэтикой в собственном творчестве. В том числе и те, кто позже будет зачислен в классики так называемой бардовской песни: и Окуджава (например, его песня «А мы швейцару: „Отворите двери, у нас компания веселая, большая“»), и Высоцкий («В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел»), и Галич, и Визбор, и другие.
Несколько позже, но в ту же позднесоветскую эпоху поэтически отточенные блатные стилизации стали отправной точкой всенародной популярности творчества Александра Розенбаума — «Гоп-стоп», «Нинка как картинка с фраером гребет», «На одесском на майдане шум-переполох» и множество других. По-видимому, именно тогда, в 1960–70-е годы, блатные песни стали по-настоящему интерсоциальным явлением и наравне с анекдотами составили основу общенационального фольклорного фонда.
В 1920-х интеллигенция, интересуясь блатной поэзией, прочно связывала ее с воровской средой и если любовалась этими социально чуждыми песнями, то в основном воспринимала их как фольклор некоего экзотического племени, от которого сама, конечно, социально дистанцировалась, хотя и была обеспокоена влиятельностью блатной культуры в пролетарской среде.
Вспомним в очерке Бориса Глубоковского, делившего нары с уголовниками, нарочитую формулировку «их песни». В позднесоветское время это были уж не «их», а «наши» песни, усвоенные в дворовом детстве, на войне, в армии, в тюрьме или лагере из рукописных песенников или магнитофонных записей. Это не значит, что их любили и пели все. Хорошо известно, что некоторые люди не переносили их на дух, в том числе и по биографическим обстоятельствам — ведь в лагерном быту у многих политических отношения с уголовниками складывались отнюдь не товарищеские, и память об их песнях оказывалась достаточно травматической. Но, как говорится, на общую картину это не влияло.
Это не значит, что их любили и пели все. Хорошо известно, что некоторые люди не переносили их на дух, в том числе и по биографическим обстоятельствам — ведь в лагерном быту у многих политических отношения с уголовниками складывались отнюдь не товарищеские, и память об их песнях оказывалась достаточно травматической. Но, как говорится, на общую картину это не влияло.
Реагируя на это положение вещей, Евтушенко написал стихотворение «Интеллигенция поет блатные песни»:
Интеллигенция поет блатные песни.
Она поет не песни Красной Пресни,
Дает под водку и сухие вина
Про ту же Мурку и про Енту и раввина.
Поют под шашлыки и под сосиски,
Поют врачи, артисты и артистки,
Поют в Пахре писатели на даче,
Поют геологи и атомщики даже.
Поют, как будто общий уговор у них
Или как будто все из уголовников…
С тех пор, когда я был еще молоденький,
Я не любил всегда фольклор ворья,
И революционная мелодия —
Мелодия ведущая моя.И я хочу без всякого расчета,
Чтобы всегда алело высоко
От революционной песни что-то
В стихе простом и крепком, как древко.
Замечу, что поэтический размер этого стихотворения не имеет ничего общего с революционными песнями, зато отчетливо отсылает к блатной метрике. Не знаю, как это вышло — по злой иронии евтушенковской музы или в соответствии с тонким художественным замыслом, но стих идеально ложится, я бы даже сказал — просится на мелодию легендарной одесской песни «На Дерибасовской открылася пивная», что, конечно, делает возмущенно-брезгливый тон и очистительный пафос несколько комическим.
Не менее характерен, чем само стихотворение, был вскоре последовавший иронический отклик поэта Наума Коржавина — поэта, причастного к появлению некоторых текстов не блатной, но вполне подпольной поэзии, в частности быстро ставшей песней «Баллады об историческом недосыпе», в которой, в частности, есть памятный многим куплет:
Все обойтись могло с теченьем времени,
В порядок мог втянуться русский быт.
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?
Коржавинская реплика на памфлет Евтушенко была лаконичной:
Интеллигенция поет блатные песни —
Вот результаты песен Красной Пресни.
Здесь, на самом деле, та же самая мысль, что и в процитированном выше фрагменте о роковых последствиях революции. Дескать, сражались на революционных баррикадах за идеалы равенства — в результате полстраны, в том числе и интеллигенции, перебывало в лагерях и обогатилось характерным репертуаром. За что боролись, на то и напоролись. Подразумевается, что всенародная популярность блатных, тюремных, лагерных песен связана с тем, что Россия — самая сидящая страна. Какова общая судьба, такова и общая культура, таковы и общие песни. Такая интерпретация, наверное, до сих пор наиболее распространенная.
Тогда же, в позднесоветские годы, появилась и другая концепция, ориентированная не только на социальную историю России ХХ века, но и на внутренние свойства самих блатных песен, их идеологию и поэтику. В 1979 году известный писатель, литературовед и диссидент Андрей Синявский опубликовал в парижском эмигрантском журнале «Синтаксис» эссе под названием «Отечество. Блатная песня». О том, что Синявский был неравнодушен к этому пласту национальной культуры, говорит и избранный им псевдоним — Абрам Терц, позаимствованный из блатной песенки про карманника Абрашку Терца.
В 1979 году известный писатель, литературовед и диссидент Андрей Синявский опубликовал в парижском эмигрантском журнале «Синтаксис» эссе под названием «Отечество. Блатная песня». О том, что Синявский был неравнодушен к этому пласту национальной культуры, говорит и избранный им псевдоним — Абрам Терц, позаимствованный из блатной песенки про карманника Абрашку Терца.
Приведу несколько цитат из этой примечательной работы:
«Блатная песня. Национальная, на вздыбленной российской равнине ставшая блатной. То есть потерявшей, кажется, все координаты: чести, совести, семьи, религии… Но глубже других современных песен помнит она о себе, что она — русская. <…> Все утратив, порвав последние связи, она продолжает оставаться „своей“, „подлинной“, „народной“, „всеобщей“. <…> Посмотрите: тут всё есть. И наша исконная, волком воющая грусть-тоска — вперемешку с диким весельем, с традиционным же русским разгулом… И наш природный максимализм в запросах и попытках достичь недостижимого.
Бродяжничество. Страсть к переменам. Риск и жажда риска… Вечная судьба-доля, которую не объедешь. Жертва, искупление. <…> Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (а не только физиономии вора), и в этом качестве, во множестве образцов, может претендовать на звание национальной русской песни…»
Итак, блатная песня, по Синявскому, это ни больше ни меньше новая русская народная песня, в результате всех социально-исторических перипетий сменившая в этом качестве крестьянскую фольклорную лирику. И народная она не только потому, что стала для советских граждан всеобщей и своей. Синявский, думаю, вполне сознательно использует риторику, применявшуюся к народным песням со времен романтической фольклористики. Блатная песня вмещает в себя весь букет противоречивых черт национального характера, а значит, выражает самую душу народа.
Нетрудно заметить, что волны интереса к блатной песне и волны ее особой востребованности и социального, хотя и неофициального, одобрения совпадали с периодами политической либерализации — 20-е, 60-е и 90-е годы. Последняя из этих волн ознаменовалась не только появлением огромного количества массовых книжных и аудиоизданий, — например, сборников текстов «Блатные застольные песни», «Как на Дерибасовской», «Постой, паровоз», «Споем, жиган» и многие другие, — и не только интересом ученых к работе с этим материалом, которая раньше была недоступна.
Последняя из этих волн ознаменовалась не только появлением огромного количества массовых книжных и аудиоизданий, — например, сборников текстов «Блатные застольные песни», «Как на Дерибасовской», «Постой, паровоз», «Споем, жиган» и многие другие, — и не только интересом ученых к работе с этим материалом, которая раньше была недоступна.
Помимо всего этого, мы стали свидетелями появления нового направления, нового бренда и новой творческой идентичности в сфере шоу-бизнеса. Я имею в виду русский шансон. Это явление, на мой взгляд, беспрецедентное по своему масштабу и влиятельности, и оно требует отдельного разговора. Да и сам русский шансон, что бы под ним ни понимать, постоянно меняется со временем. При этом многие мэтры и апологеты этого направления отрицают, что русский шансон сводится к перепеву тюремно-воровских мотивов и эксплуатации соответствующей стилистики и лексики, считают, что такое его восприятие — печальное наследие 1990-х, и бранят тех авторов, которые полагают, что следовать блатной теме и манере — главный путь к успеху.
Александр Розенбаум еще в конце 90-х годов высказывался таким образом:
«Все стали вдруг писать свой какой-то дешевый блатняк — ужасную попсу. Что это такое — блатняк? Там должны присутствовать какие-то обязательные вещи: мама, прокурор, воля, малина и так далее. Можно взять воровской словарь, зарифмовать — и получится, в общем, ничего».
Недовольство мастера вполне можно понять, но несомненно одно: ориентация на блатную песню в любом ее понимании и во всех исторических модификациях является основной несущей конструкцией русского шансона — и в стилистическом, и в тематическом, и в символическом плане. А внутреннее недовольство и разногласия по этому поводу тем более симптоматичны. Они ведь, по сути, о том, как следует обращаться с общим достоянием, без которого невозможно обойтись, если ты претендуешь на цеховую идентичность русского шансонье и связанные с ней ресурсы.
Что сейчас со старой блатной песней? Существует ли она за пределами научных трудов и русского шансона или полностью узурпирована последним на правах наследника? В обозримом прошлом имели место два показательных скандала, связанных с исполнением блатной классики — знаменитой «Мурки».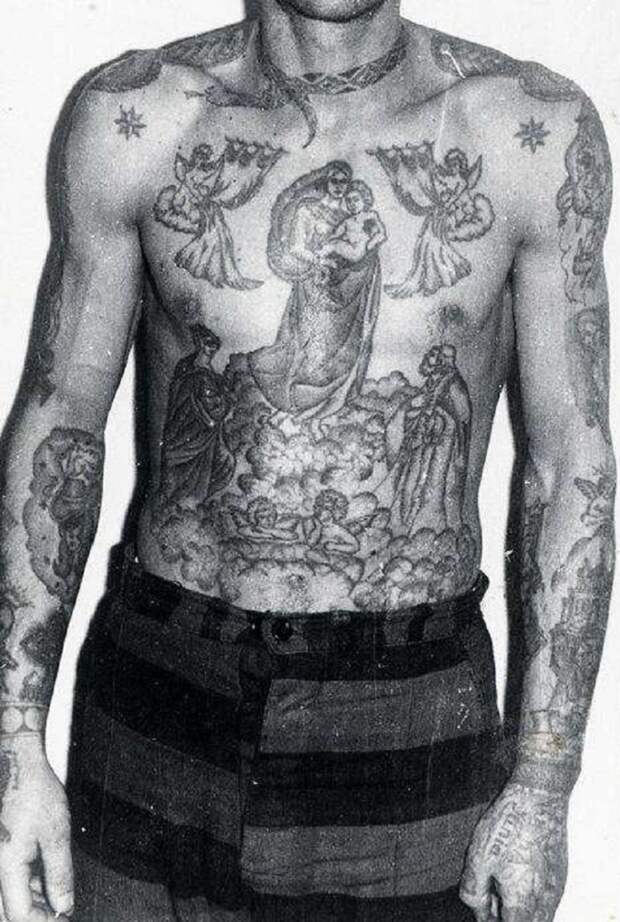 В одном случае ее спел детский хор, в другом — православный священник. Обе истории имели широкий общественный резонанс, а виновники были наказаны. Эти случаи замечательно свидетельствуют, во-первых, о том, что исполнение блатной песни в несоответствующем контексте признается нарушающим моральные нормы, а значит, в общественном отношении к блатным песням сохраняется значительный элемент неравнодушия. А во-вторых — что не только нарушители, но и их обличители и все граждане страны отлично знают, что такое песня «Мурка» и почему не всем и не везде уместно ее исполнять. Знают и, скорее всего, могут напеть куплет-другой.
В одном случае ее спел детский хор, в другом — православный священник. Обе истории имели широкий общественный резонанс, а виновники были наказаны. Эти случаи замечательно свидетельствуют, во-первых, о том, что исполнение блатной песни в несоответствующем контексте признается нарушающим моральные нормы, а значит, в общественном отношении к блатным песням сохраняется значительный элемент неравнодушия. А во-вторых — что не только нарушители, но и их обличители и все граждане страны отлично знают, что такое песня «Мурка» и почему не всем и не везде уместно ее исполнять. Знают и, скорее всего, могут напеть куплет-другой.
другие материалы на эту тему
Всё о песне «Мурка»
Кто такая Мурка, как она стала цыганкой и Любкой и за что ее убили
Что мы знаем о песне «Владимирский централ»
О чем она, как прославила тюрьму, кто ее автор и почему это по-своему великая песня
Язык воров и язык цыган
Зачем создан миф о происхождении криминального жаргона из цыганского языка
На каком языке говорили преступники XVIII века
Что такое опальная рухлядь, утечка и шумство
| 1 | Трофим– | Баллада О БабеMusic By, Lyrics By – С. Трофимов*Music By, Lyrics By – С. Трофимов* Трофимов*Music By, Lyrics By – С. Трофимов* |
| 2 | В. Цыганова* / М. Круг*– | Постой ДушаLyrics By – В. Цыганов*Music By – И. Слуцкий*Lyrics By – В. Цыганов*Music By – И. Слуцкий* |
| 3 | С. Воскресенская*– | КрасиваяMusic By, Lyrics By – С. Кулемина*Music By, Lyrics By – С. Кулемина* |
| 4 | О. Канайкина*– | Долгожданный ЯнварьMusic By, Lyrics By – А. Рогачев*Music By, Lyrics By – А. Рогачев* |
| 5 | О. Орлова* & Эшелон (3)– | Москвичка — СибирячкаMusic By, Lyrics By – Е. Алтайский*Music By, Lyrics By – Е. Алтайский* |
| 6 | Ира Ежова*– | КурносаяMusic By, Lyrics By – И. Ежова*Music By, Lyrics By – И. Ежова* |
| 7 | Лора Кокс– | БутырочкаMusic By, Lyrics By – Ю. Алмазов*Music By, Lyrics By – Ю. Алмазов* Алмазов* |
| 8 | Катя Огонёк– | СледовательMusic By, Lyrics By – В. Клименков*Music By, Lyrics By – В. Клименков* |
| 9 | Аня Воробей*– | Котуйская История, Часть 1. ВоронаMusic By, Lyrics By – В. Клименков*Music By, Lyrics By – В. Клименков* |
| 10 | Оксана Орлова / В. Черняков* & Эшелон (3)– | ЛюбовникиLyrics By – Л. Дремина*, М. Шелег*Music By – В. Черняков*Lyrics By – Л. Дремина*, М. Шелег*Music By – В. Черняков* |
| 11 | Катя Огонёк– | Доржный РоманMusic By, Lyrics By – В. Клименков*Music By, Lyrics By – В. Клименков* |
| 12 | С. Питерская* / А. Дюмин*– | Отцвели ЦветыMusic By, Lyrics By – А. Дюмин*Music By, Lyrics By – А. Дюмин* |
| 13 | С. Рыжова*– | Ресторанный ШумLyrics By – Л. Золотоноша*Music By – О. Макаревич*Lyrics By – Л. Золотоноша*Music By – О. Макаревич* Макаревич*Lyrics By – Л. Золотоноша*Music By – О. Макаревич* |
| 14 | А. Бабич (Анжела)*– | Судьба — ЗлодейкаLyrics By – К. Лопаревич*Music By – Б. РыбаковLyrics By – К. Лопаревич*Music By – Б. Рыбаков |
| 15 | С. Белина*– | НикакойMusic By, Lyrics By – Г. Кричевский*Music By, Lyrics By – Г. Кричевский* |
| 16 | Настя Рублик– | Вкус ЛюбвиLyrics By – М. ЛоткинаMusic By – Р. НеврединовLyrics By – М. ЛоткинаMusic By – Р. Неврединов |
| 17 | Воровайки– | ВороваечкиMusic By, Lyrics By – В. Лизнев*, С. Неркарарян*, Ю. Алмазов*Music By, Lyrics By – В. Лизнев*, С. Неркарарян*, Ю. Алмазов* |
| 18 | С. Тернова*– | Моя КоролеваMusic By, Lyrics By – М. Круг*Music By, Lyrics By – М. Круг* |
| 19 | Вика (3) & Магадан– | ПятилеткаMusic By, Lyrics By – А. Климнюк*Music By, Lyrics By – А. Климнюк* Климнюк*Music By, Lyrics By – А. Климнюк* |
| 20 | Т. Тишинская*– | ПодругаMusic By, Lyrics By – С. Исетский мл.*Music By, Lyrics By – С. Исетский мл.* |
три истории заключенного колымского ГУЛАГа — Истории — Агентство ТВ-2 — актуальные новости в Томске сегодня
Три рассказа-воспоминания заключенного Берникова были найдены в архиве музея «Следственная тюрьма НКВД» несколько лет назад. У сотрудников музея нет никакой информации о том, кем был заключенный, где жил и работал. По воспоминаниям можно понять, что у него были жена и дети. И что осудили его в Семипалатинске в 1938 году. Дали 20 лет заключения в ГУЛАГе и 5 лет поражения в правах по статье 58.7 УК РСФСР. Позже срок скостили с двадцати до пяти. Берников отбывал его в лагере на Колыме в 1938 году. На прииске Ударник.
В своем повествовании заключенный ГУЛАГа вспоминает о том, как его падение в шурф приняли за побег из лагеря. О том, как его бросили в бараке для умирающих и как провел в ШИЗО за «побег» 13 суток. Воспоминания публикуются в рамках проекта «ХХ век. Очевидцы».
Воспоминания публикуются в рамках проекта «ХХ век. Очевидцы».
Ботинки заключенных в лагере Бутугычаг на Колыме
Фото: foto-memorial.org
Жажда жизни
Это было в 1938 году. Мне пришлось отбывать, хотя и незаслуженный, срок на Дальнем Востоке. За мной шел формуляр, гласивший 20 лет тюремного заключения с последующим поражением в правах на пять лет. Нас везли из Семипалатинска до Комсомольска-на-Амуре в товарных вагонах, нагруженных, как сельди в бочку, без горячего питания. От нашего эшелона осталось 50 процентов еще способных двигаться без посторонней помощи, которых направили на Колыму. Я пока обойду все мытарства, которые пришлось испытать в пути. Может быть, напишу потом, а сейчас расскажу о том, как с отмороженным большим пальцем на правой руке, я попал в Западное горное управление строительства Дальнего Севера, прииск Ударник.
Я пока обойду все мытарства, которые пришлось испытать в пути. Может быть, напишу потом, а сейчас расскажу о том, как с отмороженным большим пальцем на правой руке, я попал в Западное горное управление строительства Дальнего Севера, прииск Ударник.
В третьем лагпункте, куда меня направили, насчитывалось около восьми тысяч человек. Он только что начал организовываться. Мы наскоро разбили брезентовые палатки. Из неотесанных круглых жердей настелили сплошные нары. На нарах ничего не было. Ложись туда, где успел занять. Постелью, одеялом и подушкой служил единственный бушлат, в котором мы ходили на работу. Мы долбили уклонный штрек в будущую шахту. Мы обязаны были на каждого члена бригады отбить вручную в вечной мерзлоте кайлом и ломом три кубометра земли с уборкой ее в штрек. За что нам полагалось 800 грамм сырого ржаного хлеба. На завтрак половина селедки и болтушка из ржаной муки. Чашек под болтушку не было. Мы получали ее кто во что мог: кто в кружку, кто в консервную банку, найденную на мусорной куче. Кто ел консервы, нам было неизвестно, в нашем рационе их не было, мы радовались пустым банкам, потому что могли в них получать баланду. Работали без обеда 14 часов, после чего приходили в лагерь. На ужин снова получали полселедки и ржаную баланду. Хлеб получали в зависимости от выполнения нормы. За выполнение меньше 50 % полагалось 300 грамм хлеба, за 400 грамм — 80 %. На ужин отводился час. После ужина требовали всех на проверку на улицу. С собой нужно было обязательно взять рукавицы. За невыход на проверку — карцер. На улице нас выстраивали в два ряда и сортировали.
Кто ел консервы, нам было неизвестно, в нашем рационе их не было, мы радовались пустым банкам, потому что могли в них получать баланду. Работали без обеда 14 часов, после чего приходили в лагерь. На ужин снова получали полселедки и ржаную баланду. Хлеб получали в зависимости от выполнения нормы. За выполнение меньше 50 % полагалось 300 грамм хлеба, за 400 грамм — 80 %. На ужин отводился час. После ужина требовали всех на проверку на улицу. С собой нужно было обязательно взять рукавицы. За невыход на проверку — карцер. На улице нас выстраивали в два ряда и сортировали.
Староста лагеря, мы его звали «начальник Фанители», был здоровенный детина. По формуляру, по складу и физиономии, староста всегда был из бандитов, поэтому в лагерной жизни к блатным всегда относились снисходительно. Заключенных по 58-й статье, независимо от пункта, называли рогатиками, чертями. Они не имели права ни на какие льготы. А у меня в формуляре записано черным по белому 20 лет ТФТ. Тяжелый физический труд. К таким снисхождение не полагалось, норма не снижалась и больным.
Бригада у нас создавалась работящая, дружная, и при всем желании ее не подвести норму выполнять я не мог. От каждого удара кайлом по мерзлому грунту у меня темнело в глазах от боли отмороженного пальца. Несколько раз я терял сознание. В бригаде нас было 12 человек, больных трое. У одного болела нога, второй не мог ни согнуться, ни разогнуться от боли в бедре. А у меня палец. Но бригада обязана была давать 36 кубометров, поэтому остальные девять человек отрабатывали и за нас. Наш бригадир, незаурядный парень, пытался облегчить нам жизнь. Однажды ему удалось договориться с десятником о применении взрывчатки. Взрывники находились тут же и от нечего делать слонялись по штреку. Мы, в свою очередь, добыли еще несколько ломов и решили их накаливать в костре, чтобы потом бурить мерзлый грунт. Нас, менее трудоспособных, бригадир отправил заготовлять и носить сухостой из леса. Лес находился в полукилометре от штрека, и мы на смену могли сходить по шесть раз. Я оказался заготовителем дров. Горячие ломы легче врезались в мерзлый грунт. Пробурив несколько скважин, все уходили из штрека. Взрывники стали использовать аммонал и бригада начала перевыполнять норму. Мы старались больше наносить дров, чтобы наша бригада могла работать без перебоев.
Заключенные ГУЛАГа за работой
Тропинка, по которой мы ходили за сухостоем, проходила вблизи разведочного шурфа. Шурф около шести метров глубиной, квадратный, полтора на полтора метра. Он был слегка запорошен снегом. Его кромки чуть приподнимались над тропинкой, с которой снег выдуло ветром. Я шел уже шестой раз, на последний раз перед отдыхом мне захотелось взять побольше дров. Поэтому я взял три довольно толстые жерди метра три в длину и пошел. Меня слегка покачивало от тяжести, но мысль, что сегодняшний рабочий день уже кончается и больше в лес идти не придется, переборола усталость. Я двигался вперед, длинные жерди заслоняли собой ту сторону, на которой был шурф. Да я о нем и не думал. Сколько раз я проходил по этой тропинке, ноги двигались как-то сами по себе, произвольно. Вдруг легкий порыв ветра ударил в мою ношу, жерди качнулись в сторону шурфа, я попытался удержаться, но ноги скользнули и я потерял равновесие.
Я очнулся на дне шурфа и почувствовал острую боль в голове и коленке и дотронулся до больного места на голове. Ладонь погрузилась во что-то липкое и теплое, до сознания дошло, что голова разбита, в какой степени – я понять не мог. Несмотря на боль в локте, я взял горсть снега и приложил к мокрому месту головы. Постепенно боль стала утихать. Я не догадался, что голову надо перевязать, да у меня не было ничего под руками. Нащупав лежащую около меня шапку, напялил ее на голову, стал кричать в надежде, что меня услышат, придут на помощь.
В шурфе стало совсем темно, я охрип от крика, понял, что мой крик из шурфа не вылетает. Я стал ждать утра, надеясь, что кто-нибудь пойдет мимо и тогда я крикну снова. Надо мной нависло темное северное небо, холод давал о себе знать, и чтобы не замерзнуть, я стал делать попытки подняться из шурфа. Пальцы мои скользили по обледенелым стенкам. Иногда отрывался небольшой камешек и глухо падал в притоптанный мною снег. Надо мной блеснул рассвет, я снова и снова принимался кричать. Кричал до тех пор, пока не терял сознание, потом снова делал попытки подняться.
Бесполезные попытки, и глухой мой собственный голос казался мне голосом смерти, приближающейся ко мне. Сколько раз я поднимался и падал обратно на дно шурфа, голодный, обессиленный без отдыха и сна. Я цеплялся за каждый ничтожный выступ, царапал ногтями стенки. Я стал терять надежду на спасение. В глазах темнело, теперь я уже не знал, когда был день, когда наступала ночь. Теперь при всем желании я не мог не только кричать, но не мог издать даже звука, от усталости еле держался на ногах. Но жажда жизни, хотя бы и каторжной, невыносимой с ее непосильным трудом, с голодным пайком, с холодной палаткой на голых сучковатых нарах, казалась мне более сносной, чем смерть в этой холодной яме. Мне казалось, что она протягивает ко мне свои костлявые руки и со смехом старается обнять меня. И это было ужасно. А звезды, мерцая над моей могилой, звали меня, манили к лес, в забой, к моим товарищам по несчастью. К огню, к костру, где я мог бы согреть свои коченеющие пальцы. Умирать в этой яме – нет! И снова и снова я думал, какими способами можно еще подняться. Пытался и снова падал. Теперь мне стало казаться все безразличным: пища, жизнь, отдых. Голова перестала соображать, только инстинкт как-то настойчиво требовал жизни. Снова без всякой мысли пытался я цепляться за стенки шурфа, который я стал ненавидеть всеми фибрами своей души. Ноги перестали сгибаться, я уперся плечами в стенку шурфа, опустив голову на грудь.
Ноги как-то сами по себе уперлись в противоположную стенку. Руки я невольно заложил на спину. Локти машинально уткнулись в стенку за спиной и дали возможность приподнять ноги и, может быть, на один сантиметр подвинуться вверх. Так же машинально я приподнял одну ногу и переставил другую повыше. Я почувствовал, что отделился от дна шурфа, снова подвинул плечи, и, извиваясь как червяк, по одному сантиметру начал подниматься. Мелькнуло что-то в сознании и, собрав силу воли, я все сильнее начал упираться в стенки шурфа, скользя вверх. Рука коснулась чего-то шероховатого, и я мертвой хваткой обвил руками опору, нависшую надо мной. Теперь я понял, что это была жердь, которую я нес на плече, когда полетел вниз. Она концами легла на стенки шурфа. Я не знал, насколько она прочно лежит. Мои ноги соскользнули со стенки шурфа, и я повис над ним. Упасть – это значит уже навсегда, я сделал последнее усилие и забросил ногу на жердь. Теперь я мог держаться и поворачиваться. Царапая руки и передвигая их, я сделал еще одно усилие и вылез наверх в снег. Сколько прошло времени, сколько затратил энергии на этот подъем, я не знаю. Все это я понял уже потом, понял, что смерть отошла от меня, но надолго ли? Теперь я не радовался своему избавлению, я лежал в снегу грязный, оборванный, в крови, холодный и голодный. Один среди сгустившейся тьмы. Что-то заставило меня подняться, и я пошел по направлению к лагерю. Без мысли, без радости. Все кружилось, вертелось: тропинка, деревья, небо. Наверное, я был похож на пьяного.
Табличка у входа на территорию лагеря
Фото: foto-memorial.org
Шатаясь от усталости, с трудом я добрался до лагеря. Вахтер пропустил меня беспрепятственно. Спросил только фамилию, имя, отчество. И почему я так поздно иду с работы? Войдя в палатку своей бригады, остановился в изнеможении, ко мне подошел бригадир, как маленького, взял за руки, подвел к свободному месту на нарах, усадил и только тогда спросил: где ты пропадал трое суток?
Я рассказал ему все подробно, что и как случилось со мной. От нашего разговора проснулись люди и, слушая мой рассказ, молча вздыхали. — Почему вы меня не искали? — Мы заявили конвою, что не вернулся из леса человек. Что надо его поискать, может, он в шурф упал.
Конвойные солдаты ответили, что меры будут приняты без вас. Сами не пошли и их не пустили. Только утром бригадиру сказали, что я объявлен в розыск и будут приняты самые суровые меры законного порядка, какие предусмотрены для лиц, бежавших из мест заключения.
Я и вся бригада понимали, чем это пахнет. Но мы об этом не говорили. Только рабочие собирали кусочки хлеба и постарались накормить меня. После этого бригадир сказал: мне сказано, что в случае вашего прибытия явиться в УРБ (учетно-распределительное бюро). Придется идти. Все мне было теперь безразлично. Хорошего я не ждал, но и не знал, что со мной будет. Не знаю, сколько было времени, когда мы подошли к дежурке. Бригадир доложил дежурному, тот послал рассыльного за заведующим УРБ. Бригадиру приказали удалиться. Заведующий УРБ пришел с ватагой лагерной обслуги. Не спрашивая меня ни о чем, сел за стол, написал какую-то бумажку, послал рассыльного. Потом, подойдя ко мне вплотную, наотмашь ударил по лицу со словами: я тебе покажу, как бегать вольно.
Видимо, это было знаком для моего избиения. Я успел только закрыть руками лицо. Со всех сторон посыпались удары. Били как попало, по чему попало. По голове, рукам, спине, бокам. Я, как резиновая кукла, летал от одного удара к другому. Не успевая даже упасть. Меня буквально носили на кулаках. Когда они натешились, побои прекратились. Я упал, меня подняли, облили холодной водой, усадили к стене в угол с таким расчетом, чтобы я не мог упасть. В это время пришел начальник канители. Заведующий УРБ сказал только одно слово: возьми.
Тот действительно меня сначала взял за воротник, поднял так, что мои ноги не касались пола. Вынес на улицу и там начал избивать. Он поставил меня на ноги и, словно по мячу, ударил меня в затылок так, что я несколько метров летел по воздуху. Так, не давая мне упасть, он пронес меня до самого карцера. Открыв дверь, он снова ударил меня кулаком и ногой в спину. Люди, которые сидели в карцере, помогли мне подняться. Нас в карцере оказалось человек десять, разных по характеру и с разной степени избитости. Карцер не отличался обширностью, не имел окон и нар. Только в углу стояла печка, и в ней тлели сырые дрова. Продолжилась наша веселая жизнь.
Дверь карцера
В карцере кто-то пел, кто-то свистел, кто-то крыл всех святых на небе и на земле. А кто-то молча, как я, поджав под себя ноги, укрывшись полой телогрейкой, лежал, желая только одного: перестать дрожать.
Так прошла первая ночь. Утром нам принесли хлеб (400 грамм). Мои товарищи ждали баланду. Но мне ее получить не удалось. Нас выгнали на работу. Построили в две пятерки и привели к УРБ. Там лежала куча мерзлого мха. Этот мох мы складывали слоем к стенкам помещения, посыпали его снегом, а затем поливали водой. Это называлось утеплением помещения. Стоял декабрь 1938 года. Без термометра мы определяли температуру воздуха, которая была в 30-40 градусов Цельсия ниже нуля. Мороз, правда, нам помогал, мох, залитый водой, замерзал моментально. Работали мы, конечно, очень вяло, шевелились, чтобы и самим не превратиться в ледяную статую. Около полудня мимо нас прошли заведующий УРБ и начальник отделения Дороберти. Проходя, заведующий указал на меня и что-то сказал начальнику. Тот остановился, с минуту смотрел на меня отеческим взглядом и без слов удалился.
Но через несколько минут он вызвал меня в кабинет, и мы откровенно поговорили. Когда я зашел в кабинет, Дороберти сидел на месте заведующего УРБ, а сам заведующий стоял навытяжку и что-то рапортовал. Когда мы вошли, доклад кончился, Дороберти скомандовал: вольно. Заведующий УРБ опустил от козырька руку и уже менее официальным тоном сказал: «Заключенный Берников по вашему приказанию доставлен». Дороберти в третий раз пристально и грозно посмотрел на меня и предложил мне сесть. Как видно, в его воображении я был уже неживой человек, а если я еще стоял и двигался, то этого надолго уже не хватит. Он улыбнулся. Но улыбка не предвещала мне ничего хорошего. А тоном и взглядом он, кажется, хотел доконать меня.
— Фамилия, имя, отчество, срок! — спросил он. Я ответил и, когда услышал звук своего голоса, решил не сдаваться без борьбы.
— Почему и куда ты бежал?
— Я никуда не бежал и не собирался бежать. Нес дрова для накалки ломов для бурения грунта, для того чтобы производить взрывные работы.
— Разве в шахте применяются взрывные работы? — спросил Дороберти у заведующего УРБ.
— Не могу сказать. Мне это не было известно. Впервые слышу, — ответил заведующий.
— Почему ты не донес дрова до места назначения?
— Я донес бы их, да по дороге был шурф, куда я упал. В течение трех суток я оттуда вылезал. И как только вылез, то сразу пришел в бригаду. Бригадир отвел меня к заведующему УРБ, а сейчас я стою перед вами.
— Такого шурфа, о котором ты говоришь, не существует. Мной было дано указание проверить. Проверкой установлено, что ты накануне побега заходил в инструменталку и взял там топор и лопату. Ты их не вернул и вечером не явился в лагерь сам. А вчера вечером ты был задержан обслугой за территорией лагеря и и водворен в изолятор. Чем сможешь опровергнуть?
— Я никем не был задержан, в лагерь явился сам, обслугу видел только в помещении УРБ, то есть здесь. А в подтверждение моих слов прошу вызвать вахтера, который запускал меня в лагерь и спросил фамилию. Еще вызовите бригадира, да и вся бригада вам скажет, что я пришел в палатку сам. Они вам скажут даже время, когда я пришел.
— Инструментальщика!
Вошел инструментальщик. Он, не глядя на меня, стал навытяжку перед начальником. Ноги его подгибались. Но он старался стоять прямо, пристально и подобострастно смотрел на Дороберти.
— Этот человек брал у тебя какой-нибудь инструмент, и когда?
— Да. Брал топор и, кажется, лопату. Два дня тому назад. И не вернул до настоящего времени.
— Что ты скажешь на это?
— Скажу, что инструменты из инструменталки берут бригадиры. Они отчитываются за инструмент, они получают и сдают. Этого человека я видел только тогда, когда нас этапировали из Магадана. Если он утверждает, что я брал у него инструмент три дня тому назад, так скажу, что я в течение четырех суток не был в бригаде. Трое суток был в шурфе и сутки в карцере. А это или подставное лицо, или подлец и лгун.
Дороберти приказал мне замолчать, стукнул кулаком по столу.
— Я тебя заставлю сознаться, что ты бежал из лагеря и что тебя поймали.
— Прошу извинить меня за резкий ответ. Но вы никогда не заставите меня сознаться в том, чего я не делал. Даже если бы пригрозили мне смертью, я ведь и так наполовину покойник. А мою правоту можно установить. Наверное, у шурфа, в который я упал, до сих пор валяются жерди, которые я нес в штрек.
— Ты будешь мне указывать, как вести следствие, болван? — крикнул Дороберти и сказал, что такого шурфа не существует. И что я должен сознаться, куда и почему я бежал.
— Вам нужно это для протокола. Я не бежал, но скажу, почему от вас бегут смельчаки, правда, вы их ловите, да ведь мыслящему человеку ясно, что побег от суда обречен на неудачу. Мороз, голод и пуля ожидают беглеца. За мою поимку вам не пришлось заплатить ни одному человеку. Я никогда не доставил бы вам этого удовольствия. Я предпочел бы скушать те продукты, которые идут за поимку беглецов. Тех, кто добросовестно работает в забое, вы морите голодом, изнуряете непосильным трудом, заставляя работать по 14 часов в сутки. Наш путь отсюда — в могилу. Сегодня, завтра, или немного позже. Так не все ли равно, когда умереть: часом раньше или часом позже? Чтобы снова терпеть ваш режим, ваши издевательства? Нет, лучше умереть сразу. Вы меня можете заморозить, можете убить, можете заморить голодом, но ничем не заставите меня подписать ложное показание. И от вашего режима и снабжения убежать не грех.
— Вот это уже более существенный разговор, — сказал Дороберти. — Продолжим в том же духе. Почему от нашей жизни и режима убежать не грех?
— Есть ли машины, работающие без ремонта? Их нет. А мы, заведенные машины, отдыхаем, самое большое, четыре часа в сутки. Да разве это отдых? На голых нарах с одной телогрейкой или бушлатом. За выполнение нормы мы получаем 800 грамм сырого ржаного хлеба. И ржаную болтушку — затируху. Поллитра на рыло. Ржаные галушки, промасленные снеговой водой. А издеваются над рабочим человеком все кому не лень. Надзиратели в эти четыре часа отдыха затеют шмон, выгоняют из барака, снимают даже рубаху. Староста лагеря бьет за дело и без дела. Одни проверки доводят до белого каления.
Кто у нас лагерная обслуга? Воры, жулики и бандиты, они убивать способны, а здесь это и поощряется. За это льготы получают. На свободе они на кусок хлеба не заработают, тюрьма им дом родной. Посмотрите на нашего начальника канители, на нем пробы ставить негде. Тысячу раз бандит, а тут он почетное доверенное лицо. Поэтому и режим «бей кому не лень». Чем больше убьют, тем больше почета. Они ведь не «контрики», не рогачи. Они бьют, а вы их поощряете.
— Тебя кто-нибудь бил?
— За этим далеко ходить не приходится. Вот первый представитель и зачинщик всех лагерных потасовок, – я указал на начальника УРБ. – Только вчера он первый ударил меня, а его приспешники мне даже упасть не дали, не успевал падать-то. С этим до карцера и проводили.
Дороберти посмотрел на заведующего УРБ и приказал ему выйти. И сказал продолжать в подробностях.
— Я уже говорил, что кормежка плохая, на таком пайке 14 часов не проработаешь, а после рабочего дня нас выгоняют из барака под видом проверки с рукавицами. И под усиленным конвоем мы идем лес носить бревна для строительства. Однажды мы вчетвером несли бревно пять километров, а на вахте под это бревно натолкалось столько, что ухватиться стало негде. Без ноши в лагерь не пускали. Ну я шел впереди, а вахтер сказал остановиться. Но напиравшие сзади не смогли сразу остановиться. И он мне так ударил кулаком в нос, что я сразу умылся кровью. Конечно, защитный рефлекс включился, я схватил палку и устремился за вахтером. Но тот дал тягу, а я палку не сразу бросил, и не подумай, что можно затеряться в толпе. Подоспевшие другие вахтеры моей же палкой так меня отлупцевали, сделали, как говорят, под орех. Поставили меня стоять смирно на всю ночь около ворот при температуре в 35 градусов мороза в одной телогрейке. Уж как я не замерз окончательно, сам не знаю. Отпустили меня, когда начался развод.
Рассказал, как меня встретили и в прошлую ночь. Рассказал, как лагерная обслуга за малейшую провинность, а иногда и без всякого повода, выводила людей на мороз. Для забавы заставляли лазить на четвереньках, скалить по-собачьи зубы. За невыполнение заданий били. Баланду наливали в грязные, из под помоев, чашки, как собакам. Два часа я рассказывал про порядки, царившие на лагпункте.
— Так, выслушал тебя, не перебивая. Конечно, ты многое преувеличил, иначе я знал бы об этом.
— Простите меня, гражданин начальник, но ведь вы обо всем этом превосходно осведомлены, только не сознаетесь в этом. Вы считаете это вполне нормальным. В ваших глазах мы люди провинившиеся и должны почувствовать свое наказание.
— Нет. Вы несознательный элемент, если бы вы сознавали, то не жаловались. А учитывали, что у нас в лагере бывает продовольственный кризис. И иногда приходится урезать снабжение. Большинство мирится с положением и затруднениями.
— Разве я вам жаловался до сегодняшнего дня? Мы, в том числе и я, миримся со всем. И, возможно, мирились бы с большим, если бы нас хоть чуточку считали за людей. Не били бы беспричинно, хотя бы изредка информировали о положении в лагере. Человек, когда знает и видит необходимость, он терпит, ждет и, призывая на помощь мужество и выдержку, добровольно идет на смерть во имя других. Мы сейчас стоим на разных ступенях, и вам трудно понять меня. Вы уполномочены властью, я осужден. Невиновных, говорят, не судят. Но я не совершил преступления, за которое меня судили. Меня судили за сознательность. Многих судили и совсем без причины, были ложные доносы. Да мало ли у нас недоразумений, а подход?
— Разве подход не ко всем одинаковый? Так я считаю, что это правильно. Вы изменники Родины!
— Нет! Родине, своему народу я никогда не изменял, да у меня и не было причин. Мне 30 лет, и этот формуляр я имею лишь потому, что имел десять лет тому назад приговор высшей меры, и тоже за не содеянное мной преступление. Я не был виноват и тогда. Да стоит ли говорить об этом, ведь вы все равно не поверите мне. Сейчас хочется просить вас об отмене дополнительных работ по лагерю после трудового рабочего дня. Люди не выдерживают. Мрут как мухи.
Заключенные и охранник на руднике
Фото: foto-memorial.org
— Ну, это ты ересь порешь. Тогда ваш брат совсем изленится и мышей ловить не будет. Нет, вы все время должны чувствовать, где вы находитесь, и давать то, что от вас требуют. Мне по крайней мере поступают сводки о выполнении норм и процента выхода на работу. Только несознательные люди могут обижаться на нашу несправедливость. А мы имеем право и будем таковых наказывать.
— А вам не поступают сводки ежедневного отхода на тот свет? Не прошло еще и двух месяцев, как я здесь, мне удалось побывать на нашем кладбище. У меня особое внимание к подобного рода местам, поэтому я не сомневаюсь, что скоро увеличится эта прописка и без того густо населенного пункта. Единственное утешение, что мы попадем в святые, так как здесь, в вечной мерзлоте, трупы не поддаются гниению. И сроки, записанные нам в приговорах, отбудем полностью там. Благо, мы не затрудним писателей, они не будут писать о нас романы и мы не станем легендарными личностями. Я не сомневаюсь, что после нашего душевного разговора пополню население сверх плана. Вы постараетесь доставить мне это удовольствие.
— Замолчать,— крикнул Дороберти и стукнул кулаком по столу. — Я вижу, что зря провел столько времени, выслушивая твои сказки.
— Не сказки, а быль. По вашему милому желанию сотворенные. Я скоро замолчу, не лишайте же меня последнего удовольствия сказать вам эту горькую истину, которую вы не очень-то любите. Я в ваших руках и если бы захотел избавиться от вас, то все равно, кроме петли, меня ничего не спасет. А для того чтобы повеситься, нужна веревка, которой мы, смертные, не располагаем.
— Замолчишь ли ты? — Дороберти вскочил, подбежал к двери и крикнул. — Немедленно стрелка!
Через минуту явился охранник с винтовкой. Дороберти проводил меня тем же взглядом, которым встретил. Стрелок довел меня до изолятора без приключений. Через час явился сам заведующий УРБ и приказал мне выйти. Я вышел. Мы шли с ним рядом и что-то говорили. Я не видел ничего, кроме своего противника, я не знал, куда он ведет меня. И не старался узнать.
Мы шли, наверное, километра три, я вел себя настолько непринужденно, что он, видавший виды человек, наверное, удивлялся. Он понял, что приговоренного к смерти ничем не испугаешь. Не возражал мне, а только скрипел зубами и злобно смотрел на меня. Он думал над тем, как больнее дать мне почувствовать свое бесправие.
У человека нет ничего дороже жизни, но если ее отбирают насильно и несправедливо, он уже не думает о себе. Ему хочется хотя бы в какой-то мере своей смертью облегчить участь своих товарищей по несчастью. А для этого надо было уличить своего деспота хотя бы перед его собственной совестью, если только она у него еще имелась. Я презирал и его, и смерть, так как они оба преследовали одну цель – уничтожение.
Наконец мы до шли до вахты. Вахтер пропустил нас без возражения. Моего спутника он знал в лицо, а до меня ему не было дела, потому что меня сопровождали. Заведующий довел меня до ШИЗО, вызвал ответственного за ШИЗО и сказал: «По распоряжению начальника отделения Дороберти этого заключенного содержать в ШИЗО до особого распоряжения». Мою фамилию он не назвал. Я не видел, чтобы он передавал и письменное распоряжение.
Ответственный за ШИЗО открыл дверь помещения, оно было полно. Люди стояли впритирку до самого порога. Самые близкие повернули голову, сами повернуться они при всем желании не могли. Тем не менее меня поставили на порог и втиснули между стоящими. Дверь закрылась, прогремел замок. На дворе стало тихо. Я остался стоять.
Камера штрафного изолятора
Фото: foto-memorial.org
Кто посылал меня, кто привел сюда и сдал до особого распоряжения, знали, что делали. Они знали, что представляет из себя ШИЗО. Надо быть наивным, чтобы, попав туда, думать, что можно выйти из него живым. Я почувствовал это с первой минуты, с того мгновения, когда меня втиснули между стоящими. Думать о будущем не стоило, думать о прошлом, вспоминая ошибки, бесполезно. Все, что прошло с тех пор, как я вылез из шурфа, происходило без моего ведома. И предотвратить было невозможно.
Если там, за стенами ШИЗО, несмотря на формуляр о 20-летнем стаже ТФТ («тяжелый физический труд»), я мог еще думать, чтобы пережить или дождаться какой-то перемены, как, например, отмены приговора. И если нас при вынесении приговора не пустили в расход, то за срок, проведенный в лагере, могло что-то еще измениться. Но здесь, в ШИЗО, срок не имел значения. В яме шурфа, я надеялся на свои силы и мужество, на свою силу воли. Теперь все стало ненужным. Все, что было там, здесь исключалось. Эта яма оказалась более глубокой, и в ней участвовали не только мертвые стены. Здесь распоряжались люди и существовало право сильного. К этой физической силе примешивалась еще сила наглости. Нахальства и кровожадности. Нашей судьбой распоряжались люди, не имевшие никакой совести, никакого сострадания, привыкшие к ремеслу палачей. Палачей, не узаконенных никаким законом, кроме закона, выработанного ненавистью, тупостью и безрассудностью. Здесь уже преследовалась не ликвидация классов, а ликвидация неугодных людей, несмотря на их безответный нечеловеческий труд.
Многие люди, окружавшие меня в ШИЗО, как и я, осознавали свое положение. В их глазах можно было прочесть только безысходную тоску. Это были трупы, завернутые в лохмотья, занятые только одной мыслью — поесть. Медленная смерть от истощения, в особенности тех, кто попадал сюда до особого распоряжения. Те, кто имел срок пять-десять суток, могли надеяться на что-то и потому могли думать о хлебе и воде. Они еще могли цепляться за горькое существование.
В первые шесть суток нахождения в ШИЗО мне все же два раза удалось поесть. Один раз меня накормила бригада, второй раз пайку в 400 грамм дали в изоляторе. Поэтому я был еще сильнее тех, кто просидел здесь больше недели. Это помогло мне пробиться вперед, в середину. Там я увидел нары, одноэтажные на одной стороне, двухэтажные на другой, где сидели блатные. Они и здесь пользовались привилегией и содержались для уничтожения остальных. Их было где-то полсотни, остальные впритирку лежали на нарах или стояли. Осмелившихся подойти к нарам блатников постигала смерть. При разводе мертвых вытаскивали на улицу и складывали в кучу. Кто мог шевелиться, строились в ряд для проверки. Тех, кто падал в помещении, оставляли умирать. Как только открывали утром дверь, к ней бросались не щадя ни себя, ни товарища. Так как последних блатные били палками, быть последним никто не стремился. В ШИЗО оставались блатные и фитили. Фитилями называли умирающих.
Вход в штольню и подъездные пути на руднике Бутугычаг
Фото: foto-memorial.org
За дверями нас ждала вооруженная охрана. Тех, кто не мог сразу сориентироваться и попасть в строй, охрана прикладами восстанавливали зрение и память. Те, кто попадался под приклад, оставались лежать, их не поднимали и они исчезали бесследно. После проверке следовала команда «Направо», и снова старший конвоир наш считал. Если количество совпадало, то нам командовали «Шагом марш». Колонна начинала раскачиваться на месте, пока не попадала в ногу. Потом мы шли инструменталке. К каждой пятерке заключенные ставился стрелок. Сытые, обмундированные солдаты охраняли отряд голодных, еле передвигающих ноги людей. К окошечку иструменталки подходили два человека, инструментальщик засовывал нам под локоть кирку или лопату. Руки у нас находились в карманах, варежек или рукавиц не было. Через час, а может, и больше, мы снова плелись по утоптанной дорожке к месту работы километра два. Там в шахматном порядке пробивались разведочные шурфы. Мы, не сговариваясь (разговор в строю запрещался), подходили в шурфу, вытряхивали из-под мышки инструменты и, пританцовывая, ходили вокруг шурфа, только чтобы не замерзнуть.
Охотников спускаться в шурф находилось очень мало. В шурфе люди не могли двигаться из-за тесноты, а если они присаживались, то уже не поднимались. Их извлекали с остекленевшими глазами, мертвых или полумертвых. И потом складывали на приходившие подводы и больше они в ШИЗО не возвращались. К концу дня оставшихся строили, считали, уточняли и мы шли обратно для сдачи инструмента. Наши руки вынимались из карманов только для того, чтобы взять с земли инструмент и водворить его под мышку. А инструментальщик сам брал его у нас. Потом нас снова пересчитывали и вели к ШИЗО. Около двери в ШИЗО снова считали, и тогда мы входили в наш рай, где встречало пополнение. На смену выбывшим. За время работы мы старались только заготовить себе снега на ночь. Так как воды нам никто никогда не привозил и не приносил. А хлеб к нашему приходу доставлялся блатным, на всю братию. Остальным давали буханку на группу. Группа отходила к нарам, сначала хотели разделить поровну, а так как ножей не было, а ломать поровну было трудно, то начинались споры. У голодных людей разгорались глаза, тряслись руки и невольно тянулись к хлебу. В один миг его хватали кто смог, забирались на нары и сразу глотали его не разжевывая. На вновь прибывших хлеб не полагался. Большинству хлеба не доставалось, начиналась свалка. Блатные палками наводили порядок. Били без разбора. По плечам, рукам, спине, по голове. Оглушенные ударами валились, их топтали, перешагивали или валились сами. Получалась куча барахтающихся тел. Кому попадал в руки хлеб, тут же уничтожал его. Ибо все равно отнимут. Так проходила дележка хлеба. С баландой обстояло несколько лучше. Каждый присутствующий получал триста грамм, если у него была посуда.
Наконец-то все успокаивалось, ужин окончен. Пристраивались кто как мог. Попавшие на нары не слезали, кто под нарами, тоже не вылезали. Остальные спали сидя, стоя, прислоняясь друг к другу. Брала верх усталость, забывались драки, забывались убитые, валявшиеся на полу. На них для удобства даже присаживались. Все замирало до утра.
О мертвых и убитых никто не говорил, никто не вспоминал. Количество не уменьшалось, порядок не менялся. Слабые гибли, блатные пользовались долей чертей и рогатиков. Помогали слабым умирать. Люди обновлялись, менялись, но мало кто отсиживал даже намеченный срок. Водворенные до особого распоряжения слабели, превращались в фитилей, догорали или нарезали дубаря. Нарезать дубаря означало умереть или быть убитым.
Каждый день в ШИЗО мне казался вечностью. Каждая ночь с ее кошмарами, драками, адом, о котором я слыхал еще в детстве. Здесь только не было кипящего котла со смолой. И нас не поджаривали на горячих сковородках.
Этот кошмар длился 13 суток. Я уже потерял надежду на свои силы. Эта тринадцатая ночь была страшной, день оказался, как всегда, для кого-то роковым. В довершение всего один молодой паренек, обросший бородой, с голубыми наивными глазами, из новичков, постеснялся оправиться на месте. Он попросил у конвоя разрешения отойти от шурфа. Отойдя шагов тридцать от группы, сделал свое дело, встал и машинально сделал шаг не в сторону группы, а наоборот. Стрелок вскинул винтовку. Прозвучал выстрел, и он, как сноп, свалился на снег. Конвоир подбежал к нам и крикнул: «Видели? Всем такая честь будет». После этого нас стали загонять в шурфы. Многие влезли, хотя там работать было нельзя из-за темноты и слабости. Всех, кто отказался, выстроили в шеренгу. Мне было все равно, что с нами будет, но в шурф я не полез. Нас пересчитали и четыре стрелка повели по направлению к поселку. Там подвели к дому начальника Дороберти и снова выстроили. Один стрелок зашел в дом. Через полчаса вышел начальник отделения, за ним стрелок.
— Не подчиняетесь конвою! Бунтуете! Не хотите работать! — мы все молчали. Тогда он указал в сторону сопки и, повысив голос, сказал. — Видите вон ту сопку? — Молчание. — Я вас спрашиваю, видите сопку? — Снова никто ничего не ответил. — Там всех вас сволочей расстреляю!
Угроза Дороберти была не пустым звуком. Многие знали еще Гаранинский режим. Там, в тайге, на приисках, еще крепко жили укоренившиеся правила. Где расстрелы и произвол партии царили. Еще не прошло полгода, как на прииске Мальдяк при такой обстановке, как у нас, с третьего лагпункта в одну ночь из ШИЗО и разных изоляторов было расстреляно 132 человека. И когда нас повели по направлению к этой сопке, ни у кого из нас не было сомнения, что мы идем в последний путь. Дороги к сопке Целинной не было. Мы шли по глубокому снегу около километра. Один из колонны упал, его пристрелили тут же. На одного из нас стало меньше, нас гнали дальше, не останавливаясь. Примерно на половине пути мы вышли к тропинке, ведущей к приискам. Нам скомандовали повернуть к шурфам. Когда мы вышли на площадку, нас остановили. И старший, который разговаривал с начальником, стал у нас спрашивать персонально: работать будешь? В шурф полезешь? Согласившегося направляли в шурф, и он спускался. Не доходя до меня двух человек, один отказался. Его раздели до нательного белья, оставив валенки, и поставили на стойку. Мороз был градусов сорок. Отказавшийся сложил на груди руки, втянул голову в плечи и остался стоять. Все остальные, и я в том числе, поняли, что отказ карается сразу. А шурф делает отсрочку, может быть, на день, два, но все же не сейчас. Прошел час, полтора, раздетому предложили одеться, но он не отозвался. Тогда решили одеть насильно, но ничего не получилось, не смогли растянуть окоченевшие руки. Его завернули в бушлат и положили на подводу, которая пришла по обыкновению к концу работы.
Дали команду выходить из шурфа, все, кто мог, вылезли. Но этот день и тут оказался рекордным. Человек десять извлекли стрелки скрюченных, с остекленевшими глазами. С мертвыми остались два стрелка, остальные повели нас к ШИЗО.
Я чувствовал, что больше я держаться не в силах. Что еще день, от силы два, и меня уложат на подводу. Мелькнула мысль: сделать шаг в сторону. В таких стреляли без предупреждения. Что удержало меня от этого шага? Так я и не мог определить. Бороться за жизнь я устал. Смерти я не боялся. Но, как видно, размеренный ритм, по которому мы двигались, подсознательно распоряжался мной. А в сознании я был против жизни. Я не хотел в ШИЗО, не хотел в шурф. Все во мне было отравлено: воля к сопротивлению исчезла. В этот день я не подумал даже о снеге для утоления голода и жажды. Я шел, не падал, не шатался. Мне не хотелось даже нарушать ритм движения, так я дошел до ШИЗО. Но в этот раз двери ШИЗО не открылись. Около дверей стояло несколько человек из лагерной обслуги пятого лагпункта. С ними стоял начальник, я его не знал, видел первый раз. Нас выстроили, раздалась команда разобраться. Кто с пятого – два шага вперед.
Начался опрос: Ты за что в ШИЗО? — Опоздал на работу. — Выходи. — Ты за что? — Нагрубил старосте. — Выходи. — Ты за что? — Побег. — Посиди.
Таких оказалось двое. Оставшимся скомандовали разойтись по своим бригадам.
Оставшихся вне опроса спросили, с каких они лагпунктов. И приказали разобраться по пунктам. Нас с третьего оказалось 15 человек.
Начальник подошел к нам, выбрал, на его взгляд, более смышленого. Приказал: «Отвечаешь за всех. Следуйте на свои лагпункты, заявите на вахте о прибытии. Из ШИЗО по распоряжению начальника отделения Дороберти. Приказано всех направить по своим бригадам».
Я вошел в свою палатку, бригадир поднялся мне навстречу. Поднялась вся бригада, если кто и не был, так по слухам знали, что представляло из себя ШИЗО. Меня приняли как выходца с того света. Снова, как и в первый раз, они собрали кто что мог и накормили меня. Наутро вместе со всеми я вышел на работу. За мое отсутствие штрек уже пробили и долбили золотоносный слой песков. Весной пески шли на бутару на промывку, зимой изводилась только добыча песков До вечера я находился на работе, но работать бригада мне не дала.
Добыча золота: подача золотоносной породы тачками на промывочный прибор
Фото: foto-memorial.org
«Отдохни денек», – сказали все бригадники, словно по уговору. Правда, ни сидеть, ни стоять я не мог, я делал то, что мог. Палец болевший к этому времени затянуло без всякой помощи, он покрылся тонкой кожицей. Как видно, потому что мяса на костях не было, а кость не отморозилась. Вечером, раздавая хлеб, бригадир обнаружил, что на меня хлеба нет. Он посоветовал мне дойти до УРБ. Я обратился к нарядчику. Нарядчик перелистал папку с бумагами и сказал: подождите заведующего. Прошло полчаса. Явился заведующий и, увидев меня, спросил: а ты откуда взялся?
Я ответил, что по распоряжению начальника ШИЗО нас разгрузили и направили по своим бригадам. Что я прибыл вчера и сегодня работал, что не получил хлеба и поэтому пришел сюда. «Посиди, сейчас выясню», — сказал он и вышел.
Но вместо заведующего пришел стрелок и снова водворил меня в изолятор. Дал на ночь дров. На этот раз в карцере я был один. Кое-как я разжег печку, сел к огоньку и подумал: начинай сначала.
Только утром закончились дрова, я прижался к остывшей печке и задремал. Утром после развода дверь моя открылась. Появился вахтер и приказал следовать за ним. Мы вышли из лагеря и пошли к пятому лагпункту. Я спросил по дороге: «Куда мы идем?». Вахтер ответил, что пока к пятому лагпункту. Спросил меня, откуда я прибыл. Я рассказал ему, что пробыл в ШИЗО 13 суток. За что? Не знаю.
Мы вошли в проходную, он оставил меня на попечение дежурного, а сам пошел доложить и узнать, куда меня определить.
Невеселые думы наполнили мою голову. Неужели снова ШИЗО? Мои размышления прервал дежурный.
— Эй, мужик, куда тебя привели? — Не знаю, наверное, в ШИЗО. — А что ты наделал? Убил кого-нибудь? — Нет. — Тогда украл? — Нет, в жизни никого не убивал, не воровал. — Так за что же тебя в ШИЗО привели? — Не знаю.
Тогда он полугрозно, полусерьезно крикнул на меня: «Замолчать! Встать как следует!». Я стоял, прислонившись к стене. Я отодвинулся от стены и отвернулся от окошечка. Тогда дежурный снова окликнул меня.
— Эй, мужик, ты грамотный? — Читать, писать умею. — Зайди сюда. Поможешь мне номерки развесить.
Я вошел к нему в дежурку. Он показал на стол, там лежала куча номерков, а рядом табельная доска. Я с этой работой справился быстро. Тогда он спросил. – Есть хочешь? – Хочу.
Он достал из стола полбуханки белого хлеба и протянул мне. Я не поверил своим глазам, но невольно шагнул к нему. Глаза мои, как видно, заблестели голодным блеском. Он отпрянул от меня. Но я, как собака, успел выхватить хлеб и не разжевывая начал его глотать. Дежурный посмотрел на меня с интересом и сожалением. Когда я покончил с хлебом, он спросил. — Пить хочешь? — Хочу.
Он зачерпнул кружку воды и подал мне. Я залпом выпил и попросил еще. — Куришь? — Кто из нас не курит?
Он достал из стола табаку «Дукат» и половину отсыпал мне. Дал коробку спичек и сказал: «Выйди».
Я вышел и, прислонившись к стенке, стал с наслаждением глотать табачный дым. Дежурный наблюдал за мной в окошечко, что думал он, не знаю, но я в первый раз видел вахтера – человека с душой, наполненной жалостью к отверженному. Мне казалось, что голод стал мучить меня еще сильней. Я с такой жадностью съел бы еще столько, но мне больше никто ничего не предложил. С благодарностью я смотрел на этого человека, протянувшего мне руку помощи. Теперь я снова мог идти в ШИЗО. Теперь неделю, а может, и больше мог я выдержать.
Вошел вахтер. — Ну, браток, пойдем! — Куда? — Не знаю, пока в УРБ, а там куда определят.
Я еще раз с благодарностью взглянул на дежурного и молча вышел из помещения. Мы пришли в УРБ пятого лагпункта. Я остановился у двери.
– Подойдите сюда! — приказал начальник. Я сделал несколько шагов к столу, но вплотную не подошел. — Фамилия, имя и отчество, год рождения? Статья, срок? — Я ответил. — Где находился последние две недели? — В ШИЗО до особого распоряжения. — Этого не может быть. — Спросите начальника ШИЗО.
Меня доставили без документов. Этот факт мог врезаться в память дежурного и начальника, а так как начальник мог не узнать меня, перед его глазами столько проходило всяких людей, что вряд ли он мог удерживать в памяти все наши обросшие бородами, потерявшие человеческий облик лица. Пока я был занят этими мыслями, рассыльный привел начальника ШИЗО.
— У вас содержался этот человек? С какого по какое время? — Неужели не вспомнит? У меня похолодело внутри и, кажется, остановилось сердце. Ведь он видел меня один раз, когда принимал. — Ответ «да» вдруг донесся до слуха, и кровь снова начала свой путь от сердца к пальцам и обратно. — Его привел ко мне заведующий УРБ третьего лагпункта и сказал, что документы пришлет попозже. Когда выбыл от нас, сказать затрудняюсь. А привели его две недели тому назад. Выбыл, как видно, при разгрузке. Я готов был целовать ноги начальника ШИЗО, человека черствого и бессердечного. Который ни разу не пошевелил пальцем, чтобы навести порядок во вверенном ему учреждении. И по возможности создать условия не для морилки, а для исправления провинившихся и попавших к нему людей. Неужели в нем еще сохраняется в какой-то степени человек?
— Мне тогда заведующий УРБ третьего лагпункта сказал, — продолжил начальник ШИЗО, что этот человек будет содержаться до особого распоряжения, так как склонен к побегу. Вот поэтому я и обратил на него внимание. — Начальник пятого лагпункта покачал головой. — Спасибо, я вас не задерживаю.
Мне заведующий отдал документы и сказал, что в лагере решили, что я опять сбежал.
— Мы не обнаружили вас при проверке, и мне пришлось вызвать военизированную охрану и объявить вас в розыск. — Вот так я и бегаю из одной ямы в другую и чуть не угодил в последнюю. — Если бы не пришли для разгрузки ШИЗО, то вас так и не нашла бы никакая военизированная охрана.
Я понял, что мне так отомстил заведующий третьего лагпункта за что, что я рассказал Дороберти о здешних порядках.
Кобель
Иван Трофимович Кобель руководил бригадой. Бригада состояла из 50 человек. Работали по открытию золотоносных песков. Разработки велись открытым способом, а для того чтобы приступить к выработке, необходимо было снять двухметровый почвенный слой. Этот слой назывался торфом, хотя он состоял из растительного слоя, смешанного с галечником. Работа не из легких, но бригада подобралась дружная, да и побаивались бригадира. Ленивым Иван Трофимович спуску не давал. Вот в эту бригаду попал я после того, как по счастливой случайности вышел из штрафного изолятора и пошел на пятый лагпункт. Начальник учетно-распределительного отдела пятого лагпункта был полной противоположностью начальнику с третьего. Этот лагпункт вообще был на хорошем счету.
А бригада Кобеля гремела рекордами. Редкий месяц она выполняла работу на 150 %. Больше шести месяцев бригада давала по двести и больше процентов. На этом лагпункте я увидел свет. Во-первых, начальник УРБ разобрался в моих побегах. Убедившись в моей правоте, он дал распоряжение старосте, чтобы меня в течение 12 дней на работу не направляли и кормили по первой категории. Выдали мне новое обмундирование. Постельные принадлежности. Привели меня, как говорится, в человеческий вид. Отдохнул я, да и сказать, бригада Ивана Трофимовича мне понравилось. Одно смущало, что Кобель держал себя по-министерски, к нему без доклада не входили.
Жил он с нами в одной палатке. Но для него был отделен угол, и у двери сидел дневальный. Прежде чем попасть к бригадиру, проситель должен был выложить свою просьбу дневальному, а тот сам решал: стоит ли беспокоить? Если вопрос заслуживал внимания, то дневальный пропускал к бригадиру, если не считал нужным, то гнал просителя метлой. Все мы, конечно, с таким положением мирились, считая это не самым худшим, а просто шуткой, в душе посмеивались над ней. Сам Иван Трофимович обладал огромным ростом, немалой силой, суровой наружностью. Твердым характером. Кроме того, Иван Трофимович не стеснялся в выражениях где считал нужным. Не стоял за оплеухой, так даст, что с ног валятся. Поэтому и дисциплина в бригаде отменная была. И хотя в душе все мы осуждали кулачную расправу Ивана Трофимовича, но в то же время и оправдывали его, с нашим братом поступать иначе нельзя. Слушать не будут, а уважать многие не умеют, не понимают уважения. Несмотря на все это, я к бригадиру относился с большим уважением, и, правду сказать, он тоже умел ценить людей. В последний день месяца нам объявляли процент выработки. Если мы и сегодня дадим 200 процентов, значит, и в месяц будет двести.
Добыча золота: вывоз пустой породы коробами по ледяной механической дорожке
Фото: foto-memorial.org
До самого вечера мы работали не покладая рук и без подсчета знали, что вытянет на двести с гаком. На вахте открылись ворота. Нас посчитали, и мы дружно вошли внутрь. Грянул туш. Оказывается, нас ждали, встретили с оркестром. Пока мы вошли в барак, все еще играла музыка.
— Это у нас заведено с самого начала, — ответил мой товарищ. — Еще не то увидишь.
И я впрямь увидел чудо. Наш барак выглядел празднично и чисто. Посередине стояли столы, накрытые чистыми салфетками. На каждого члена бригады стояла раскупоренная банка шпрот и стопка. Умывшись и причесавшись, все сели на свои места. Я, как новичок, стоял и ждал, пока мне укажут место. Прибор Ивана Трофимовича стоял в конце стола. Со своего места он мог видеть всех. Он посмотрел на меня и показал свободное место около себя. Когда все сели, явился повар в белоснежной куртке и поварском колпаке. Он торжественно нес бутылку спирту, начиная с бригадировой стопки, стал наливать по 100 грамм. За ним шествовали два официанта, тоже с бутылками. Но они только подавали повару.
Иван Трофимович скомандовал: «Разбавить!». Мы все долили стаканы водой, хотя и так спирт был разбавлен, но этого никто не утверждал. Снова команда Ивана Трофимовича: «Приступить!». Это означало: взять стопки и встать. Все встали. Иван Трофимович произнес речь, похвалил нас за работу и выразил надежду, что темпы не снизятся и в следующий месяц. «Не уроним честь бригады и в будущем!». Закончил он и опрокинул стопку в рот. Все последовали его примеру. Закусили. В это время официанты разносили суп с вермишелью, потом появилось жаркое из тушеного мяса с рисовым гарниром. На третье по кружке киселя. В этот раз хлеб подавался без нормы, если кто сколько хотел. Просили добавки, и просьба удовлетворялась. После обеда строем шли в клуб. Нашей бригаде в этот день отводились места в первых рядах. Начальник лагеря объявлял процент, выработанный нашей бригадой, призывал трудиться еще лучше, а всему лагерю равняться на ударную бригаду Ивана Трофимовича.
Нелегко доставались почести в наших лагерных условиях. Но все же это было приятно, радостно за то, что твой труд замечается и оценивается. За внимание мы отдавали все свои силы. Как только бригада вступала в забой, раздавалась команда Ивана Трофимовича: «Бушлаты долой». И все беспрекословно ее выполняли. За невыполнение — собственноручная затрещина Ивана Трофимовича. Все об этом знали и, конечно, старались выполнять все приказания беспрекословно.
Работая в бригаде Кобеля, я физически окреп, но, к несчастью моему, мое истощение, полученное на третьем лагпункте, не прошло без следа. Развивалась анемия и авитаминоз. Стали опухать ноги. На правой ноге, ниже коленки, у меня был провал, то есть цинготный абсцесс, он больше всего давал о себе знать. К концу января развилась цинготная контрактура. Нога сильно болела и распухала. Несколько раз ходил в амбулаторию. Но больным не признавали и я ходил на работу. Прошел февраль, морозы не снижались, а, казалось, усиливались. В начале марта болезнь моя настолько развилась, что наш бригадир, несмотря на свою жестокую натуру, стал делать мне поблажки. Но мое сознание не мирилось с тем, что я лишний балласт в бригаде. Это меня просто убивало. Иван Трофимович утром, до того как собиралась бригада, приказывал мне идти к вахте, когда бригада подходила к воротам, я присоединялся к ней, нас считали и бригада уходила. А я плелся следом. Приходил намного позже. И бригадир не допускал меня до работы, отправлял обратно, бригада нагоняла меня у ворот, и я снова входил вместе с ней. От ворот до барака я шел черепашьим шагом. Один из членов бригады получал за меня пайку и баланду и приносил мне в барак. Так прошел март.
Однажды Иван Трофимович приказал мне идти в амбулаторию. Сказал, что главврача там сегодня нет, а наш липком даст освобождение. Это было 13 марта 1939 года. Я принес освобождение от работы на один день. Два дня я был между сном и полузабытьем. Бригада ушла, не стали меня тревожить, но пришел нарядчик, накричал на меня: «Немедленно иди в амбулаторию и неси освобождение или пойдешь в карцер. Из бригады Кобеля тебя исключим».
Я с трудом встал, кое-как добрался до амбулатории. В этот день принимал главврач сангородка лагеря Шерстеникин. Посмотрев ногу, он тут же выписал мне направление в сангородок. Тогда я только понаслышке знал о сангородке. Но скоро стал не только очевидцем, но и действующим лицом этого городка смерти.
В этот день я распрощался с бригадой Ивана Трофимовича. Пока я ходил в барак, собирал свое немудреное имущество. Вытряхнул стружки из матраса и подушки, прихватил чашку с ложкой как дефицитные предметы в хозяйском обиходе и снова вернулся в амбулаторию. Нарядчик уже знал, что я выписываюсь с пятого лагпункта.
Зашел в амбулаторию, чтобы взять направление. Переступив одной ногой порог и с трудом перетянув другую, бросил в угол свои пожитки и сам свалился на них. Нога моя так заныла, что я не мог удержаться от слез. Кое-как взгромоздил ноющую ногу на узел, сам свалился на пол. Нога начала отходить, хотя боль не утихла окончательно. Дверь открылась, и в комнату вошел молодой паренек-статистик. — Как ваша фамилия? — Я ответил. — Вас немедленно просит к себе заведующий УРБ. — Я даже выругался. Так мне было больно физически и морально. — Никуда я не пойду. Не могу, видишь? С полу не подняться.
Но паренек был зэка, настойчив и в то же время добрый к людям. Он поднял меня, подхватив под мышки, потом обнял за талию, как барышню. Почти не касаясь пола, повиснув на нем, я пошел с ним. Заведующий, увидев нас, улыбнулся. — Что это за объятия? — Видите ли, у него ноги болят, идти не хотел, так я его доставил поневоле. — А-а-а. Ну мы его сейчас «подлечим». — Паренек посадил меня на табурет около стола начальника.
— Фамилия, имя, отчество? Статья, срок? — спросил он меня, не дав мне возможности прийти в себя от его «подлечим».
— Когда мы были в Семипалатинске, нам объявили, что статья 58 переквалифицирована Верховным судом КазССР на статью «Указ от 7 августа 1932 года». И срок снижен до десяти лет.
— Что ж, выходит, ты имеешь с поражением 35 лет? — улыбаясь, спросил он снова.
— Да нет, — хотел я ему объяснить, но он не не стал меня слушать, взял со стола какую-то бумажку и протянул мне. — На вот, прочитай и распишись, что тебе известно. Я взял эту бумажку, быстро пробежал глазами. Не поверив своим глазам, снова перечитал ее. Потом прочитал более медленно, вдумываясь в каждое слово. Заведующий УРБ наблюдал за мной и в то же время радостно улыбался.
— Ну как, понял? — спросил он.
— Понял, – ответил я, чувствуя, как во мне снова закипает воля к жизни.
— За невозможностью квалификации статьи 58.7 статью переквалифицировать на 109 УК. Срок снижен до пяти лет. Понятно? — снова спросил начальник, подавая мне ручку и указывая, где расписаться.
В голове у меня стояло: без поражения и без конфискации имущества. Конечно, имущества у меня оставалось только двое детей и жена. О которых ничего не знал с тех пор, как увезли из Семипалатинска. Теперь во мне оживала надежда на встречу с ними, а ради этого стоило жить в любых условиях, перенести все невзгоды и горечь разлуки.
Сангородок
Сангородок расположен от лагеря в нескольких километрах. Добрался я до амбулатории сангородка почти ползком. Ноги мои совсем отказали. Народу на прием оказалось немного. Все больные нуждались в посторонней помощи. Лавируя между лежащими на полу и сидевшими около стенок, я пробрался в угол, сел на пол и почувствовал, что больше не поднимусь. Все мои мышцы расслабились,
голова закружилась. Я закрыл глаза, впадая в полузабытье.
Когда прием заканчивали, санитары обнаружили меня в углу. Перенесли в приемную врача. Врач осмотрел мою ногу и холодно бросил: в палатку номер десять. Меня подхватили на носилки, донесли до какого-то, на первый взгляд, сруба, открыли замок у двери. Когда внесли в палатку, я потерял ориентир. Я только почувствовал, что меня засунули куда-то наверх, санитары ушли. Сколько раз открывал и закрывал глаза, привыкнув к темноте, стал различать силуэты нар и копошащихся на нарах живых существ. Нары оказались двухэтажными, сплошными. Я попробовал окликнуть соседа, в ответ получил лишь слабый звук, похожий на голос умирающего. Значит, тут одни фитили. И я не ошибся. Через какое-то время пришли санитары с фонарем, прошли мимо всех нар. У некоторых нар останавливались, стаскивали труп, клали на носилки, открывали какую-то дверь, в которую проникала полоска света, и уносили тела. Потом возвращались снова, До тех пор, пока не обошли всех. Некоторым приносили пищу. Принесли чашку баланды и мне, я ее выпил, ничего не спрашивая, снова лег на свое ложе.
Больница Севлага
Фото: gulagmuseum.org
Теперь мне все стало понятно. Дойдет очередь и меня вынесут в эту дверь. Прошло два дня. Никто нас, кроме санитаров, не смотрел. А санитары делали свое «великое» дело, уносили нечистоты и мертвых. Приносили новых фитилей, предназначенных догорать, и до последнего дыхания вливали нам в рот кружку баланды из ржаной муки.
Однажды ночью я проснулся от того, что боль в ноге утихла. Я пошевелил ногой, она не только пошевелилась, но даже могла согнуться. Но когда я согнул ее, по ноге потекло что-то теплое. В это время пришли санитары.
Один из них с фонарем подошел ко мне. — Браток, дай мне спичку. — Ты что, куришь? Здесь курить не полагается. — Не курю, мил человек, просто-напросто хочу посмотреть на свои ноги. — Ну ладно, на. Он бросил мне коробку со спичками и пошел дальше делать свое «великое» дело. Я приподнялся и даже смог сесть. С трудом и горем я снял с себя штаны и кальсоны, зажег спичку и, пока она горела, я вытирал кальсонами желтую жидкость, бежавшую из открывшейся раны на ноге. А она текла, как лава из прорвавшегося вулкана, издавая зловоние. Когда прекратились выделения, я снял с себя и рубашку, разорвал ее на ленточки, смастерил из них бинт и забинтовал ногу. Попробовал спуститься с нар, удалось мне и это. Но в это время услыхал на дворе шорох. С трудом, насколько мог быстро влез на свои нары, укрылся бушлатом и лег.
Прошел очередной обход санитаров, я снова спустился вниз. Теперь в полумраке ориентировался я хорошо. Прошел к тому месту, откуда врывалась к нам полоска света, и, убедившись, что эта дверь на замок не закрывается, попробовал открыть. Это был тамбур, но наружная дверь отказалась закрытой. В тамбуре лежали трупы, как дрова в штабелях. Трупы не успевали хоронить, так как грунт был твердым. Вернувшись, я влез на свои нары и лег, но сон меня оставил.
Я вспомнил, когда нас привезли на Колыму, в город Магадан, в Ситцевый город, как тогда называли его за палатки. В самом городе было несколько домов, другие дома находились в процессе стройки, а пересылка помещалась вся в палатках. Палатки, да и сам город, разделенный на несколько зон, окружены колючей проволокой и заборами. Я решил тогда пробраться в УРЧ (Учетно-распределительную часть пересылки — прим. автора). Для этого мне пришлось несколько раз перелезть через забор, рискуя быть снятым стрелками, через заграждение колючей проволокой. До УРЧ я добрался благополучно. А когда меня спросили, по какому вопросу, то пожаловался на то, что в Комсомольске-на-Амуре неправильно заполнили формуляр.
Мне написали, что у меня двадцать, а не десять лет. На это заведующий УРЧ спросил: какая разница, двадцать или десять? Разница большая. Десять лет я, возможно, проживу, а двадцать не надеюсь. Тогда заведующий УРЧ не стал больше со мной разговаривать, вызвал конвоира, и меня водворили в пересылочную палатку. Только теперь я понял, что разницы между двадцатью и десятью годами не существует. Даже сейчас, когда у меня осталось только четыре года, я могу стать окоченевшим трупом и меня вынесут при последующем обходе санитары в тамбур. От этой мысли сразу стало холодно, я старался укрыться бушлатом, но дрожь настолько завладела мной, что справиться с ней я был не в состоянии. Тогда машинально напялил штаны, надел телогрейку и бушлат, слез с нар и вышел снова в тамбур. Справа в тамбуре было небольшое окно без стекла. У меня мелькнула мысль бежать из этого убежища для мертвых. Снял бушлат и выкинул его в окно, тем самым отрезав себе путь к отступлению. Поднявшись по трупам к окну, я ухватился за выступ стены ногами и полез вперед на улицу.
Окно оказалось невысоко от земли, поэтому я легко смог спуститься вниз. Я надел выброшенную одежду, выбрался на дорогу и пошел к палаткам, расположенным рядом с поселком. Я шел, пока меня не остановил человек, стоявший у одной из палаток. — Эй, браток! Ты куда так рано? — Я растерялся, но, переводя дыхание, ответил. — Я с пятого лагпункта. Ищу хирургическое отделение. — Ах, вот оно что, видно, что новенький. Ну, ты попал правильно, это и есть хирургическая. Ты заходи, там нет никого, рано еще. Там одни больные лежат.
Я вошел, пробрался опять в уголок и сел. Теперь я боялся, что меня узнают, если обнаружат мое исчезновение из палатки номер 10. Но тут оказалось тепло, я подсунул голову под полу бушлата и задремал. Сколько я спал, не знаю.
— Ты чего тут? — спросил меня человек, толкнув в плечо. Я открыл глаза и, не поднимая головы, боясь встретиться взглядом с санитаром, ответил. — Я с пятого лагпункта. Нога болит. — Пойдем в приемную.
Человек помог мне подняться и завел меня в хирургическое отделение. Попросил раздеться и спросил, где мои кальсоны. Я ответил, что из ноги побежала сукровица, я перемазал кальсоны и выбросил, а рубашку изорвал на бинт. Он помотал головой, обработал мне рану и сделал перевязку. Потом показал мне пустую койку.
Больных тут было много. Но мне было не до них, я все еще боялся, что меня начнут искать.
— На этой койке умер один, от гнойного абсцесса. — сказал мне сосед.
— А мне все равно, — ответил я, укрываясь одеялом в первый раз с тех пор, как ушел с пятого лагпункта.
Наступил обычный день. Вошли санитары-уборщики и сказали, что нас сегодня придет проверять главврач. В 11 часов в нашу палатку вошел главврач, который меня направлял в сангородок. Он спросил, почему я так долго не приходил на прием. Меня подмывало рассказать, что делается у него в сангородке, особенно в десятой палатке, но побоялся. И решил отмолчаться. Главврач попросил разбинтовать ногу и сказал медбрату, что придется ее ампутировать выше коленки.
— Нет! – запротестовал я. Ноги резать не дам. — Ты же умрешь от гангрены. — Не дам. Умру, вы обо мне плакать не будете, пачками умирают, никто не плачет. Я хочу умереть с ногами. — Значит, не хочешь спасти себе жизнь. — Жизнь моя и так пропащая, с ногами далеко не уйдешь, а без ноги и домой идти не захочешь.
Врач встал и отошел от меня, не сказав ничего лечащему врачу, который обрабатывал мне ногу в первый раз. Пусть будет что будет, но без ноги жить не хочу. Думал так я, пока врач осматривал остальных больных. После обхода главврача ко мне подошел тот человек, который мне в первый раз делал перевязку и указал кровать. Он тоже, оказывается, был врачом хирургического отделения. Он снова обработал мою ногу и наложил новую повязку. И хотел уже уйти.
— Как вас зовут? — спросил я. — Для чего вам? — Так не знаю, кому спасибо говорить? А вы этого заслуживаете. — Зовут мня Иван Петрович. Я сам нахожусь с вами на одном положении. И от меня очень мало зависит ваша участь. Вот только и могу, что раны обработать на совесть. — И на том спасибо, спасибо за вашу добрую душу.
Иван Петрович ничего не ответил мне, перешел к другому больному и также тщательно стал промывать рану на руке.
На второй день, когда мы совершенно не ожидали обхода главврача Шерстеникина, он снова к нам пришел вместе с главным хирургом и с Иваном Петровичем. Все трое прошли прямо к моей койке. Иван Петрович подал табурет Шерстеникину. Второй мне подложили под ногу. Иван Петрович разбинтовал ною ногу. Нога, черная и опухшая, представляла зрелище не из приятных.
И снова Шерстеникин, как и вчера, мне предложил. — Ну как? Не надумали решиться на операцию? — Нет, не надумал, я не дам резать. Вы и сами знаете, что при цинготном абсцессе ампутация противопоказана. Почему же вы настаиваете, мне непонятно? Умирать все рано, только с ногой веселее.
Хирурги переглянулись, но, ничего не говоря, главный хирург наклонился над моей ногой, взял пинцет и долго рылся в ране, как в потухшем кратере.
— Какое ваше мнение, товарищ Мирзоев? — обратился Шерстеникин к главному хирургу, который все еще изучал мою рану.— Будем лечить, — ответил тот, подавая пинцет Ивану Петровичу. — Зайдите ко мне за лекарством. И они все трое вышли из палатки.
Теперь убедился, что меня или не узнал Шерстеникин, или ему было безразлично, откуда я явился к нему. Или он просто забыл о том, что направлял меня в палатку номер десять.
Моя ноги все еще покоилась на табуретке с открытой раной. Но через 15 минут вошел Иван Петрович и засыпал рану каким-то белым порошком. Потом узнал, что это был стрептоцид. — Вот теперь так засолю твою рану, что вовеки не испортится, — смеясь, сказал он, забинтовал ногу и вышел.
— Так, говоришь, с ногой умирать веселее? — спросил сосед, лежавший справа от меня.
— Конечно. А вдруг и на том свете заставят ходить на работу? Как пойду? — ответил я, стараясь шутить.
— Кажись, находились на этом. Весь ад прошли, а рай-то, видать, только обещают. Испокон веков обещают рай, а все в аду варимся.
— До рая-то, говорят, путь узок. Раньше говорили, что в рай попасть нелегко, легче верблюду в угольное ушко пройти, чем рабочему человеку в рай, — отозвался сосед слева.
— Вот зажила бы нога, а там хоть ад, хоть рай, все едино. Как-нибудь три с половиной года шагал бы. Детей повидать хочется, без отца живут. Жинке нелегко с двоими, поди тоже не в раю сидят. Хоть бы письмо получить.
— Давно тут? — Год скоро. — Все пять? Чего с таким сроком на Север попал? — Двадцать было. Москва скостила. Может быть, и полностью разберутся?
— Да-а-а. — протянул сосед. — Ежели бы разбирались по порядку, столько людей не гибло бы.
— Где там по порядку разбираться? Вот тут и то два мнения, один говорит, что ногу резать надо, другой лечить будем. А ежели бы сразу лечили, то и говорить бы не о чем было. До такой степени болезнь не дошла бы. Да что говорить? Хорошее дело поставил, оно и пойдет хорошо до конца, а напортачишь сначала, потом и путаешься, пока на правильный путь попадешь. Много лесу наломали. Когда молодой да крепкий вырастет?
— Да, лес рубят, щепа летит. Жизнь, как вода. Все течет и течет. Где ровно, а где бурливо. Где берега сдерживают, а где и разольется. И затопит все, что на пути встретится, и опять войдет в берега. И подвластная законам природы смирится и пойдет по-старому, а иногда по-новому руслу. С новыми препятствиями, перекатываясь через новые пороги и заливая новые места. А люди, как щепки на этой воде, то собьются вместе, то разойдутся, гонимые волнами. И кто доплывет до своей тихой пристани, кто погибнет в пучине, не дожив века, — сказал сосед справа и замолчал.
Потом повернулся лицом к стене. Замолчали и мы, не желая нарушать сон товарища. В палатке стало темнеть и стало совсем темно.
На этом воспоминания заключенного Берникова заканчиваются. Неизвестно, в каком году Берников освободился, был ли реабилитирован. Как потом сложилась его судьба. В музее больше никакой информации о заключенном ГУЛАГа Берникове нет, и сотрудники надеются, что после публикации кто-то из родственников отзовется.
ВЦИОМ: В России «блатные» песни любят больше, чем «революционные», каждый третий — музыкант — Общество — Новости Санкт-Петербурга
ВЦИОМ не смог подобрать варианты ответов к трети музыкальных направлений, которые любят россияне. В ответ на вопрос государственной службы социологии «Какую музыку вы любите?» 33% респондентов выбрали «другое». И это второй по популярности ответ после «эстрадных песен», которые интересны 36% участников исследования. На третьем месте оказались «народные песни» (28%). «Рок» и «военные песни» замыкают пятёрку самых популярных ответов с результатом 25% и 21% соответственно. Данные опубликованы 9 ноября на сайте ВЦИОМ.
При этом «марши» подчинённые Валерия Фёдорова отделяют от остальной «военной» музыки, и именно марши предпочитает каждый двадцатый гражданин (5%). «Революционные песни» ценит ещё 4% россиян, и эта доля меньше, чем доля знатоков «блатных» песен (5%). Народное околотюремное песенное творчество для ВЦИОМ не является «авторской песней». Этот вариант без «блатных» примесей выбрал каждый пятый респондент — 21%. Ещё 10% отдельно любят «походные песни».
Каждый седьмой гражданин РФ в 2020 году предпочитает «старинные романсы» — 16%. По 13% граждан любят джаз и симфоническую музыку. Каждый десятый любит оперу (9%) и столько же способны отдельно разбираться в оперетте.
72% россиян никогда не занимались музыкой с преподавателями, однако умеют играть на различных инструментах суммарно 37% собеседников ВЦИОМ. 15% имеют навыки игры на струнных инструментах вроде гитары и балалайки. Каждый десятый россиянин не растеряется за фортепиано, а каждый двадцатый умеет растягивать меха гармони или аккордеона, одновременно нажимая нужные кнопки и клавиши.
В Петербурге и Москве меньше всего россиян, которые заявляют, что музыкальное образование их детям и внукам «не нужно», — 26%. Почти каждый второй совершеннолетний гражданин РФ (46%) хотел бы, чтобы его потомки умели играть на музыкальных инструментах, а каждый седьмой участник исследования (14%) — чтобы его дети пели в хоре или были дирижёрами.
Опрос был проведен 6 октября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
«В СССР была отличная музыка, о которой никто в мире не знал»
Российская наука еще с XVIII века имела ярко выраженный немецкий акцент. Поэтому нет ничего удивительного в том, что немалую часть основополагающих работ по русской культуре написали ученые германского происхождения. Наиболее полный для своего времени словарь русского языка составил датчанин Даль, фундаментальную работу по русским фамилиям написал немец Унбегаун, самую точную и подробную биографию Чехова — англичанин Рейфилд. Эту традицию продолжил немец Ульрих Хуфен, автор самой полной истории советской блатной песни.
Филолог-славист Ульрих Хуфен написал популярное исследование о блатной песне так, как это не сделал до него ни один российский автор. Ничего подобного почти академическому сочинению о блатной песне, точнее, об альтернативной, подпольной поп-музыке в СССР на книжном рынке до сих пор не было. После легализации блатного жанра в перестроечные времена не было недостатка и даже был переизбыток публикаций и книг о нем. Получился кризис перепроизводства, за деталями потерялась суть. Использовав технологии немецкой контекстуальной, конкретной журналистики, Хуфен создал вполне эпическое произведение. Четыре героя — Леонид Утесов, Аркадий Северный, Костя Беляев, Гарик Осипов возвышаются, как скалы, посреди океана андерграундной анонимности. Рядом появляются и исчезают фигуры второго плана, но без них не было бы первого: комический поэт с трагической судьбой Яков Ядов — автор суперхита «Бублички», талантливый продюсер и поэт Рудольф Фукс — «создатель» Аркадия Северного, штрафной бизнесмен и поэт Борис Тайгин, придумавший «Золотую собаку», лихой одессит Стас Ерусланов, продюсировавший «одесские гастроли» Северного. В своей работе Хуфен сумел подвести внятный культурологический итог 20-летней постперестроечной дискуссии о смысле и сути блатной — озорной, городской, дворовой — песни.
«Они просто пели что хотели»
Для многих советских слушателей Аркадий Северный находился в одном ряду с американскими музыкальными иконами
Фото: Сергей Соколов
В начале книги описывается ситуация: Сталин дает прием, там присутствует Утесов, и вождь говорит артисту: «Ну спой для нас южные песни!» Утесов немного шокирован, потому что в 1930-х годах уже как бы нельзя их петь, но все же он поет «Гоп со смыком». После этого блатные песни уходят в подполье вплоть до перестройки. Почему Сталин их запретил, хотя явно любил?
Они не соответствовали новой политике! Но официального запрета не было, по крайней мере мне о нем неизвестно. Просто само собой стало ясно: анархия южных песен не вписывается в новую консервативную фазу, наступившую через 15 лет послереволюционного хаоса. Сталинская реставрация потребовала нового искусства — неоакадемического по сути. Требовалось описывать мощь стальных комбинатов и биографии героев труда, а не каких-то сутенеров, крутивших шуры-муры с Марусями, Розами и Раями.
А как вышло, что вы, филолог из Германии, стали писать о блатных песнях?
Я изучал славистику и историю Восточной Европы, написал хороший диплом, я, так сказать, профессиональный литературовед и историк. Начинал карьеру в музыкальном журнале Spex из Кельна, в 1980-1990-х годах он был в Германии поистине легендарным. Мне было важно многое из того, о чем писали авторы круга Spex, но никто из них не интересовался происходящим в России. Взгляды их были устремлены на Запад: Франция, Англия, Америка, Ямайка. Там происходило все самое интересное в современном искусстве, а Россия была вне поля зрения этих западных немцев. Ну а я всегда интересовался Россией и свои культурологические интересы в западной культуре всегда старался соединить с тем, что творилось в России. И если посмотреть на то, чем вообще заняты в Германии слависты, то неудивительно, что именно я написал такую книгу. Нормальный профессор, со всем исследовательским аппаратом, со всеми своими сотрудниками, он таким смутным делом не занялся бы.
Подпольные студии звукозаписи обычно оборудовались на частных квартирах, микрофоны подвешивались поперек помещения на растяжках, музыканты импровизировали, а певцы исполняли новые песни прямо с листа
Фото: Сергей Соколов
Они просто не интересуются тем, что выходит за рамки традиционной славистики?
Невозможно в этой системе координат сравнивать русскую блатную песню и, например, творчество московских концептуалистов. Хотя в американистике или англистике уже на протяжении многих лет считается совершенно нормальным специализация по поп-культуре. А слависты немного притормаживают. Наука должна быть занята высокой культурой, таков исходный пункт. От Достоевского и Тургенева до Владимира Сорокина и Андрея Монастырского. А что там люди пели, танцевали — это маргинальные темы. Но для меня все это пересекается: конкретная история, люди, песни — и определенный способ об этом говорить.
Один из главных героев вашей книги — Аркадий Северный принадлежит к табуированным фигурам, до недавних пор полузабытым, слишком маргинальным, чтобы тратить время на их изучение. И вообще, весь этот русский шансон…
А вот здесь уже начинается полное несовпадение. Потому что «русский шансон» — это новейшее понятие, в годы жизни Северного никто так не говорил. Никто! Это чистой воды маркетинговая находка 1990-х годов, когда в России не осталось запрещенных музыкальных стилей и жанров. И пришлось задуматься о том, как же теперь деньги на этом зарабатывать? Я, конечно, не присутствовал при этом, но предполагаю, что словосочетание «русский шансон» родилось как более нейтральное, менее вызывающее, чем «блатные песни». Так что вопрос определения не так прост. Никто из этих артистов не был ангажирован как профессиональный блатной певец на ставке в каком-нибудь ДК металлургов. Они просто пели что хотели. Северный пел огромное количество совершенно разных песен, можно сказать, он оставил целую русскую песенную энциклопедию ХХ и даже XIX века. Был у него, к примеру, альбом, кажется, назывался он «На московском дне», с кабацкими песнями. К этому добавляются песни ГУЛАГа, песни времен Гражданской войны, песни стиляжных времен, ну и конечно, настоящие блатные, одесские песни. Сами русские всегда мгновенно понимают, что к чему относится. Но никто не сможет дать исчерпывающее непротиворечивое определение. Должны ли эти песни повествовать о преступниках? Допустим, должны, а должны ли они исполняться только преступниками? Сочиняться ими? На самом деле это необозримое поле.
Исполнитель «озорной песни» Костя Беляев (в центре с гитарой) в начале 1960-х годов собирал немало слушателей на импровизированных пляжных концертах
Фото: из архива Тимофея Ларионова
Никто из описанных в книге исполнителей не был преступником?
То, что они делали, с точки зрения власти, всегда было криминальным, ведь это было запрещено: нелегальное предпринимательство, спекуляция. Хотя Северный не был бизнесменом, в отличие от продюсеров Фукса или Ерусланова. Фактически его нанимали примерно раз в две недели, чтобы записать очередной новый альбом, и он получал за это относительно высокие гонорары. Но у него совершенно отсутствовало всякое экономическое чувство. И сколько историй есть о том, как на ветер выбрасывал Северный все свои заработанные деньги.
В книге он описывается как настоящая звезда рок-н-ролла.
Да он таким и был!
Его личная история лихого саморазрушения напоминает классических рок-героев — Джима Моррисона, Курта Кобейна. Вспоминаются Серж Генсбур и Леонард Коэн: согласно легенде, родители этих двух знаменитых артистов — простые одесские евреи…
Да, здесь возникают четкие параллели. Во всяком случае, все эти люди были в первую очередь артистами, а никакими не преступниками в истинно криминальном значении. Не то что воры-убийцы сели да спели пару песен в свободное от душегубства время. Нет, они занимались музыкой! Но в их время музыкой, как они ее понимали, можно было заниматься, лишь постоянно находясь одной ногой в тюрьме.
«Классная музыка, кайфовые люди — вот был мой отправной пункт»
Автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов резко выступал против любого заигрывания с блатной культурой. Вы цитируете его и полемизируете с писателем-лагерником?
Аркадий Северный почти не давал настоящих концертов — пел либо по квартирам, либо для записи. Едва ли не единственное его живое выступление состоялось в московском кафе «Печора» незадолго до смерти
Фото: из архива Тимофея Ларионова
Шаламов — крупнейший русский писатель, я его очень почитаю. Его позиция совершенно ясна. Но при этом он же написал эти рассказы, значит, интересовался этими вопросами. Он пробовал это понять и хотел крайне точно описать. И это ведь не случайность, что именно рассказы Шаламова относятся к столь малому количеству авторитетных источников о лагерной жизни. Осмелюсь предположить, что он отчасти нарочно заставлял себя занять столь негативную моральную позицию по отношению к предмету, который так его интересовал.
Конечно, Северный и прочие романтизировали блатной мир по-своему, это началось с 1960-х и продолжалось в 1970-х годах, когда, между прочим, преступность в СССР была относительно невелика по сравнению с дикими 1920-ми или сталинскими лагерями 1930-х годов. В середине 1960-х Ленинград был крайне спокойным городом, особенно по сравнению с Нью-Йорком. И там жили вот эти молодые парни, которые искали свой экшен. И они были бесстрашными — вот важный момент: отсидев за свои дела по несколько лет в тюрьме, они выходили и тут же принимались за старое. Они были неукротимы! Шаламов, проведший полжизни в лагерях, не раз находившийся на грани смерти, он относился к этому совершенно иначе, чем эти молодые ребята в 1963 году. А были и такие люди, как академик Лихачев, писавший о блатных песнях в своих мемуарах. Он не придавал этому такого значения, как Шаламов, описывал это скорее побочно. Да Лихачев и спеть мог! Он веселил свою дочь, позже вспоминавшую о его домашних «концертах», и уж точно не боялся, что сделает ее преступницей, спев одесскую песню. И так было, думаю я, со многими людьми в СССР.
Получается альтернативная советская история: в стороне от диссидентов и охранителей режима, где выпускались пластинки с рок-н-роллом и джазом «на костях», где в советских 1950-х работал подпольный лейбл «Золотая собака»…
И самое сумасшедшее в том, что именно эти люди составляли большую часть Советского Союза! Принято рассматривать его историю либо как историю коммунистического монстра, либо через самоотверженную борьбу немногих диссидентов. Шаблоны восприятия и сегодня заставляют нас думать об СССР в понятиях борьбы систем, социализм против капитализма и т. д. Но СССР был полон людей, чувствовавших себя в этой системе как рыба в воде, просто потому, что это была их жизнь, они не были фанатами Брежнева, но и на антисоветские демонстрации не ходили. Конечно, много вещей в своей родной стране они находили тупыми и мерзкими. И прежде всего — правительство! Как, наверное, делает любой нормальный житель в любой стране. Так сегодня и в Германии происходит, несмотря на то что это достаточно сбалансированная страна. Любой молодой человек, желающий добиться в жизни лучшего, прочитав пару книжек и немного оглядевшись вокруг, считает эту систему ужасной. И он не хочет ничего общего иметь с Ангелой Меркель и «Мерседес-Бенцем». Но никто же не скажет, что это антигерманские люди! Это немцы в Берлине, Лейпциге и Кельне, которые считают свое правительство идиотским. Они хотели бы больше курить травы, отменить деньги или что-то еще в этом роде, но это все совершенно нормально, и так же было когда-то в СССР, вот что важно. Страна не состояла из одних только бетонноголовых сталинистов и диссидентов, одинаково лишенных юмора и самоиронии. Все эти разделения на официальное и неофициальное, на диссидентов и коммунистов не соответствуют реальности и просто скучны. Все было интереснее и в литературе, и в музыке, и в архитектуре. Страна была больше и многослойнее, чем знали и знают на Западе. В СССР была отличная музыка, о которой никто в мире не знал. Вот почему я книгу стал писать! Классная музыка, кайфовые люди — вот был мой отправной пункт.
С середины 1960-х годов государство преследовало подпольную звукозапись. К началу 1980-х Костя Беляев умудрился распространить свою сеть услуг на весь Союз.
Вы сказали, что моя книга — это альтернативная история СССР, но это в не меньшей степени и история технического прогресса. Утесова мы знаем, потому что в его время возникла массовая граммофонная запись. Он воспользовался услугами передовой техники в 1932 году, и это первые записи блатных песен. Так технические изменения влекут за собой культурный передел. Благодаря радио, кино и звукозаписи Утесов приобрел тот масштаб, в котором он как артист нам знаком. Затем после войны были сначала записи «на костях», потом на самодельных пластиночных машинах. Потом, в конце 1950-х, все меняет появление магнитофона. Фукс сразу купил себе тогда такой магнитофон, несмотря на дороговизну. И вот уже вскоре многие люди могут тайно записывать у себя дома целые оркестры! Потом появились кассеты… История в моей книге заканчивается в общем-то в 1980-м году, когда умирает Северный, и в 1983-м, когда свой срок получает Беляев, хотя еще до этого он перестает делать новые записи, предпочтя свои гешефты. В четвертой главе о Гарике Осипове история продолжается уже в позднее послесоветское время. Но в жизни люди продолжали играть музыку и петь песни, только новая техника в этот раз уничтожила жанр — я имею в виду кейборд, клавиши, вот это вечное и бесконечное «умца-умца», коммерческий «русский шансон».
Можно долго рассуждать о том, насколько тексты современного русского шансона отличаются от того, что делал Северный, или спорить, насколько вообще личность Северного важна для современных представителей жанра, но я нахожу его — в первую очередь именно с музыкальной точки зрения — ужасным. Вспоминаю одно интервью с покойным Михаилом Кругом, в котором он рассказывает, как уважает Путина, государство и братков, живущих по понятиям. Все это пацанство неожиданно оказывается связанным с теми, кто у руля, у власти. И эти певцы становятся членами партии «Единая Россия» и сидят в Госдуме. Ни Северного, ни Беляева невозможно представить себе в этих официозных декорациях.
Но сегодня есть и другие артисты, в творчестве которых отзывается музыка Северного.
Я разговаривал как-то со Шнуром из группы «Ленинград», ясно, что он многие из тех старых песен впитал буквально с молоком матери. Но он рассказал, что, лишь когда он начал свой проект, кто-то дал ему записи Северного и Алеши Димитриевича. И он не должен был знать по именам этих исполнителей — их песни были повсюду! В Питере ходит даже легенда такая, что в «Ленинграде» одно время играл тот же барабанщик, что играл еще с Аркадием Дмитриевичем Северным. Но это вряд ли может быть правдой. Так вот, записывая свой альбом под названием «Второй магаданский концерт», Шнуров старался воссоздать тот дух, что живет в аранжировках 1970-х годов. «Блатные песни — это наш рок-н-ролл»,— сказал мне Шнуров.
Фотографии предоставлены Ульрихом Хуфеном
Подписи
Для многих советских слушателей Аркадий Северный находился в одном ряду с американскими музыкальными иконами
Подпольные студии звукозаписи обычно оборудовались на частных квартирах, микрофоны подвешивались поперек помещения на растяжках, музыканты импровизировали, а певцы исполняли новые песни прямо с листа
Исполнитель «озорной песни» Костя Беляев (в центре с гитарой) в начале 1960-х годов собирал немало слушателей на импровизированных пляжных концертах
Аркадий Северный почти не давал настоящих концертов — пел либо по квартирам, либо для записи. Едва ли не единственное его живое выступление состоялось в московском кафе «Печора» незадолго до смерти
Расшифровка блатных автомобильных номеров | Дубли.рф
Часто наше внимание на дороге цепляют «красивые» автомобильные номера. Их обычно называют блатными, ведь получение такого сложно назвать счастливой случайностью. Совпадающие или зеркальные буквы и цифры, а также сочетания, наделяемые особым смыслом. Своеобразной расшифровкой таких «блатных» номеров наверно занимался каждый, но на самом деле, многие из них имеют вполне конкретную подоплеку и могут давать определенный сигнал сотрудникам ДПС и другим участникам движения. Невозможно дать однозначную расшифровку всем автомобильным номерам, поэтому в списке приведены самые распространенные из них.
МОСКВА
ЕКХ77 — номера, выделенные для автомобилей Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Распространенной версией расшифровки такого набора букв является история, некогда представленная в журнале «Автопилот». Согласно ей, желая добавить к уже закрепленной за ФСО серии ААА новую, начальник службы, Юрий Крапивин обратился к Борису Ельцину, бывшему тогда президентом РФ. Вместе они выбрали ЕКХ как сокращение от «Ельцин+Крапивин=Хорошо». Официальной же расшифровкой считается «единое кремлевское хозяйство». Есть еще один вариант, прижившийся в народе — «Еду как хочу». Сейчас эту серию можно встретить нечасто.
ЕКХ 99, ЕКХ 97, ЕКХ 177, СКА77 – Федеральная служба охраны РФ.
ХКХ77 – частично автономера ФСБ, частично распродана.
САС77 — сейчас не встречается, когда-то принадлежала ФСБ.
АОО77, ВОО77, МОО77, СОО77 — характерны для автомобилей, которые приписаны к Управлению делами президента.
КОО77 — Конституционный суд, частники.
AMP97 — серия образовалась в результате борьбы с большим количеством спецсигналов. Эти блатные номера были выданы автомобилям, за которыми, вне зависимости от принадлежности, было сохранено право использовать синие фонари (за исключением АААФЛ). Так, часть серии принадлежит ФСБ, часть МВД и часть другим структурам, например, администрации президента.
АКР177, ВКР177, ЕКР177, ККР177 – также были выданы тем, кто попал под отмену использования синих автомобильных мигалок. Из последних двух серий, вероятно, что-то досталось и частникам.
ЕРЕ177 – около 300 номеров послужило заменой для «флаговых» ГосДумы. Народная расшифровка – «Единая Россия едет».
ООО77, 99, 97, 177, 199 — сейчас по большей части частники и коммерсанты.
CCC77 — серия отличает автомобили Фельдъегерской службы, Центра спецсвязи, Министерства связи и «близких» к ним структур, а также может использоваться на личном транспорте. В народе известная расшифровка таких блатных номеров — «три Семёна».
CCC99 — преимущественно частники.
CCC97 — ГЦСС и частные.
МММ77, 99 — сейчас – частники, до появления синих автомобильных номеров – МВД.
ААА77, 99, 97, 177, 199 — сейчас с высокой вероятностью частники.
ХХХ99 — частники, ФСБ.
ККК99 — частники.
ННН99 – могут быть у сотрудников налоговой полиции, ГНК, частников.
Другие одинаковые буквы — просто «красивые» автомобильные номера. Расшифровку можно додумать самим.
АММ77 — серия для личных авто блатных и служебных начальства ГИБДД в столице, раньше предназначалась для машин МВД РФ.
*ММ77 — прежде чем появились синие автомобильные номера, использовалась Московской милицией.
АМР77 — ранее только автомобили ЦАБ МВД РФ, а сейчас частные машины руководства и обычных граждан.
КМР77 — простые блатные номера.
ММР77 — частники, немного ФСБ.
РМР77 — серия соответствует автомобилям Министерства юстиции.
ТМР77 — недоступные в базе транспортные средства Департамента обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах, в том числе космонавты и частники.
АМО77 — администрация Москвы, частники. Первоначально у этих автомобильных номеров была еще одна особенность: отсутствовал триколор, а буквы rus были объемными.
АМО99, 97 — блатные частники, в т. ч. имеющие непосредственное отношение к администрации Москвы.
НАА99, ТАА99, САА99, ХАА99 – «закрытые» в базах серии (ПОПИЗ – по письменному запросу).
EPE177 — депутаты Федерального собрания, частники (народная расшифровка — «Единая Россия Едет»).
СКО199 — Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.
Одинаковые буквы и цифры 177 – блатные, крайне распространенные около здания Госавтоинспекции на Садовой-Самотечной.
Любые «круглые» номера, особенно первые десятки с двумя нулями в начале (001-009) или конце (100, 200, …, 900), с тремя одинаковыми цифрами (111, 222, …, 999), самые престижные блатные сочетания — 77777 или 99999, у которых все цифры, включая код региона, совпадают.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ААА54 — первые сто номеров принадлежат полпреду президента, дальше – блатные.
ННН54 — автомобили мэрии Новосибирска, администрации Новосибирской области и областного совета. Среди горожан популярная расшифровка «Не трожь Новосибирское Начальство». Интересно, что броневики одного из коммерческих банков тоже используют номера «ННН», но кемеровские.
АСК54 — УФСБ по Новосибирской области, после 200-го — блатные.
АНО54 — старая серия для администрации Новосибирской области (использовалась до введения «ННН»).
РРР54 МОР54 — «морозовские» номера, такая расшифровка связана с введением их бывшим начальником УГИБДД Петром Морозовым.
НСО54 — блатная «яковлевская» серия, название получила благодаря бывшему начальнику УГИБДД Виталию Яковлеву.
МРО54 — Когда в серии автомобильного номера запретили использовать букву D, сменили старую MVD54. С приходом начальника УГИБДД С. В. Штельмаха снова была заменена. В народе господствовала такая расшифровка: «Менты Разочаровали, Обидно».
ООМ54 — спецсерия начальника УГИБДД С. В. Штельмаха.
МВУ54 — номера ГУВД по НСО.
ВВВ54 — серия начальника ГУВД по Новосибирской области.
УВУ54 — используется РУВД и ГАИ.
УВО54 — Управление вневедомственной охраны при ГУВД по НСО.
Другие серии номеров с мигалками
ВМР – правительство, частные лица, банки.
ЕЕЕ – частные лица, имеющие блат в ГИБДД. Даже в расшифровке не нуждается, судя по буквам, обладатели довольны.
ККХ – ФСБ, ФСО и пр.
КММ – пожарные и блатные.
ОМР – правительство, банки, избранные частники.
СММ – полиция и часть по блату (СММ обычно расшифровывают как маркетинг в социальных медиа, ну может кто-то из них действительно там работает).
ССС – ФСО, ФСБ, правительство, частные лица, имеющие блат в ГИБДД.
УМР – правительство и частники по блату.
УУУ – исключительно блатные.
Расшифровка блатных автомобильных номеров поможет вам чуть лучше понимать происходящее на дороге. Воспользуйтесь возможностью перерегистрации автомобиля с сохранением номеров, если не хотите расставаться со своим номерным знаком при смене авто.
Знаток блатного фольклора выпускает книгу об истории шансона — Российская газета
Ростовский писатель, знаток уголовного мира, автор эксцентричного перевода Пушкина на жаргон русской субкультуры — «Мой дядя, честный вор в законе» — Александр Сидоров выпускает книгу об истории самых знаменитых песен русского шансона под рабочим названием «Песнь о моей Мурке».
Мурка затихарилась
Знаменитая «Мурка» — это настоящий эпос. Существует множество предположений о прототипе главной героини, о времени создания песни, о том, какие события она отражала. Первоначально героиня песни звалась Любкой, Любкой-голубкой. Позднее певец Вадим Козин (кстати, отмотавший срок в сталинском ГУЛАГе) вспоминал, что знаменитый припев «Мурка, ты мой Муреночек» сочинил для известнейшего в 20-е годы эстрадного исполнителя Василия Гущинского актер-эксцентрик Валентин Кавецкий.
В 1926 году в криминальном мире Ленинграда произошло очень значимое событие: уголовный розыск провел налет на самый известный притон питерских уголовников — трактир «Бристоль». Участники невиданной облавы прибыли к месту на нескольких десятках машин. В перестрелке были убиты пятеро бандитов, ранены двое милиционеров. Десятки уголовных «авторитетов» оказались в руках милиции.
За несколько месяцев до этого ленинградским оперативникам удалось успешно внедрить в осиное гнездо матерых преступников свою сотрудницу — Марию Евдокимову. Девушка только недавно поступила на службу в угро, никто из бандитов ее не знал. Мария выдавала себя за хипесницу — женщину, которая разводит мужчин на деньги при помощи сообщника в роли «внезапно появившегося» мужа. Евдокимова убедила хозяина трактира в том, что ей нужно на некоторое время «затихариться», и тот взял девушку на мелкую подсобную работу. В то время женщины-оперативники были большой редкостью, поэтому обычно подозревавший всех владелец «Бристоля» не проявил бдительности. Евдокимова вскоре примелькалась, на нее перестали обращать внимание. Уже через месяц агентесса собрала важные сведения об уголовниках, а также об их «наседке» в органах милиции. После этого, в ноябре, поздней ночью, и была организована упомянутая выше облава. Даже фамилии реальной агентессы угро и песенной Мурки созвучны: Климова-Евдокимова.
Впрочем, по другой, московской, версии, героиня превратилась в Мурку потому, что «мурками» называли сотрудников Московского уголовного розыска — МУРа. Существовала даже поговорка — «Урки и мурки играют в жмурки».
Изгои воровского мира
Но откуда «мурки» могли появиться в Одессе? Пришлось исследовать массу исторических фактов, анекдотов и вариантов песни.
Много разночтений и по поводу того, когда родилась песня, скорее всего — до 1926 года. Ведь после 1926-го, с введением уголовной статьи, бандиты и хулиганы стали считаться изгоями благородного воровского мира, о них никто не пел песен, и в блатном мире не признавали мурку «своей». Таких тонкостей очень много, надо знать и УК, и традиции тех лет.
При изучении «Мурки» исследователь наткнулся на любопытную историю. Песенка родилась после знаменитого похода 1933 — 1934 годов, когда академик Отто Шмидт на ледоколе «Челюскин» попытался пройти Северный морской путь за одну навигацию. Судно раздавило льдами, первопроходцы высадились на льдину, а героические летчики их спасали.
Советская пропаганда подавала это как великий подвиг, а народ отнесся к событию намного проще. Уркаганы написали по этому поводу издевательскую песню на мотив «Мурки»: «Здравствуй, Ляпидевский, здравствуй, Леваневский, здравствуй, лагерь Шмидта, и прощай. Все зашухарили, кораблик потопили — и за это орден получай».
Поскольку капитаном «Челюскина» был капитан Воронин, в песне появилась строчка «Капитан Воронин судно проворонил». Раскручивая пленку истории дальше, Сидоров находит упоминания о поэте Павле Васильеве, расстрелянном в 1937-м, любителе по-есенински похулиганить. Валериан Куйбышев, глава комиссии по спасению челюскинцев, пригласил его в Кремль, а тот, вместо того чтобы прочесть патриотическую лирику, выдал «Челюскинскую Мурку». Кстати, не исключено, что именно он и был ее автором… За что и поплатился жизнью.
Стою я раз на стреме
Или вспомним песню «Марсель». «Стою я раз на стреме, держуся за карман, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан…». «Он предлагал мне деньги и жемчуга стакан, чтобы я ему разведал советского завода план». Оказывается, у песни есть автор, Ахилл Левинтон — известный филолог-германист. После войны во время очередной кампании посадили и его. С 1945-го по 1951-й Левинтон был в лагерях, затем написал эту песню — издевательскую стилизацию под двадцатые годы. И она стала народной.
Был и еще один шлягер — «С одесского кичмана сорвались два уркана» в исполнении Утесова. Известно, что он был написан в 1928 году поэтом Борисом Тимофеевым для спектакля «Республика на колесах». Леонид Утесов играл бандита, на затерянной украинской станции он создает свою «республику» и исполняет «Кичман». Однако и название, и мелодия существовали еще до революции. Тимофеев лишь переделал и стилизовал песенку времен первой мировой войны.
Кстати
Александр Сидоров признается, что не единственный разгребал тонны словесной руды, работал в этой теме, называя имена Владимира Бахтина, Сергея Неклюдова и многих других исследователей. Нередко многое ускользало от внимания предшественников. Так, неизвестные строки «Цыпленка жареного» вдруг всплывают в воспоминаниях Чуковского. А затем вдруг благодаря свидетельствам шведского писателя, жившего до революции в питерских окрестностях, открывается, кого на самом деле называли «цыплятами» — ими были чухонские торговцы, носившие на голове клетки с живыми курами. Торговали они без патентов — и это отражено в песне, — цыпленку, гулявшему по Невскому, велели паспорт показать. «А паспорта нету — гони монету»…
Власть, конечно, боролась против воровской романтики. Но и она порою делала исключения. Так, пластинки Утесова с «Кичманом», «Гопом», «Лимончиками» были выпушены в начале 30-х годов специально для сети Торгсина — магазинов торговли с иностранцами. Где их можно было приобрести за валюту, драгоценности, золото. Когда ничего не было в городах, чтобы изъять у населения золото, искусственно создавали дефицит, в торгсине было все: лососина, шоколад.
Аудиокнига недоступна | Audible.com
Evvie Drake: более
- Роман
- К: Линда Холмс
- Рассказал: Джулия Уилан, Линда Холмс
- Продолжительность: 9 часов 6 минут
- Несокращенный
В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее внутри, а Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.
- 3 из 5 звезд
Что-то заставляло меня слушать….
- К Каролина Девушка на 10-12-19
Story Thieves | Книга Джеймса Райли | Официальное издательство Страница
Story Thieves Глава 1Оуэну хотелось кричать от ужаса перед ним. Но звука не было, и кошмар продолжался, заставляя Оуэна задавать себе в глубине души один вопрос:
«Может ли кто-нибудь сказать мне, сколько будет три четверти, умноженное на две трети?»
г.Барберри стоял у доски перед классом Оуэна, скрестив руки на груди, и ждал, когда поднимется чья-то рука.
Нет, не в этом вопросе. Настоящий вопрос заключался в следующем: есть ли в мире что-нибудь, что может быть скучнее дробей? Оуэн нахмурился, когда мистер Барберри отказался от добровольцев и просто выбрал кого-то. «Мари? Три четверти умножить на две трети? »
Быть запертым в комнате без окон и дверей, ничего не делать, с завязанными глазами и принуждением называть различные типы деревьев? Это было бы довольно скучно, но не дроби скучно.
«Половина», — ответила Мари, и мистер Барбери кивнул.
Может быть, если кто-то дал вам достаточно газировки, чтобы вы не уснули в течение нескольких часов, а затем прочитать вам инструкции по сборке мебели? На другом языке?
А что, если вы случайно начали изучать этот иностранный язык, не осознавая этого? Некоторым это почти того стоило. Так что это мгновенно исчезло.
«Оуэн?» — сказал мистер Барберри. «А ты? Одна треть умноженная на две трети ».
«Две девятые?» — сказал Оуэн с притворным энтузиазмом.
«Верно», — сказал мистер Барберри и снова повернулся к доске, в то время как Оуэн снова позволил своим мыслям блуждать.
Может быть, я застрял дома больной и слишком лихорадочным, чтобы думать или делать что-либо, кроме просмотра телевизора, и единственный канал, который пришел, был рекламным роликом для других рекламных роликов. Это было бы довольно скучно.
«Треть умножить на треть?» — спросил мистер Барберри. «Габриэль?»
«Одна девятая?» Габриэль ответил, его глаза остекленели.
Нет, дроби все равно выиграли. И во многом.
Если бы только звонок зазвонил раньше от какого-то странного скачка напряжения. Конечно, этого никогда раньше не случалось, но Оуэн был настроен оптимистично. И это было чем-то, чем он очень гордился, поскольку было нелегко быть оптимистичным перед лицом всех этих математических задач.
«Как насчет четырех пятых, умноженных на одну восьмую?» — спросил мистер Барберри. «Бетани, хочешь взять это?»
Ответа не было, поэтому мистер Барберри обернулся. «Бетани?»
Оуэн оглянулся через плечо и увидел, что Бетани сгорбилась за тетрадкой по математике, ее головы даже не было видно.На самом деле она не спала, не так ли? Это было бы смело. Тупой, но храбрый.
В любом случае, по крайней мере, что-то происходило, а это означало, что занятия стали немного менее скучными. Оуэн прикрыл улыбку рукой. Дробная часть. Ха!
«Вифания!» — крикнул мистер Барбери.
Бетани дернулась на стуле, и ее учебник по математике упал вперед, открывая что-то еще позади: Чарли и шоколадная фабрика.
Угу.
Мистер Барберри на секунду впился взглядом в Бетани, когда она огляделась, на ее лице была смесь замешательства и страха.Оуэн поморщился, ожидая, когда мистер Барберри начнет кричать, но, к счастью, в этот момент прозвенел звонок, отпустив их на обед.
«Хорошо, вперед, — сказал мистер Барберри. «Все, кроме тебя, Бетани».
Девушка кивнула, ее длинные волосы бронзового цвета упали ей на лицо. Оуэн сочувственно посмотрел на нее, затем заметил кое-что странное.
Это был шоколад на подбородке?
Но затем другие студенты заблокировали его обзор, и он пожал плечами, не желая, чтобы на него тоже накричали.Кроме того, обед означал, что у него по крайней мере полчаса не было дробей.
После ожидания в очереди за обедом, которую он должен был не забыть добавить в свой список самых скучных вещей, Оуэн носил свой поднос с пиццей и молоком по кафетерию в поисках места. Он подумал об одном столе с парнями из его класса, но они проигнорировали его, когда он подошел, поэтому он продолжал идти, делая вид, что всегда хотел сидеть один.
Вот почему он все равно принес книгу. Сидеть в одиночестве было не в новинку.
Оуэн уже дважды прочитал Киля Гноменфута и «Конец всего», но на следующей неделе выходит седьмая книга из этой серии, так что наверстать упущенное не помешало. В любом случае было достаточно сложно достать копию из библиотеки, несмотря на то, что его мать там работала. Эта книга закончилась тем, что доктор Верити неожиданно напал на магистра, учителя Киля, в конце концов. Оуэн лично знал по крайней мере пять человек, которые плакали при мысли о том, что Магистр может умереть. И десять человек, которые назвали сериал мошенничеством с Гарри Поттером, что в некотором роде было, но всем он все равно понравился.
Когда Оуэн начал читать последнюю главу, где доктор Верити ворвался в перевернутую башню Магистра, он краем глаза увидел, как Бетани вошла в кафетерий. Она плюхнулась за стол в другом конце комнаты, затем вытащила книгу и подозрительно огляделась. Затем она опустила голову, что-то съела и снова села, снова оглядываясь по сторонам.
Что она делала? Ешьте за книгой? У нее вообще была еда? Была ли она…
Упс. То, чем она была сейчас, смотрело на него.
Оуэн сразу посмотрел повсюду, кроме Бетани, но было уже слишком поздно. Она захлопнула книгу, бросила на него неодобрительный взгляд и с раздраженным раздражением вышла из кафетерия.
Оуэн вздохнул и уронил свою книгу на стол. Вероятно, ей стало неловко после того, как на нее накричали, и она не хотела, чтобы на нее смотрели, а это означало, что он только усугубил ситуацию. Потрясающие.
Его чувство вины заставило Оуэна встать со своего места и после Бетани извиниться или пошутить.Только к тому времени, как он добрался до коридора, Бетани уже не было. Фактически, весь коридор был совершенно пуст, за исключением копии книги «Чарли и шоколадная фабрика», которую только что читала Бетани, которая теперь лежала на полу прямо под шкафчиком.
А? Мало того, что она только что оставила книгу на полу, но, что еще хуже, Оуэн мог сказать даже на расстоянии, что она пришла из библиотеки его мамы. Это даже не ее книга!
А на нем были пятна от шоколада?
Это было не круто.О чем думала Бетани? Кто проверил книгу и полил ее шоколадом, даже если она, знаете ли, соответствует истории? Другие люди тоже хотели читать эти книги и не хотели, чтобы на их экземпляре были пятна от еды.
Покачав головой, Оуэн схватил книгу и бросил в сумку, затем вернулся в кафетерий, чтобы вернуться к важным вещам, таким как нападение доктора Верити на Магистра. К сожалению, колокол тогда решил прозвенеть — жестоко, но ожидаемо. Оуэн вздохнул, выбросил мусор и вернулся к еще нескольким часам ошеломляющего полуобучения.
В конце концов, к счастью, день закончился, и Оуэн вылетел из парадной двери, как будто его выпустили из пушки. Было так приятно быть вне дома, что он намного быстрее пошел в библиотеку своей матери, где она работала почти каждую ночь. Как обычно, Оуэн приходил и помогал, где мог, в основном потому, что она его заставляла, но частично потому, что было просто весело находиться рядом со всеми книгами.
Он поздоровался с мамой, которая бегала слишком много дел, затем занял свое обычное место у стойки регистрации, где несколько часов проверял книги людей.Эта работа может быть интересной (видеть, что люди читают), смущающей (видеть, что люди читают), или скучной (видеть, что люди читают). Обычно ему удавалось охватить по крайней мере два из трех каждые несколько минут, и сегодняшний вечер не стал исключением.
Когда все, наконец, остыло, Оуэн вздохнул и достал домашнее задание, зная, что его мать, независимо от того, насколько она занята, заметит, что он не занят, и заставит его сделать это в любом случае. Только когда он пошел вытащить свой учебник по математике, в его сумке оказалась копия книги Бетани «Чарли и шоколадная фабрика».
Гм, упс. Он вроде бы совсем об этом забыл. Он поднял его, чтобы вернуть Бетани и осуждающе взглянуть на нее из-за шоколадных пятен. Но теперь, когда он подумал об этом, занималась ли она наукой после обеда? Он не мог припомнить, чтобы она была там или в каком-либо другом классе в тот день. Может быть, она ушла домой больной, съев слишком много шоколада и использовав библиотечную книгу вместо салфетки.
Оуэн пожал плечами и вернул книгу в библиотеку. Она знала, где его найти, если захочет снова.
Его мать поймала его, складывая книгу в стопку, которая должна была вернуться на полки, и посмотрела на него. Он вздохнул и встал, зная, к чему все идет. «Все они попадают в детскую секцию», — сказала она. «Я запираюсь, но после этого мне нужно позаботиться о некоторых делах в офисе, так что закончите домашнее задание, когда закончите».
тьфу. Конечно. Оуэн взял стопку книг примерно вдвое ниже своего роста и медленно провел их обратно в детскую секцию.
Как обычно, это был беспорядок, как ураган, обрушившийся на ядерную бомбу прямо возле книг Рика Риордана. Оуэн вздохнул и окопался, откладывая в сторону несколько интересных книг, когда заметил их. Это было единственное хорошее в уборке — иногда он находил вещи, которые выглядели хорошо прочитанными.
Десять минут спустя детская секция была по крайней мере чище, со случайными стопками, сложенными на переполненных полках. Оуэн с грустью посмотрел на стопку книг, которые он принес сюда, чтобы положить обратно, затем снова вздохнул и взял Чарли и шоколадную фабрику, зная, что для них не будет места.
Но затем, когда он нашел раздел D для Роальда Даля, произошло нечто странное. Его рука . . . прыгнул.
Он посмотрел на свою руку и книгу в ней, думая, что он только что вообразил толчок.
Книга в его руке снова подскочила.
«Ага!» — сказал он, уронив книгу. Он сильно ударил по полу и какое-то время просто сидел так.
Потом в третий раз подскочил.
Что происходило? Оуэн отступил, когда обложка и пачка страниц открылись сами собой.Была ли в книге привидения? Всю библиотеку преследовали привидения? Было ли нормально находить это крутым, даже когда боялись?
И тогда случилось последнее, чего в мире ожидал Оуэн.
Пять покрытых шоколадом пальцев вытолкнулись прямо из центра книги, схватились за край и начали сами себя вытаскивать.
3 истории реальных «Гринчей»: NPR
Воздушный шар Grinch парит над Нью-Йорком во время парада Macy’s в День благодарения 2017 года.На этой неделе настоящие Гринчи пытались украсть рождественское настроение. Стефани Кейт / Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Стефани Кейт / Getty ImagesВоздушный шар Grinch парит над Нью-Йорком во время парада Macy’s в День благодарения 2017 года.На этой неделе настоящие Гринчи пытались украсть рождественское настроение.
Стефани Кейт / Getty ImagesНекоторым трудно отказаться от мифа о Санта-Клаусе — человеке, который бесплатно доставляет подарки. Но человек, который ворует рождественских подарков? Людям из Пенсильвании, Айдахо и Флориды может быть легче в это поверить.
На этой неделе настоящие «Гринчи» во всех трех штатах украли у других людей рождественское настроение.
В штате Саншайн телеканал WPLG сообщает, что мужчина стащил рождественский венок из дома в Хайалиа. Затем он проехал около четырех миль обратно к своему дому и повесил украденный венок на входную дверь.
55-летний мужчина сдался властям, ему предъявлены обвинения в кражах со взломом и мелких краж, и, по данным WPLG, он содержится под залогом в размере 10 500 долларов.
В Филадельфии другая семья стала жертвой праздничного ограбления.
Виктория Монгони и ее муж подумали, что нашли идеальное убежище для детских подарков в багажнике семейной машины.
«Это хорошее укрытие от детей, а не где-нибудь в доме», — сказал Монгони телеканалу WPVI-TV.
Но когда ее муж оставил машину включенной, а он заскочил внутрь, чтобы вытащить ребенка из дома, кто-то украл их машину и все их рождественские подарки в придачу.
В преддверии праздника семья засыпает рождественским огурцом.
«Я не могу сказать, что Санта не выжил. Санта всегда делает это», — сказал Монгони WPVI-TV.«Я просто хочу вернуть подарки, это больше не машина».
По всей стране в Колдуэлле, штат Айдахо, другой семье повезло больше.
Двое мужчин были задержаны за то, что убегали с рождественскими гирляндами, украшающими дом в городе, сообщает телеканал КИВИ-ТВ. К счастью, большая часть украшений была обнаружена и находится на попечении полицейского управления Колдуэлла. Двое мужчин — обоим по двадцать с небольшим — были арестованы и обвинены в краже, хотя неясно, каковы были их мотивы.
Возможно, их сердца были на два размера меньше.
Story Thieves, Джеймс Райли
РАСШИРИТЬ ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
К Джеймс Райли
ЧТЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ LEXILE® MEASURE Эквивалент уровня оценки DRA УРОВЕНЬ
V
Жизнь скучна, когда ты живешь в реальном мире, вместо того, чтобы сниматься в своей серии книг.Оуэн знает это лучше, чем кто-либо, что с домашними делами в реальном мире.
Но все меняется в тот день, когда Оуэн видит невозможное: его одноклассница Бетани вылезает из книги в библиотеке. Оказалось, что Бетани наполовину вымышленная, и она искала каждую книгу, которую могла найти, о своем пропавшем отце, полностью вымышленном персонаже.
Бетани не может позволить никому узнать свой секрет, поэтому Оуэн заключает с ней сделку. : все, что ей нужно сделать, это взять его в книгу из любимого сериала Оуэна «Киль Гноменфут», и он никогда не скажет ни слова.Кроме того, посещение книги может помочь Бетани найти своего отца … или может просто разрушить серию Киля Гноменфута, раскрыть секрет Бетани всему миру и заставить Оуэна пережить финал Киля Гноменфута ( очень финал) приключения.
Развернуть сведения о продукте
Жизнь скучна, когда ты живешь в реальном мире, вместо того, чтобы сниматься в своей серии книг. Оуэн знает это лучше, чем кто-либо, с домашними делами и делами в реальном мире.
Но все меняется в тот день, когда Оуэн видит невозможное: его одноклассница Бетани вылезает из книги в библиотеке. Оказалось, что Бетани наполовину вымышленная, и она искала каждую книгу, которую могла найти, о своем пропавшем отце, полностью вымышленном персонаже.
Бетани не может позволить никому узнать свой секрет, поэтому Оуэн заключает с ней сделку. : все, что ей нужно сделать, это взять его в книгу из любимого сериала Оуэна «Киль Гноменфут», и он никогда не скажет ни слова. Кроме того, посещение книги могло бы помочь Бетани найти отца…. или это может просто разрушить серию Киля Гноменфута, раскрыть секрет Бетани всему миру и заставить Оуэна пережить последнее ( очень последнее) приключение Киля Гноменфута.
СОХРАНИТЬ В СПИСОК
СПИСОК ЦЕН 9,95 долл. США
ВЫ СОХРАНИТЕ 2,49 $
КОЛИЧЕСТВО ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ
В УЧИТЕЛЬСКОМ МАГАЗИНЕ
Сохранить в список желаний РАСПРОДАНОВ УЧИТЕЛЬСКОМ МАГАЗИНЕ
Сохранить в список желанийДобро пожаловать воры: Истории
«Захватывающие и безжалостно читаемые истории в Welcome Thieves взрываются, как струя петард, шипя и хлопая с повествовательной скоростью, равной твердости и полировки.Бодуан определенно заслуживает внимания »- Джонатан Эвисон, автор книги« Это твоя жизнь, Гарриет Шанс! »« Истории Шона Бодуана забавны и вдохновляют. Голоса его рассказчиков действительно живые. Welcome Thieves — замечательная и желанная книга ». — Сэм Липсайт, автор The Fun Parts
« Welcome Thieves — это завораживающий сборник рассказов, в которых странные и прекрасные миры, творения мрачного, а иногда и жестокого воображения Шона Бодуэна возникают как часть гобелена, сотканного настолько тонко, что мы не видим нити.В конце концов, мы можем только трепетать перед огромным талантом Бодуэна . «- Гарт Штайн, автор книги» Внезапный свет «
» Истории Бодуэна веселые и очаровательные, а также интимные, и да, они также определенно мрачные, но не в том смысле, в котором мне нужно было восстанавливающий сон во время чтения. Нет, я вышел из этой краткой лавины историй, чувствуя себя еще более бодрым и полным восторга в этом нелепом мире, в котором мы живем ». — Питер Маунтфорд, автор книги « Мрачная наука »
« Шон Бодуан из Сиэтла проходит мимо его ниша для молодых писателей — Welcome Thieves , сборник из 12 восхитительно мрачных рассказов.Почувствуйте отрывок из атмосферы бывшего рокера Бодуэна, которая пронизывает каждую странную историю профанно юмористическими и грубыми размышлениями о современной взрослой жизни ». — Seattle Metropolitan Magazine
« Смешно, дерзко, тревожно, мило — как эта книга наполняет разум и чувства жизнью. Язык Бодуана настолько оригинален и быстр, что он очень близок к опыту, обращается с ним так лояльно и красиво «. — Ребекка Ли, автор Bobcat and Other Stories
» (Beaudoin) освещает в своем читателе невидимый, бросающий свет в углы, о существовании которых мы даже не подозревали, освещая уровни чувств, о существовании которых мы либо забыли, либо даже не подозревали.И, что особенно важно, под бдительным взглядом Шона все прекрасны ». — Роберт Берк Уоррен, The Weeklings
« Разорванная коллекция сложных, необычных, блестящих историй ». — Джо Делл’Эрба для Вашингтонского независимого обзора книг
«Хороший сборник рассказов поддерживает общую нить, собирая рассказы, как если бы составили альбом, так что чтение его от начала до конца предлагает длительное упражнение в смысле.Приятно перевернуть последнюю страницу и почувствовать, как она переплетается со всеми предыдущими. « Welcome Thieves » Шона Бодуэна — один из лучших примеров, с которыми мне приходилось сталкиваться ». — Сэмюэл Саттин для Fiction Advocate
« Повествования, основанные на персонажах, мрачно-комедийны и наполнены неудачниками, такими как Примо и Альбатрос. , Дэнни и Стейк, Грустная девочка, Разр и Рой Бой, и Баттерфляй и Шер — персонажи настолько убедительны, что они одновременно жестокие и бессильные, искупительные и язвительные…. (Они) заполняют страницы Welcome Thieves , их сложности и слабости достаточно, чтобы рекомендовать Бодуана как ученика и блестящего толкователя человеческой натуры ». — Kansas City Star
Воров, которых я знал
В этих удивительно странных и откровенных историях Том Кили рассказывает о борьбе и победах молодых и маргинальных слоев населения, открывающих для себя множество способов взросления.
Их зовут Меррил, Омар, Шелби, Лайка, Уинстон и Туми, но большинство людей их не замечает.Это боксеры на тренировке и дети рыбаков. Они прислужники из бедного прихода. Они помощники садоводов и помощники хранителей верблюдов. Они путешествуют с цирком, заботятся о братьях и сестрах-инвалидах, угоняют полицейские машины и возвращают украденные ботинки священника. От Пьюджет-Саунд в Вашингтоне до Памлико-Саунд в Северной Каролине — это брошенные, но смелые и отважные дети и подростки, живущие на окраинах общества.
Воры, которых я знаю — это сборник мощных, трогательных историй о жизни искупительных и своеобразных молодых персонажей, которых легко узнать и которых трудно забыть.
Том Кили, наверное, мой любимый писатель рассказов, и этот удивительный сборник давно пора.
—Стивен Эллиот, автор книги Дневники Аддерала
Я никогда не ощущал такого места из коллекции историй, которые так охватывают всю страну. Персонажи Кили — выжившие, духовные и законные сироты, живущие в Америке, где настоящая радость и настоящая борьба разделяют неизменный забор с царством мифов. Это книга переходов и переходов, движений и разговоров, дикой местности и окраин, все это сделано с великолепной человечностью — и с такой ловкостью, от внезапной силы каждого заключения перехватывает дыхание.
— Скотт Хатчинс, автор книги A Working Theory of Love
Needy — не совсем правильное описание персонажей сильного сборника рассказов Кили. . . . Пока они живут на грани, их сильное чувство собственного достоинства и долга опровергает их нехватку средств, хотя ничто не скрывает их тяжелую жизнь. . . . Кили уверенно создает как персонажей, так и пейзажи, создавая незабываемую коллекцию
—Дэниз Гувер, Книжный список
Воры, которых я знаю — это собрание удивительных историй, неподвластных времени в своей способности раскрывать необычное в самой, казалось бы, обычной жизни.Пишет ли Том Кили о упаковщиках из продуктового магазина или алтарниках, цирковых работниках или боксерах-любителях, он переносит нас в сокровенные миры незабываемых мужчин и женщин, благодаря своему тонкому пониманию характера, его изысканной передаче места и его завораживающим предложениям. Воры, которых я знал — одна из самых трогательных и прекрасно написанных книг, которые я читал за последние годы.
—Лайсли Тенорио, автор Monstress
Мощная коллекция, мифическая по ощущению, Воры, которых я знаю — это книга, которую я давно ожидал от писателя, которым я давно восхищался.Я не одинок. Основатель Rumpus Стивен Эллиотт считает Кили, возможно, своим «любимым писателем рассказов».
—Скотт Хатчинс, The Rumpus
«Сказочные воры» захватывают читателей
Кто не фантазировал о том, чтобы стать персонажем любимой книги? Автор Джеймс Райли превратил эту идею в частичку исполнения желаний, создав быстро продаваемую серию Story Thieves (S & S / Aladdin), первые две книги которой были проданы тиражом более 170 000 экземпляров вместе с момента публикации книги № 1, Story Thieves , в январе 2015 года.Издание в мягкой обложке Story Thieves находится в списке бестселлеров New York Times в течение 20 недель подряд.
В первом томе обычный ребенок Оуэн видит, как его одноклассница Бетани вылезает из книги в библиотеке. Вскоре он узнает, что она — наполовину вымышленная девушка (ее мать-человек, ее отец — вымышленный персонаж), ищущая пропавшего отца, и настаивает на том, чтобы присоединиться к ее поискам, отправившись в один из его любимых фэнтезийных сериалов, чтобы заручиться некоторой помощью. По книге № 2, Украденные главы (янв.2016), Оуэну нужно объединиться с мальчиком-волшебником Килем (героем его любимого сериала), разгадать тайну реального мира и спасти Бетани от катастрофы. Но в конце этой книги автор тоже переходит к действию, добавляя совершенно новый уровень сложности.
«Раньше я так увлекался историями, как« Хроники Придейна »[Ллойда Александера] и другими фантастическими историями», — сказал Райли о том, что породило его идею «Сказочные воры». «Я хотел написать о персонажах, которые прыгали в истории, и задавался вопросом, сколько я могу сделать на мета-уровне.Как я мог написать персонажей, исследуя книгу самостоятельно? У меня было много забавных вещей, с которыми я мог поиграть. Я начал в духе The Phantom Tollbooth , но затем отошел от этого и как бы намекнул, что я был злодеем истории — по имени «Никто» — а также автором. Я хотел, чтобы герои книги познакомились со своим автором, потому что автор — их злейший враг. Я хотел быть уверенным и позволить им устроить некую конфронтацию ».
Это противостояние является подготовкой для книги № 3, Secret Origins , которая должна выйти в январе, и, по словам Райли, это «история о супергероях».Он объяснил свой основной план для объема серии: «Я планировал это в виде пяти книг с самого начала», — сказал он. «Я хотел, чтобы каждая из них была книгой разного типа». На данный момент он написал фантастически-приключенческий рассказ в книге №1 и загадку в книге №2. «Я только что закончила книгу №3, в которой рассказывается о супергероях», — сказала Райли. «Книга №4 — это игра в стиле книги« Выбери свое приключение », а пятая книга завершает все. Пока что я следовал своему плану ».
Но Райли взволнован небольшой поправкой в плане книги № 3, вдохновленной его поклонниками.«Дети действительно идут в своем собственном направлении, спрашивая, могут ли они вскочить в ту или иную историю», — сказал он о вопросах, которые читатели задают во время его выступлений. «Кажется, они действительно вникают в это. На самом деле я обыгрывал идею перехода в серию другого автора », — добавил он. «Брэндон Малл работает над новым продолжением своей серии Fablehaven [Dragonwatch, весна 2017]. Мы с ним вместе гастролировали [в 2015 году], и нам пришла в голову идея, что мои персонажи Оуэн и Бетани запрыгнут в одну из его книг Fablehaven.Есть место, которое работает, не нарушая его книги. Это бонусная история, которая будет в моей третьей книге. Он будет связан с украденными главами, о которых я пишу в своей второй книге, и поможет познакомить с тем, что будет в новой серии Бэндона ».
И выход из серии прыжков — не единственное изменение в серии. «Они увеличили частоту выпуска книг», — сказала Райли, имея в виду, что книгу №4 планируется опубликовать через шесть месяцев после книги №3. «Я впервые за полгода напишу книгу!» — сказал он, отметив, что по-прежнему продолжает работать редактором в номере USA Today .
Успех Райли до сих пор является результатом неуклонного подъема, который начался с его дебюта, трилогии Half Upon a Time со вкусом сказки. И, по словам его редактора Лизы Абрамс, вице-президента и редакционного директора Саймона Пульса и заместителя редакционного директора Aladdin, Райли идет по правильному пути. «Он является ярким примером того, что традиционная издательская модель все еще может работать в сегодняшнем мире« мгновенных блокбастеров », — пояснила она. «Каждый год Джеймс продал больше книг, чем в предыдущем году, и это была его четвертая книга — в мягкой обложке! — [ Story Thieves , первый том в серии], который попал в список бестселлеров.
Райли, конечно, надеялась, что сценарий будет развиваться таким образом, но не была уверена. «Моя первая книга вышла в 2010 году, и мой редактор сказал мне, что если я приду с умеренным опережением, я смогу расти и постепенно увеличивать аудиторию с каждой книгой», — вспоминал он. «Поначалу трудно увидеть все это, но это действительно происходит. Одна из величайших вещей в успехе — это доказать ее правоту, а также увидеть детей, которые знают мои книги. Ах да, попадание в каталог Scholastic Book Club! Для меня это было очень важно по многим причинам, но в основном потому, что я вспомнил, как сильно я любил этот каталог, когда был ребенком.Это было так весело ».
Абрамс сказала, что она знала, что хочет работать с Райли из-за качеств, которые она видела в его письмах. «Когда я приобрела Half Upon a Time еще в 2009 году, его юмор мгновенно захватил меня, — сказала она. «Ничто так не работает в среднем классе, как юмор! Соедините это с его врожденным чутьем на великолепное рассказывание приключенческих историй, и я знал, что у нас есть что-то особенное ». По мнению Абрамса, страсть Райли к книгам выражается в том, что в обоих его сериалах персонажи сливаются из реального мира с вымышленным.«Благодаря этим размытым линиям и мета-подходу, — добавила она, — читатели могут так легко увидеть себя в этих историях. Он находит идеальный баланс между игривыми шутками, в которых мягко высмеивают знакомые образы, и явным уважением к тому, почему эти архетипы работают ».
Маркетинг и реклама книг тоже росли. В январе этого года Райли совершила тур по семи городам, в том числе выступила в Зимнем институте ABA. Story Thieves был одним из призов ежегодного конкурса Boys ’Life « Скажи да чтению »(спонсируемого S&S) в летней программе чтения журнала, а также был отмечен титулом« Увлечение читающей аркады на funbrain ».com. Райли тоже комфортно общаться со своими поклонниками в Интернете. Например, он находит время, когда это возможно, чтобы отвечать на вопросы по электронной почте на своем веб-сайте. Не так давно, по его словам, он получил письмо от матери о ее сыне, который страдает дислексией.









 Не чувствуется биения пульса жизни за этими вычурными словами. Это не слово — это ярлык, и это не язык, живой и полноценный, а жаргон, условный говорок, лишенный внутреннего органического содержания и видоизменяющийся механически».
Не чувствуется биения пульса жизни за этими вычурными словами. Это не слово — это ярлык, и это не язык, живой и полноценный, а жаргон, условный говорок, лишенный внутреннего органического содержания и видоизменяющийся механически».


 На странице, долженствовавшей изображать титульный лист, выведено: „Блатные песни“. „Таганка“, „Ты была с фиксою — тебя я с фиксой встретил…“ и прочие шедевры действительно блатной лирики перемежаются песнями Окуджавы, Визбора, Галича, а на последних страницах — Высоцкого. Что может быть прекраснее петь в компании „Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела…“, „Я был душой дурного общества…“, „По тундре, по железной дороге…“ и еще много всякого разного, мешая бесшабашную удаль с тоской, душевный взрыд — с практическим расчетом, где надо — входя в образ, где надо — над ним же иронизируя. А потом, когда станут приставать: „Спиши слова!“, так это небрежненько и через плечо бросить: „Могу тетрадку дать — сам спишешь“».
На странице, долженствовавшей изображать титульный лист, выведено: „Блатные песни“. „Таганка“, „Ты была с фиксою — тебя я с фиксой встретил…“ и прочие шедевры действительно блатной лирики перемежаются песнями Окуджавы, Визбора, Галича, а на последних страницах — Высоцкого. Что может быть прекраснее петь в компании „Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела…“, „Я был душой дурного общества…“, „По тундре, по железной дороге…“ и еще много всякого разного, мешая бесшабашную удаль с тоской, душевный взрыд — с практическим расчетом, где надо — входя в образ, где надо — над ним же иронизируя. А потом, когда станут приставать: „Спиши слова!“, так это небрежненько и через плечо бросить: „Могу тетрадку дать — сам спишешь“».

 Бродяжничество. Страсть к переменам. Риск и жажда риска… Вечная судьба-доля, которую не объедешь. Жертва, искупление. <…> Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (а не только физиономии вора), и в этом качестве, во множестве образцов, может претендовать на звание национальной русской песни…»
Бродяжничество. Страсть к переменам. Риск и жажда риска… Вечная судьба-доля, которую не объедешь. Жертва, искупление. <…> Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (а не только физиономии вора), и в этом качестве, во множестве образцов, может претендовать на звание национальной русской песни…»