Автор всегда есть тот кому ты нужен кто так в тебя наивно верит: Всегда есть тот, кому ты нужен, Кто так в тебя наивно верит, Кто доверяет смело душу, Кто ж… ▷ Socratify.Net
Рцем вси: Господи помилуй! — LiveJournal
1
На улице было уже почти темно, шел дождь. Я стояла на широком белом подоконнике огромного окна в детской трапезной с тряпкой и средством для мытья стекол в руках, смотрела, как капли воды стекают по стеклу. Невыносимое чувство одиночества сдавливало грудь и очень хотелось плакать. Совсем рядом дети из приюта репетировали песни для спектакля «Золушка», из динамиков гремела музыка, и как-то стыдно и неприлично было разрыдаться посреди этой огромной трапезной, среди незнакомых людей, которым совершенно не было до меня дела.
Все с самого начала было странно и неожиданно. После долгой дороги на машине из Москвы до Малоярославца я была ужасно уставшей и голодной, но в монастыре было время послушаний (то есть рабочее всемя), и никому не пришло в голову ничего другого, как только сразу же после доклада о моем приезде игумении дать мне тряпку и отправить прямо в чем была на послушание со всеми паломниками. Рюкзак, с которым я приехала, отнесли в паломню — небольшой двухэтажный домик на территории монастыря, где останавливались паломники. Там была паломническая трапезная и несколько больших комнат, где вплотную стояли кровати. Меня определили пока туда, хотя я не была паломницей, и благословение Матушки на мое поступление в монастырь было уже получено через отца Афанасия (Серебренникова), иеромонаха Оптиной Пустыни, который и благословил меня в эту обитель.
Там была паломническая трапезная и несколько больших комнат, где вплотную стояли кровати. Меня определили пока туда, хотя я не была паломницей, и благословение Матушки на мое поступление в монастырь было уже получено через отца Афанасия (Серебренникова), иеромонаха Оптиной Пустыни, который и благословил меня в эту обитель.
После окончания послушаний паломницы вместе с матерью Космой — инокиней, которая была старщей в паломническом домике, начали накрывать на чай. Для паломников чай был не просто с хлебом, вареньем и сухарями, как для насельниц монастыря, а как-бы поздний ужин, на который в пластмассовых лотках и ведерках приносились остатки еды с дневной сестринской трапезы. Я помогала мать Косме накрывать на стол, и мы разговорились. Это была довольно полная, шустрая и добродушная женщина лет 55, мне она сразу понравилась. Пока наш ужин грелся в микроволновке, мы разговаривали, и я начала жевать кукурузные хлопья, стоявшие в открытом большом мешке возле стола. Мать Косма, увидев это, пришла в ужас: «Что ты делаешь? Бесы замучают!» Здесь строжайше было запрещено что-либо есть между официальными трапезами.
После чая м.Косма отвела меня наверх, где в большой комнате стояли вплотную около десяти кроватей и несколько тумбочек. Там уже расположились несколько паломниц и стоял громкий храп. Было очень душно, и я выбрала место у окна, чтобы можно было, никому не мешая, приоткрыть форточку. Заснула я сразу, от усталости уже не обращая внимания на храп и духоту.
Утром нас всех разбудили в 7 утра. После завтрака мы уже должны были быть на послушаниях. Был понедельник страстной седмицы и все готовились к Пасхе, мыли огромную гостевую трапезную. Распорядок дня для паломников не оставлял никакого свободного времени, общались мы только на послушании, во время уборки. Со мной в один день приехала паломница Екатерина из Обнинска, она была начинающей певицей, пела на праздниках и свадьбах. Сюда она приехала потрудиться во славу Божию и спеть несколько песен на пасхальном концерте. Было видно, что она только недавно пришла к вере, и находилась постоянно в каком-то возвышенно-восторженном состоянии. Еще одной паломницей была бабушка лет 65, Елена Петушкова. Ее благословил на поступление в монастырь ее духовник. Работать ей в таком возрасте было тяжелее, чем нам, но она очень старалась. Раньше она трудилась в храме за свечным ящиком где-то недалеко от Калуги, а теперь мечтала стать монахиней. Она очень ждала, когда Матушка Николая переведет ее из паломни к сестрам. Елена даже после трудового дня перед сном читала что-нибудь из святых отцов о настоящем монашестве, о котором она мечтала уже много лет.
Еще одной паломницей была бабушка лет 65, Елена Петушкова. Ее благословил на поступление в монастырь ее духовник. Работать ей в таком возрасте было тяжелее, чем нам, но она очень старалась. Раньше она трудилась в храме за свечным ящиком где-то недалеко от Калуги, а теперь мечтала стать монахиней. Она очень ждала, когда Матушка Николая переведет ее из паломни к сестрам. Елена даже после трудового дня перед сном читала что-нибудь из святых отцов о настоящем монашестве, о котором она мечтала уже много лет.
Сестринская территория начиналась от ворот колокольни и была ограждена от территории приюта и паломни, нам туда ходить не благословлялось. Там я была всего один раз, когда меня послали принести полмешка картошки. Послушница Ирина в греческом апостольнике должна была показать мне, где она лежит. С Ириной мне поговорить не удалось, она непрестанно повторяла полушепотом Иисусову молитву, смотря себе по ноги и никак не реагируя на мои слова. Мы пошли с ней на сестринскую территорию, которая начиналась от колокольни и ярусами спускалась вниз, прошли по огородам и саду, который только начинал расцветать, спустились вниз по деревянной лесенке и зашли в сестринскую трапезную. В трапезной никого не было, столы стояли еще не накрытые, сестры в это время были в храме. На оконных стеклах был нарисован орнамент под витражи, через который внутрь проникал мягкий свет и струился по фрескам на стенах. В левом углу была икона Божией Матери в позолоченной ризе, на подоконнике стояли большие золотистые часы. Мы спустились по крутой лестнице вниз в погреб. Это были древние подвалы, еще не отремонтированные, с кирпичными сводчатыми стенами и колонами, местами побеленными краской. Внизу в деревянных отсеках были разложены овощи, на полках стояли ряды банок с соленьями и вареньем. Пахло погребом. Мы набрали картошки, и я понесла ее на детскую кухню в приют, Ирина побрела в храм, низко опустив голову и не переставая шептать молитву.
В трапезной никого не было, столы стояли еще не накрытые, сестры в это время были в храме. На оконных стеклах был нарисован орнамент под витражи, через который внутрь проникал мягкий свет и струился по фрескам на стенах. В левом углу была икона Божией Матери в позолоченной ризе, на подоконнике стояли большие золотистые часы. Мы спустились по крутой лестнице вниз в погреб. Это были древние подвалы, еще не отремонтированные, с кирпичными сводчатыми стенами и колонами, местами побеленными краской. Внизу в деревянных отсеках были разложены овощи, на полках стояли ряды банок с соленьями и вареньем. Пахло погребом. Мы набрали картошки, и я понесла ее на детскую кухню в приют, Ирина побрела в храм, низко опустив голову и не переставая шептать молитву.
Поскольку подъем для нас был в 7, а не в 5 утра, как у сестер монастыря, нам не полагалось днем никакого отдыха, посидеть и отдохнуть мы могли только за столом во время трапезы, которая длилась 20-30 минут. Весь день паломники должны были быть на послушании, то есть делать то, что говорит специально приставленная к ним сестра. Эту сестру звали послушница Харитина и она была вторым человеком в монастыре, после м.Космы, с которым мне довелось общаться. Неизменно вежливая, с очень приятными манерами, с нами она была все время какая-то нарочито бодрая и даже веселая, но на бледно-сером лице с темными кругами у глаз читалась усталость и даже изможденность. На лице редко можно было увидеть какую-либо эмоцию, кроме все время одинаковой полуулыбки. Харитина давала нам задания, что нужно было помыть и убрать, обеспечивала нас тряпками и всем необходимым для уборки, следила, чтобы мы все время были заняты. Одежда у нее была довольно странная: вылинявшая серо-синяя юбка, такая старая, как будто ее носили уже целую вечность, не менее ветхая рубашка непонятного фасона с дырявыми рюшечками и серый платок, который когда-то, наверное, был черным. Она была старшая на «детской», то есть была ответственна за гостевую и детскую трапезные, где кормили детей монастырского приюта, гостей, а также устраивали праздники. Харитина постоянно что-то делала, бегала, сама вместе с поваром и трапезником разносила еду, мыла посуду, обслуживала гостей, помогала паломникам.
Эту сестру звали послушница Харитина и она была вторым человеком в монастыре, после м.Космы, с которым мне довелось общаться. Неизменно вежливая, с очень приятными манерами, с нами она была все время какая-то нарочито бодрая и даже веселая, но на бледно-сером лице с темными кругами у глаз читалась усталость и даже изможденность. На лице редко можно было увидеть какую-либо эмоцию, кроме все время одинаковой полуулыбки. Харитина давала нам задания, что нужно было помыть и убрать, обеспечивала нас тряпками и всем необходимым для уборки, следила, чтобы мы все время были заняты. Одежда у нее была довольно странная: вылинявшая серо-синяя юбка, такая старая, как будто ее носили уже целую вечность, не менее ветхая рубашка непонятного фасона с дырявыми рюшечками и серый платок, который когда-то, наверное, был черным. Она была старшая на «детской», то есть была ответственна за гостевую и детскую трапезные, где кормили детей монастырского приюта, гостей, а также устраивали праздники. Харитина постоянно что-то делала, бегала, сама вместе с поваром и трапезником разносила еду, мыла посуду, обслуживала гостей, помогала паломникам. Жила она прямо на кухне, в маленькой комнатке, похожей на конуру, расположенной за входной дверью. Там же, в этой каморке, рядом со складным диванчиком, где она спала ночью, не раздеваясь, свернувшись калачиком, как зверек, складировались в коробках различные ценные кухонные вещи и хранились все ключи. Позже я узнала, что Харитина была «мамой», то есть, не сестрой монастыря, а скорее, чем-то вроде раба, отрабатывающего в монастыре свой огромный неоплатный долг. «Мам» в монастыре было довольно много, чуть ли не треть от всех сестер монастыря. Мать Косма тоже была когда-то «мамой», но теперь дочка выросла, и м.Косму постригли в иночество. «Мамы» — это женщины с детьми, которых их духовники благословили на монашеский подвиг. Поэтому они пришли сюда, в Свято-Никольский Черноостровский монастырь, где есть детский приют «Отрада» и православная гимназия прямо внутри стен монастыря. Дети здесь живут на полном пансионе в отдельном здании приюта, учатся, помимо основных школьных дисциплин, музыке, танцам, актерскому мастерству.
Жила она прямо на кухне, в маленькой комнатке, похожей на конуру, расположенной за входной дверью. Там же, в этой каморке, рядом со складным диванчиком, где она спала ночью, не раздеваясь, свернувшись калачиком, как зверек, складировались в коробках различные ценные кухонные вещи и хранились все ключи. Позже я узнала, что Харитина была «мамой», то есть, не сестрой монастыря, а скорее, чем-то вроде раба, отрабатывающего в монастыре свой огромный неоплатный долг. «Мам» в монастыре было довольно много, чуть ли не треть от всех сестер монастыря. Мать Косма тоже была когда-то «мамой», но теперь дочка выросла, и м.Косму постригли в иночество. «Мамы» — это женщины с детьми, которых их духовники благословили на монашеский подвиг. Поэтому они пришли сюда, в Свято-Никольский Черноостровский монастырь, где есть детский приют «Отрада» и православная гимназия прямо внутри стен монастыря. Дети здесь живут на полном пансионе в отдельном здании приюта, учатся, помимо основных школьных дисциплин, музыке, танцам, актерскому мастерству.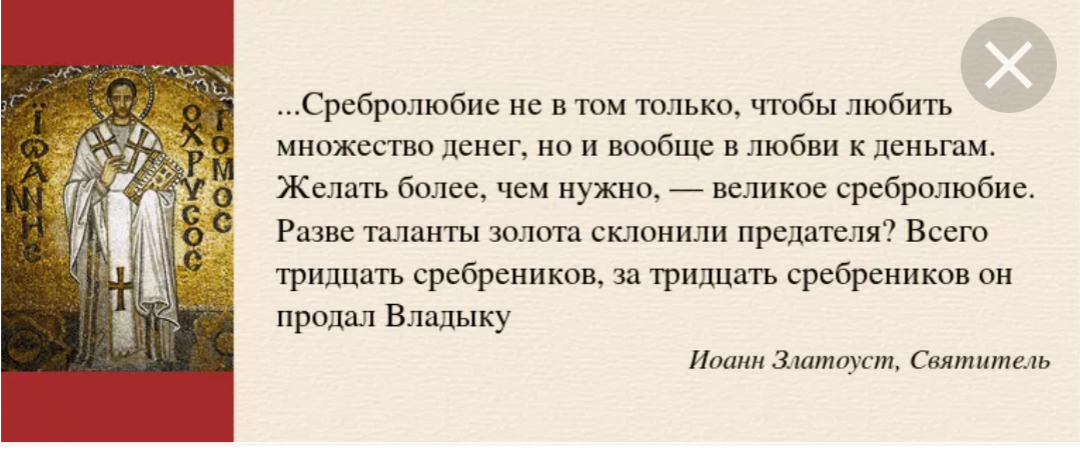 Хотя приют считается сиротским, чуть ли не треть детей в нем отнюдь не сироты, а дети с «мамами». «Мамы» находятся у игумении Николаи на особом счету. Они трудятся на самых тяжелых послушаниях (коровник, кухня, уборка) не имеют, как остальные сестры, час отдыха в день, то есть трудятся с 7 утра и до 11-12 ночи без отдыха, монашеское молитвенное правило у них также заменено послушанием (работой), Литургию в храме они посещают только по воскресеньям. Воскресенье — единственный день, когда им положено 3 часа свободного времени днем на общение с ребенком или отдых. У некоторых в приюте живут не один, а два, у одной «мамы» было даже три ребенка. На собраниях Матушка часто говорила таким:
Хотя приют считается сиротским, чуть ли не треть детей в нем отнюдь не сироты, а дети с «мамами». «Мамы» находятся у игумении Николаи на особом счету. Они трудятся на самых тяжелых послушаниях (коровник, кухня, уборка) не имеют, как остальные сестры, час отдыха в день, то есть трудятся с 7 утра и до 11-12 ночи без отдыха, монашеское молитвенное правило у них также заменено послушанием (работой), Литургию в храме они посещают только по воскресеньям. Воскресенье — единственный день, когда им положено 3 часа свободного времени днем на общение с ребенком или отдых. У некоторых в приюте живут не один, а два, у одной «мамы» было даже три ребенка. На собраниях Матушка часто говорила таким:
— Ты должна работать за двоих. Мы растим твоего ребенка. Не будь неблагодарной!
Часто «мам» наказывали в случае плохого поведения их дочек. Этот шантаж длился до того момента, пока дети вырастут и покинут приют, тогда становился возможен иноческий или монашеский постриг «мамы».
У Харитины в приюте была дочка Анастасия, совсем маленькая, тогда ей было примерно 1,5 — 2 годика. Я не знаю ее истории, в монастыре сестрам запрещено рассказывать о своей жизни «в миру», не знаю, каким образом Харитина попала в монастырь с таким маленьким ребенком. Я даже не знаю ее настоящего имени. От одной сестры я слышала про несчастную любовь, неудавшуюся семейную жизнь и благословение старца Власия на монашество. Большинство «мам» попали сюда именно так, по благословению старца Боровского монастыря Власия (Перегонцева) или старца Оптиной Пустыни Илия (Ноздрина). Эти женщины не были какими-то особенными, многие до монастыря имели и жилье, и хорошую работу, некоторые были с высшим образованием, просто в сложный период своей жизни они оказались здесь. Целыми днями эти «мамы» трудились на тяжелых послушаниях, расплачиваясь своим здоровьем, пока детей воспитывали чужие люди в казарменной обстановке приюта. На больших праздниках, когда в монастырь приезжал наш митрополит Калужский и Боровский Климент, или другие важные гости, маленькую дочку Харитины в красивом платьице поводили к ним, фотографировали, она с двумя другими маленькими девочками пела песенки и танцевала.
Я не знаю ее истории, в монастыре сестрам запрещено рассказывать о своей жизни «в миру», не знаю, каким образом Харитина попала в монастырь с таким маленьким ребенком. Я даже не знаю ее настоящего имени. От одной сестры я слышала про несчастную любовь, неудавшуюся семейную жизнь и благословение старца Власия на монашество. Большинство «мам» попали сюда именно так, по благословению старца Боровского монастыря Власия (Перегонцева) или старца Оптиной Пустыни Илия (Ноздрина). Эти женщины не были какими-то особенными, многие до монастыря имели и жилье, и хорошую работу, некоторые были с высшим образованием, просто в сложный период своей жизни они оказались здесь. Целыми днями эти «мамы» трудились на тяжелых послушаниях, расплачиваясь своим здоровьем, пока детей воспитывали чужие люди в казарменной обстановке приюта. На больших праздниках, когда в монастырь приезжал наш митрополит Калужский и Боровский Климент, или другие важные гости, маленькую дочку Харитины в красивом платьице поводили к ним, фотографировали, она с двумя другими маленькими девочками пела песенки и танцевала. Пухленькая , кудрявая, здоровенькая, она вызывала всеобщее умиление.
Пухленькая , кудрявая, здоровенькая, она вызывала всеобщее умиление.
Харитине Игумения запрещала часто общаться с дочкой, по ее словам это отвлекает от работы, и к тому же остальные дети могли завидовать.
Тогда я ничего этого не знала, мы с другими паломницами и «мамами» с утра до вечера до упаду оттирали полы, стены, двери в большой гостевой трапезной, а потом был у нас ужин и сон. Никогда еще я не работала с утра до ночи вот так, без всякого отдыха, я думала, что это даже как-то нереально для человека. Я надеялась, что, когда меня поселят с сестрами, будет уже не так тяжело.
2
Через неделю меня вызвали в храм к Матушке. От своего духовника и близкого друга моей семьи отца Афанасия я слышала о ней много хорошего. Отец Афанасий очень хвалил мне этот монастырь, по его словам, это был единственный женский монастырь в России, где действительно серьезно старались следовать афонскому уставу монашеской жизни. Сюда часто приезжали афонские монахи, проводили беседы, на клиросе пели древним византийским распевом, служили ночные службы. Он так много хорошего рассказывал мне об этой обители, что я поняла: если где-то подвизаться, то только здесь. Я была очень рада наконец увидеть Матушку, мне так хотелось поскорей перебраться к сестрам, иметь возможность бывать в храме, молиться. Паломники и «мамы» в храме практически не бывали.
Он так много хорошего рассказывал мне об этой обители, что я поняла: если где-то подвизаться, то только здесь. Я была очень рада наконец увидеть Матушку, мне так хотелось поскорей перебраться к сестрам, иметь возможность бывать в храме, молиться. Паломники и «мамы» в храме практически не бывали.
Матушка Николая сидела в своей игуменской стасидии, которая больше походила на роскошный королевский трон, весь обитый красным бархатом, позолотой, с какими-то вычурными украшениями, крышей и резными подлокотниками. Я не успела сообразить с какой стороны к этому сооружению мне нужно подойти, рядом не было никакого стула или скамеечки, куда можно присесть. Служба почти закончилась, и Матушка сидела в глубине своего бархатного трона и принимала сестер. Я очень волновалась, подошла под благословение с широкой улыбкой и сказала, что я та самая Мария от отца Афанасия. Матушка игумения одарила меня лучезарной улыбкой, протянула мне руку, которую я спешно поцеловала, и указала на небольшой коврик рядом с ее стасидией.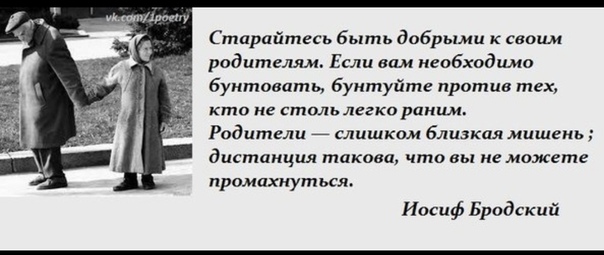 Сестры могли разговаривать с Матушкой только стоя на коленях, и никак иначе. Непривычно было стоять на коленях рядом с троном, но Матушка была со мной очень ласкова, гладила меня по руке своей мягкой пухлой рукой, спрашивала пою ли я на клиросе и что-то еще в этом роде, благословила меня ходить на трапезу с сестрами и переехать из паломнического домика в сестринский корпус, чему я была очень рада.
Сестры могли разговаривать с Матушкой только стоя на коленях, и никак иначе. Непривычно было стоять на коленях рядом с троном, но Матушка была со мной очень ласкова, гладила меня по руке своей мягкой пухлой рукой, спрашивала пою ли я на клиросе и что-то еще в этом роде, благословила меня ходить на трапезу с сестрами и переехать из паломнического домика в сестринский корпус, чему я была очень рада.
После службы я вместе со всеми сестрами пошла уже в сестринскую трапезную. Из храма в трапезную сестры ходили строем, выстроившись парами по чину: сначала послушницы, потом инокини и монахини. Это был отдельный домик, состоящий из кухни, где сестры готовили еду, и собственно трапезной, с тяжелыми деревянными столами и стульями, на которых стояла блестящая железная посуда. Столы были длинные, сервированы «четверками», то есть на каждые 4 человека — супница, миска со вторым блюдом, салат, чайник, хлебница и приборы. В конце зала — игуменский стол, где стоял чайник, чашка и стакан с водой. Матушка часто присутствовала на трапезе, проводила занятия с сестрами, но ела она всегда отдельно у себя в игуменской, пищу для нее готовила мать Антония — личный игуменский повар и из отдельных, специально для Матушки купленных продуктов. Сестры рассаживались вдоль столов тоже по чину — сначала монахини, инокини, послушницы, потом «мамы» (их приглашали в сестринскую трапезную, если проводились занятия, в остальное время они ели на детской кухне в приюте), потом «монастырские дети» (приютские взрослые девочки, которым благословили жить на сестринской территории как послушницам. Детям это нравилось, потому что в монастыре им давали больше свободы, чем в приюте). Все ждали Матушку. Когда она вошла, сестры запели молитвы, сели, и начались занятия. о.Афанасий мне рассказывал, что в этом монастыре игумения часто проводит с сестрами беседы на духовные темы, существует также своего рода «разбор полетов», то есть Матушка и сестры указывают сестре, которая немного сбилась с духовного пути, на ее проступки и согрешения, направляют на правильный путь послушания и молитвы. Конечно, говорил батюшка, это не просто, и такая честь оказывается только тем, кто способен выдержать такое публичное разбирательство. Я тогда с восхищением подумала, что это прямо как в первые века Христианства, когда исповедь часто была публичной, исповедающийся выходил на середину храма и рассказывал всем своим братьям и сестрам во Христе в чем он согрешил, а потом получал отпущение грехов.
Сестры рассаживались вдоль столов тоже по чину — сначала монахини, инокини, послушницы, потом «мамы» (их приглашали в сестринскую трапезную, если проводились занятия, в остальное время они ели на детской кухне в приюте), потом «монастырские дети» (приютские взрослые девочки, которым благословили жить на сестринской территории как послушницам. Детям это нравилось, потому что в монастыре им давали больше свободы, чем в приюте). Все ждали Матушку. Когда она вошла, сестры запели молитвы, сели, и начались занятия. о.Афанасий мне рассказывал, что в этом монастыре игумения часто проводит с сестрами беседы на духовные темы, существует также своего рода «разбор полетов», то есть Матушка и сестры указывают сестре, которая немного сбилась с духовного пути, на ее проступки и согрешения, направляют на правильный путь послушания и молитвы. Конечно, говорил батюшка, это не просто, и такая честь оказывается только тем, кто способен выдержать такое публичное разбирательство. Я тогда с восхищением подумала, что это прямо как в первые века Христианства, когда исповедь часто была публичной, исповедающийся выходил на середину храма и рассказывал всем своим братьям и сестрам во Христе в чем он согрешил, а потом получал отпущение грехов. Такое может сделать только сильный духом человек и, конечно, от своих собратьев получит поддержку, а от своего духовного наставника — помощь и совет. Все это совершается в атмосфере любви и благожелательсва друг к другу. Замечательный обычай, думала я, зорово, что в этом монастыре это есть.
Такое может сделать только сильный духом человек и, конечно, от своих собратьев получит поддержку, а от своего духовного наставника — помощь и совет. Все это совершается в атмосфере любви и благожелательсва друг к другу. Замечательный обычай, думала я, зорово, что в этом монастыре это есть.
Занятие началось как-то неожиданно. Матушка опустилась на свой стул в конце зала, а мы, сидя за столами, ждали ее слова. Матушка попросила встать инокиню Евфросию и начала ругать ее за непристойное поведение. М.Евфросия была поваром на детской трапезной. Я часто видела ее там, пока была паломницей. Небольшого роста, крепкая, с довольно симпатичным лицом, на котором почти всегда было выражение какого-то серьезного недоумения или недовольства, довольно комично сочетавшееся с ее низким, чуть гнусавым голосом. Она вечно что-то недовольно бурчала себе под нос, а иногда, если у нее что-то не получалось, ругалась на кастрюли, черпаки, тележки, сама на себя и, конечно, на того, кто попадался ей под руку. Но все это было как-то по-детски, даже смешно, редко кто воспринимал это всерьез. В этот раз видимо она провинилась в чем-то серьезном.
Но все это было как-то по-детски, даже смешно, редко кто воспринимал это всерьез. В этот раз видимо она провинилась в чем-то серьезном.
Матушка начала ее грозно отчитывать, а м.Евфросия в своей недовольно-детской манере, выпучив глаза, оправдывалась, обвиняя в свою очередь всех остальных сестер. Потом Матушка устала и дала слово остальным. По очереди вставали сестры разного чина и каждая рассказывала какую-нибудь неприятную историю из жизни м.Евфросии. Послушница Галина из пошивочной вспомнила, как м.Евфросия взяла у нее ножницы и не вернула. Из-за этих ножниц разразился скандал, потому что м.Евфросия никак не хотела сознаваться в этом злодеянии. Все остальное было примерно в таком-же духе. Мне стало как-то немного жалко м.Евфросию, когда на нее одну нападало все собрание сестер во главе с Матушкой и обвиняло ее в проступках, большая часть которых была совершена довольно давно. Потом она уже не оправдывалась, было видно, что это бесполезно, только стояла, опустив глаза в пол и недовольно мычала, как побитое животное. Но, конечно, думала я, Матушка знает, что делает, все это для исправления и спасения заблудшей души. Прошло около часа, прежде чем поток жалоб и оскорблений наконец иссяк. Матушка подвела итог и вынесла приговор: сослать м.Евфросию на исправление в Рождествено. Все застыли. Я не знала где это Рождествено, и что там происходит, но судя по тому, как м.Евфросия со слезами умоляла ее туда не отсылать, стало ясно, что хорошего там было мало. Еще полчаса ушло на угрозы и увещевания рыдающей м.Евфросии, ей предложили либо уйти совсем, либо поехать в предложенную ссылку. Наконец Матушка позвонила в колокольчик, стоящий на ее столе, и сестра-чтец за аналоем начала читать книгу про афонских исихастов. Сестры принялись за холодный суп.
Но, конечно, думала я, Матушка знает, что делает, все это для исправления и спасения заблудшей души. Прошло около часа, прежде чем поток жалоб и оскорблений наконец иссяк. Матушка подвела итог и вынесла приговор: сослать м.Евфросию на исправление в Рождествено. Все застыли. Я не знала где это Рождествено, и что там происходит, но судя по тому, как м.Евфросия со слезами умоляла ее туда не отсылать, стало ясно, что хорошего там было мало. Еще полчаса ушло на угрозы и увещевания рыдающей м.Евфросии, ей предложили либо уйти совсем, либо поехать в предложенную ссылку. Наконец Матушка позвонила в колокольчик, стоящий на ее столе, и сестра-чтец за аналоем начала читать книгу про афонских исихастов. Сестры принялись за холодный суп.
Никогда не забуду эту первую трапезу с сестрами. Такого позора и ужаса, наверное, я не испытывала никогда в жизни. Все уткнулись в свои тарелки и бысто-быстро принялись за еду. Мне не хотелось супа и я потянулась к миске с картофелем в мундирах, стоящей на нашей «четверке». Тут сестра, сидящая напротив меня, вдруг несильно шлепнула меня по руке и погрозила пальцем. Я отдернула руку: «Нельзя… Но почему???» Я так и осталась сидеть в полном недоумении. Не у кого было спросить, разговоры на трапезе были запрещены, все смотрели в свои тарелки и ели быстро, чтобы успеть до звонка. Ладно, картошку почему-то нельзя. Рядом с моей пустой тарелкой стояла маленькая мисочка с одной порцией геркулесовой каши, одна на всю «четверку». Я решила поесть этой каши, потому что она стояла ко мне ближе всего. Остальные как ни в чем не бывало начали уплетать картошку. Я выложила себе 2 ложки каши, больше там не было, и начала есть. Сестра напротив бросила на меня недовольный взгляд. Комок каши застрял в горле. Захотелось пить. Я потянулась к чайнику, в ушах звенело. Другая сестра остановила мою руку на пути к чайнику и затрясла головой. Бред какой-то. Вдруг снова прозвонил колокольчик и все как по команде начали разливать чай, мне передали чайник с холодным чаем. Он был совсем не сладкий, я положила себе варенья, немножко, чтобы просто попробовать.
Тут сестра, сидящая напротив меня, вдруг несильно шлепнула меня по руке и погрозила пальцем. Я отдернула руку: «Нельзя… Но почему???» Я так и осталась сидеть в полном недоумении. Не у кого было спросить, разговоры на трапезе были запрещены, все смотрели в свои тарелки и ели быстро, чтобы успеть до звонка. Ладно, картошку почему-то нельзя. Рядом с моей пустой тарелкой стояла маленькая мисочка с одной порцией геркулесовой каши, одна на всю «четверку». Я решила поесть этой каши, потому что она стояла ко мне ближе всего. Остальные как ни в чем не бывало начали уплетать картошку. Я выложила себе 2 ложки каши, больше там не было, и начала есть. Сестра напротив бросила на меня недовольный взгляд. Комок каши застрял в горле. Захотелось пить. Я потянулась к чайнику, в ушах звенело. Другая сестра остановила мою руку на пути к чайнику и затрясла головой. Бред какой-то. Вдруг снова прозвонил колокольчик и все как по команде начали разливать чай, мне передали чайник с холодным чаем. Он был совсем не сладкий, я положила себе варенья, немножко, чтобы просто попробовать. Варенье оказалось яблочным и очень вкусным, захотелось взять еще, но, когда я потянулась за ним, меня опять хлопнули по руке. Все ели, никто на меня не смотрел, но каким-то образом вся моя «четверка» следила за всеми моими действиями. Через 20 минут после начала трапезы Матушка вновь позвонила в колокольчик, все встали, помолились и начали расходиться. Ко мне подошла пожилая послушница Галина и, отведя в сторону, начала тихо выговаривать, за то, что я пыталась взять варенье второй раз. «Разве ты не знаешь, что варенье можно брать только один раз?» Мне было очень неловко. Я извинилась, стала спрашивать ее, какие тут вообще порядки, но ей было некогда объяснять, нужно было скорей переодеваться в рабочую одежду и бежать не послушания, за опоздания хотя бы на несколько минут наказывали ночной мойкой посуды.
Варенье оказалось яблочным и очень вкусным, захотелось взять еще, но, когда я потянулась за ним, меня опять хлопнули по руке. Все ели, никто на меня не смотрел, но каким-то образом вся моя «четверка» следила за всеми моими действиями. Через 20 минут после начала трапезы Матушка вновь позвонила в колокольчик, все встали, помолились и начали расходиться. Ко мне подошла пожилая послушница Галина и, отведя в сторону, начала тихо выговаривать, за то, что я пыталась взять варенье второй раз. «Разве ты не знаешь, что варенье можно брать только один раз?» Мне было очень неловко. Я извинилась, стала спрашивать ее, какие тут вообще порядки, но ей было некогда объяснять, нужно было скорей переодеваться в рабочую одежду и бежать не послушания, за опоздания хотя бы на несколько минут наказывали ночной мойкой посуды.
Хотя впереди еще было много трапез и занятий, эта первая трапеза и первые занятия мне запомнились лучше всего. Я так и не поняла, почему это называлось занятиями. Меньше всего это было похоже на занятия в обычном понимании этого слова. Проводились они довольно часто, иногда почти каждый день перед первой трапезой и длились от 30 минут до двух часов. Потом сестры начинали есть остывшую еду, переваривая услышанное. Иногда Матушка читала что-нибудь душеполезное из афонских отцов, как правило про послушание своему наставнику и отсечение своей воли, или наставления о жизни в общежительном монастыре, но это редко. В основном почему-то эти занятия больше были похожи на разборки, где сначала Матушка, а потом уже и все сестры вместе ругали какую-нибудь сестру, в чем либо провинившуюся. Провиниться можно было не только делом, но и помыслом, и взглядом или просто оказаться у Матушки на пути не в то время и не в том месте. Каждый в это время сидел и с облегчением думал, что сегодня ругают и позорят не его, а соседа, значит пронесло. Причем если сестру ругали, она не должна была ничего говорить в свое оправдание, это расценивалось как дерзость Матушке и могло только сильнее ее разозлить. А уж если Матушка начинала злиться, что бывало довольно часто, она уже не могла себя удержать, характера она была очень вспыльчивого.
Проводились они довольно часто, иногда почти каждый день перед первой трапезой и длились от 30 минут до двух часов. Потом сестры начинали есть остывшую еду, переваривая услышанное. Иногда Матушка читала что-нибудь душеполезное из афонских отцов, как правило про послушание своему наставнику и отсечение своей воли, или наставления о жизни в общежительном монастыре, но это редко. В основном почему-то эти занятия больше были похожи на разборки, где сначала Матушка, а потом уже и все сестры вместе ругали какую-нибудь сестру, в чем либо провинившуюся. Провиниться можно было не только делом, но и помыслом, и взглядом или просто оказаться у Матушки на пути не в то время и не в том месте. Каждый в это время сидел и с облегчением думал, что сегодня ругают и позорят не его, а соседа, значит пронесло. Причем если сестру ругали, она не должна была ничего говорить в свое оправдание, это расценивалось как дерзость Матушке и могло только сильнее ее разозлить. А уж если Матушка начинала злиться, что бывало довольно часто, она уже не могла себя удержать, характера она была очень вспыльчивого. Перейдя на крик, она могла кричать и час и два подряд, в зависимости от того, как сильно было ее негодование. Разозлить Матушку было очень страшно. Лучше было молча потерпеть поток оскорблений, а потом попросить у всех прощения с земным поклоном. Особенно на занятиях обычно доставалось «мамам» за их халатность, лень и неблагодарность.
Перейдя на крик, она могла кричать и час и два подряд, в зависимости от того, как сильно было ее негодование. Разозлить Матушку было очень страшно. Лучше было молча потерпеть поток оскорблений, а потом попросить у всех прощения с земным поклоном. Особенно на занятиях обычно доставалось «мамам» за их халатность, лень и неблагодарность.
Если виноватой сестры на тот момент не оказывалось, Матушка начинала выговаривать нам всем за нерадение, непослушание, лень и т. д. Причем она использовала в этом случае интересный прием: говорила не Вы, а Мы. То есть как-бы и себя и всех имея в виду, но как-то от этого было не легче. Ругала она всех сестер, кого-то чаще, кого-то реже, никто не мог позволить себе расслабиться и успокоиться, делалось это больше для профилактики, чтобы держать нас всех в состоянии тревоги и страха. Матушка проводила эти занятия так часто, как могла, иногда каждый день. Как правило, все проходило по одному и тому же сценарию: Матушка поднимала сестру из-за стола. Она должна была стоять одна перед всем собранием. Матушка указывала ей на ее вину, как правило описывая ее поступки в каком-то позорно-нелепом виде. Она не обличала ее с любовью, как пишут святые отцы в книжках, она позорила ее перед всеми, высмеивала, издевалась. Часто сестра оказывалась просто жертвой навета или чьей-либо кляузы, но это ни для кого не имело значения. Потом особо «верные» Матушке сестры, как правило из монахинь, но были и особенно желавшие отличиться послушницы, по-очереди должны были что-то добавить к обвинению. Этот прием называется «принцип группового давления», если по-научному, такое часто используют в сектах. Все против одного, потом все против другого. И так далее. В конце жертва раздавленная и морально уничтоженная просит у всех прощения и кладет земной поклон. Многие не выдерживали и плакали, но это как-правило были новоначальные, те кому это все было в новинку. Сестры, прожившие в монастыре много лет, относились к этому как к чему-то само собой разумеющемуся, попросту привыкли.
Матушка указывала ей на ее вину, как правило описывая ее поступки в каком-то позорно-нелепом виде. Она не обличала ее с любовью, как пишут святые отцы в книжках, она позорила ее перед всеми, высмеивала, издевалась. Часто сестра оказывалась просто жертвой навета или чьей-либо кляузы, но это ни для кого не имело значения. Потом особо «верные» Матушке сестры, как правило из монахинь, но были и особенно желавшие отличиться послушницы, по-очереди должны были что-то добавить к обвинению. Этот прием называется «принцип группового давления», если по-научному, такое часто используют в сектах. Все против одного, потом все против другого. И так далее. В конце жертва раздавленная и морально уничтоженная просит у всех прощения и кладет земной поклон. Многие не выдерживали и плакали, но это как-правило были новоначальные, те кому это все было в новинку. Сестры, прожившие в монастыре много лет, относились к этому как к чему-то само собой разумеющемуся, попросту привыкли.
Идея проведения занятий была взята, как и многое другое, у общежительных афонских монастырей. Мы иногда слушали на трапезе записи занятий, которые проводил со своей братией игумен Ватопедского монастыря Ефрем. Но это было совсем другое. Он никого никогда не ругал и не оскорблял, никогда не кричал, ни к кому ни разу не обращался конкретно. Он старался вдохновить своих монахов на подвиги, рассказывал им истории из жизни афонских отцов, делился мудростью и любовью, показывал пример смирения на себе, а не «смирял» других. А после наших занятий мы все уходили подавленные и напуганные, потому что их смыслом как раз и было напугать и подавить, как я потом поняла, эти два приема Матушка игумения Николая использовала чаще всего.
Мы иногда слушали на трапезе записи занятий, которые проводил со своей братией игумен Ватопедского монастыря Ефрем. Но это было совсем другое. Он никого никогда не ругал и не оскорблял, никогда не кричал, ни к кому ни разу не обращался конкретно. Он старался вдохновить своих монахов на подвиги, рассказывал им истории из жизни афонских отцов, делился мудростью и любовью, показывал пример смирения на себе, а не «смирял» других. А после наших занятий мы все уходили подавленные и напуганные, потому что их смыслом как раз и было напугать и подавить, как я потом поняла, эти два приема Матушка игумения Николая использовала чаще всего.
Наталия Туз — Любовь точка RU. Стихи читать онлайн бесплатно
Любовь точка RU
Стихи
Наталия Туз
© Наталия Туз, 2016
ISBN 978-5-4483-4305-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Как жаль, – Любимые уходят за рассвет
Как жаль, – Любимые уходят за рассвет..
За горизонт.. Зачем? Не знают сами. .
.
И дыма тысячи не хватит сигарет,
Чтоб заменить им землю небесами..
Но знай: Твои не помню Я грехи!
И жду, что Ты Мне снова улыбнёшься..
Я напишу когда-нибудь стихи,
В которых Ты ко Мне и с облака вернёшься!
И как тебя благодарить?!
Нет не жалею. Не грущу…
Не Ты, а Я всем сердцем так богата!
Вакцины от любви я не ищу!
Весь мир стал полон вкуса – аромата!
Нет, – пусть ТАК будет! Хорошо…
Мне жаль Тебя, Ты не узнаешь..
Пожалуй, соглашусь с Ошо, —
когда познал, – взамен не ожидаешь…
Мне стыдно пред Тобой —
Ведь Я цвету, пою, мечтаю!
Улыбку часто замечаю за собой!
И как Тебя благодарить?! Не знаю…
А Я Люблю Тебя!
А Я Люблю Тебя! Люблю! Люблю! Люблю!
Ты для Меня один! Один на белом Свете!
И я СТО ТЫСЯЧ РАЗ всё это повторю!!!!
И даже.., если Ты мне.. не ответишь…
Счастье – это когда: «Лишь живи»…
Счастье – это когда: «Лишь живи»…
Когда есть кому признаваться в Любви,
Когда в мире огромном есть такой Дом,
Где все Тебя ждут за накрытым столом.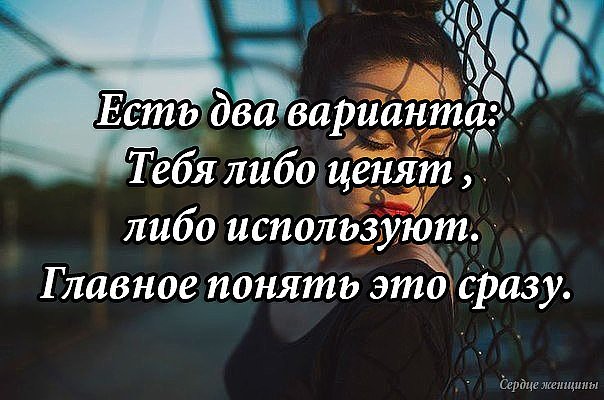
И где бы Ты ни был и кем бы ни был,
Есть во Вселенной незыблемый тыл..
Когда нет причин, чтоб умалчивать, лгать.
Счастье – это Себя уважать..
Всегда есть Тот, кому Ты нужен
Всегда есть Тот, кому Ты нужен,
Кто в тебя верит, Кто мечтает
И отдает до дна всю душу,
Назад не ждёт… Да, – это знает.
Кто не боится быть ненужным,
Отвергнутым самым святым.
Все чувства видимы наружно,
И не боится быть смешным.
Но есть и Тот, – кто Тебе нужен,
Лишь тот, Кого нутром желаешь.
Ты отдаешь до капли душу
Назад не ждёшь… Да, – это знаешь…
Просто ЖИВИ!
Просто живи…
Будь для Меня.. Хоть бы листком бумажным..
Не улетай, не уходи..
Мне это важно…
Возьму Я Тебя.
Слышишь? Возьму!
В ладони зажму бессовестно.
И для Тебя..
И на Тебе.. Я напишу свои повести..
Я умещу.
Не привыкать. Писатель – Я!
Да, погрущу..
Но испишу.. Старательно!
Склею кораблик.
И отпущу… ПЛЫВИ!
в этой СВЕРХПРОЧНОЙ обшивке бумажной —
Просто ЖИВИ!
Люблю Тебя в зиму, люблю Тебя в вёсны!
Люблю Тебя в зиму, люблю Тебя в вёсны!
Люблю, даже если не пишешь мне вовсе. .
.
Люблю в понедельник, во вторник, в субботу,
В метро, в магазине, в пути на работу..
Ты грелкой во мне в эту лютую стужу,
И льдинкой в жару Ты очень мне нужен!
Забудешь – не вспомнишь, пройдёшь – не узнаешь,
Но, в сумраке снов, Ты меня обнимаешь!
Пусть сто раз обманешь, зову – не услышишь.
Люблю я Тебя!! Ты. Поэтому. Дышишь..
Ты такая нелепая, странная
Ты такая нелепая, странная,
Неуклюжая, не краса..
И зачем Ты другими желанная?
Отрицательны все полюса!
Ты хитрее меня, наверное..
Но Я рядом, – во снах, стихах…
Начинаешь игру Ты первая,
Все тузы у Тебя в руках..
Да, я зол на Тебя!
Но радуюсь…
То с разбега, то с высоты —
В омут глаз твоих!
И не жалуюсь, —
Что так скоро пленила Ты…
Когда Ты мне скажешь «Привет»
Когда Ты мне скажешь «Привет»,
Мой мир превратится в море,
И тысячи бликов в ответ
Ты следом получишь вскоре..
Когда Ты мне скажешь «Скучаю»,
В том море утихнут ветры,
И станут слышны крики чаек,
И сузятся километры…
Когда Ты мне скажешь «Люблю»,
Меня тогда, знаю, не будет. .
.
Я в море слова утоплю,
И чайки меня не осудят…
Всё, что сейчас я сказала
В твоей жизни не появляюсь
И тебе не звоню.
Это значит… забыла
и тебя не люблю.
Это значит неважно
где теперь ты и с кем…
И, при встрече, отважно
я пройду без проблем!
СМС не отправлю
я, твой номер забыв.
Никогда не поздравлю
я тебя, не любив…
Но живёшь ты и знаешь, —
Понимал и поймёшь:
Всё, что сейчас я сказала —
это наглая ложь!!!!!
Я завидую всем, кто стоит с Тобой рядом
Я завидую всем, кто стоит с Тобой рядом,
Кто имеет возможность с Тобой говорить,
Всем, кого Ты одаришь одним своим взглядом,
Всем, кого Ты не можешь забыть.
Я завидую каждой, что может коснуться,
Твоей сильной и нежной руки,
Я завидую той, с которой проснулся,
Я завидую ей, до тошноты…
Я завидую людям, которые рядом,
Тем, с которыми Ты говоришь,
Я завидую каждому, кто хоть однажды,
Мог увидеть, как Ты ночью спишь…
И соседям Твоим и консьержке,
Я завидую голой душой,
Я завидую всем своим сердцем
Тем, кто видеться могут с Тобой. .
.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ радуги выше!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ радуги выше!
Как до красного солнца зари!
Надо выйти сегодня на крышу,
И Тебе ПРОКРИЧАТЬ о любви.
В этот час Ты не спишь, как обычно.
Сердце бьётся, о чём-то мечтая.
Даже пусть ПРОШЕПЧУ я о личном♥, —
Ты услышишь Меня! Я же знаю..
Скучаю!
За облака, за солнце, ветер, дождь!
За снег, и за стихи, что посвящаю…
За холод Ты ПРОСТИ, за дрожь..,
Нечаянно! Безумно! Я скучаю!
Прости меня за градусы в крови…
За вечера, которых впредь не знаю…
Я не ревную, – радостно живи!!!
Но я во всю! Усиленно! Скучаю!
Города, дороги, километры
Города, дороги, километры, —
Не помеха чувствовать тебя.
Далеко.. но лучшие моменты
Будут в памяти. Остались навсегда..
Пусть не верят, но я точно знаю,
Даже там, в далёкой стороне,
Что, когда тебя я вспоминаю,
Думаешь ты тоже обо мне…
Не радуют дела, заботы
Не радуют дела, заботы,
Смысл жизни и доктрина спят.
Эй! Остывает в ванной что-то…
Ну, – да… Наверно, это – Я…
Слышь, Небо! Ночи прикажи!
Он с ней одною только дружен:
Пускай развеет страхи, миражи,
Придёт к нему… и скажет, …как МНЕ НУЖЕН!
Ты поселился в мозгах моих
Ты поселился в мозгах моих
Без штампа прописки в паспорте..
Незаконно. Меня не спросив,
Не сказав в дверях даже «Здравствуйте».
Живёшь в моей голове нагловато.
А там одна только комната…
Который месяц не вносишь оплату..
Видать, на тебе я «повёрнута»..
Не будите меня – Он мне снится!
Читать дальшеТе, кто остаются и сражаются
Опубликовано в январе 2020 г. (выпуск 116) | 3829 слов
© 2018 Н. К. Джемисин. Первоначально опубликовано в выпуске How Long Til Til Future Month . Перепечатано с разрешения автора.
День добрых птиц в городе Ум-Хелат! Этот день является местным обычаем, глупым и случайным, каким могут быть многие местные обычаи, и тем не менее прекрасным. Это не имеет ничего общего с птицами — факт, над которым местные жители весело смеются, потому что так работают местные обычаи. Это день трепетания и полета независимо от того, когда вымпелы из ярко окрашенного шелка вылетают из каждого окна, а изящные гудения из медной проволоки и перьевого стекла — созданные для этого дня и не летающие ни в какой другой день! — развеваются и гудят на ветру. Даже монорельсовые вагоны свешивают с крыш стилизованные перья фламинго, хотя они тоже сделаны из перьевого стекла, поскольку настоящие фламинго не летают со скоростью звука.
Это не имеет ничего общего с птицами — факт, над которым местные жители весело смеются, потому что так работают местные обычаи. Это день трепетания и полета независимо от того, когда вымпелы из ярко окрашенного шелка вылетают из каждого окна, а изящные гудения из медной проволоки и перьевого стекла — созданные для этого дня и не летающие ни в какой другой день! — развеваются и гудят на ветру. Даже монорельсовые вагоны свешивают с крыш стилизованные перья фламинго, хотя они тоже сделаны из перьевого стекла, поскольку настоящие фламинго не летают со скоростью звука.
Ум-Хелат находится в месте слияния трех рек и океана. Это помещает его на миграционный путь нескольких видов бабочек и колибри, путешествующих с севера на юг и обратно. На заре Дня выходят городские дети, большинство из них носят крылья, сделанные для них родителями и добрыми старыми тетушками. (Не все тетушки на самом деле тетушки, но в Ум-Хелате любой может заработать тетушкин капюшон. Это город, где можно осуществить бесчисленные стремления. ) Некоторые крылья из органзы пришиты к школьным рюкзакам; некоторые из них сделаны из стеганого хлопка с начинкой из сухих цветов и пристегнуты к плечам пиджака. Некоторые из них были тщательно склеены из десятков отброшенных крыльев бабочек, но, конечно, только те бабочки, которые умерли естественной смертью. Украшенные таким образом дети, которые могут бегать по улицам, так и делают, прыгая с бордюров и издавая свистящие звуки, притворяясь, что летят. Те, кто не может бегать, вместо этого ездят на специальных дронах, пристегнутых ремнями и заграждениями и дважды проверенных на предмет безопасности, которые мягко подбрасывают их в воздух. Всего несколько футов, хотя кажется, что это высота неба.
) Некоторые крылья из органзы пришиты к школьным рюкзакам; некоторые из них сделаны из стеганого хлопка с начинкой из сухих цветов и пристегнуты к плечам пиджака. Некоторые из них были тщательно склеены из десятков отброшенных крыльев бабочек, но, конечно, только те бабочки, которые умерли естественной смертью. Украшенные таким образом дети, которые могут бегать по улицам, так и делают, прыгая с бордюров и издавая свистящие звуки, притворяясь, что летят. Те, кто не может бегать, вместо этого ездят на специальных дронах, пристегнутых ремнями и заграждениями и дважды проверенных на предмет безопасности, которые мягко подбрасывают их в воздух. Всего несколько футов, хотя кажется, что это высота неба.
Но это не неуклюжая антиутопия, где все вынуждены подчиняться. Взрослые, которые отказываются отказываться от своих детских радостей, тоже носят крылья, хотя их крылья имеют более абстрактную конструкцию. (Некоторые невидимы.) А тем, кто следует верованиям, запрещающим подражание животным, или тем, кто просто не хочет крыльев, не нужно их носить.
Ой, а тут таких радости, друг. Уличные торговцы продают крошечные пирожные с заварным кремом в форме жуков-драгоценностей, и люди, которые ждали их целый год, поглощали их, втягивая воздух, чтобы охладить язык. Ремесленники предлагают ловко механизированных бумажных колибри, чтобы прохожие могли их бросить; лучшие из них размываются, когда они скользят. По мере того, как полдень становится длиннее, прибывают фермеры Ум-Хелата, приглашенные, как всегда, на почести вместе с городскими торговцами и технологами. Благодаря усилиям всех трех групп город процветает, но когда водоносные горизонты и реки опускаются слишком низко, фермеры переселяются на другие земли и занимаются там сельским хозяйством или переходят от уборки кукурузы к выращиванию риса и кормлению рыб. Как вы знаете, управление почвой, водой и химией — сложные искусства, но здесь они доведены до совершенства.
Парад проходит по городу, фермеры опускают взгляды или смеются, когда их сограждане отдают честь. Вот дородная женщина размахивает подаренной ей кем-то шляпой из куриных перьев. Тростниковый мужчина в комбинезоне нервно дергает брошь, которую он носит, вырезанную и лакированную в виде божьей коровки. Он сделал это сам и надеется, что другие оценят его хорошо. Они делают!
И вот! Эта женщина, высокая и сильная, безрукая, с гладкой коричневой кожей головы, усеянной вживленными серебряными заклепками, одета в красивую униформу из дамасской тучи. Посмотрите, как она движется сквозь толпу, ухмыляясь вместе с ними, помогая упавшему ребенку. Она поощряет их приветствия и радость, говоря с этим человеком на одном языке, а с этим человеком на другом. (Ум-Хелат — город полиглотов.) Она достигает переднего края толпы и сразу же замечает божью коровку тростникового человека, после чего с восторженными глазами и улыбкой обращает на нее внимание.
Косое послеполуденное солнце золотится над городом, отраженный свет искрится на его стенах с крапинками слюды и тиснениях с лазерной гранью. Морской бриз дует с привкусом рассола и минералов, настолько свежим, что спонтанное приветствие разносится по переполненному маршруту парада. Молодые люди на набережной, деловито помешивая большие чаны с пряными мидиями и кастрюли с рисом, горохом и креветками, готовят быстрее, потому что в Ум-Хелат говорится, что запах моря пробуждает живот. Молодые женщины на углах улиц выносят ситары, синтезаторы и большие деревянные барабаны, чтобы толпа лучше танцевала в стиле молодых мужчин. Когда люди останавливаются, слишком жарко или хотят пить, чтобы продолжать, есть стаканы свежего сока тамаринда и лайма.
Радость! Это постоянная радость, которая наполняет этот город, о которой легко говорить, но ах, как бы я ни старался, ее очень трудно точно описать. Я вижу недоверие на твоем лице! Трудность заключается отчасти в моем недостатке слов, а отчасти в вашем непонимании, потому что вы никогда не видели такого места, как Ум-Хелат, и потому что я сам всего лишь наблюдатель, еще не удостоенный чести посетить. Поэтому я должен изо всех сил стараться описать его, чтобы вы тоже могли его принять.
Как мне просветить жителей Ум-Хелата? Вы видели, как они любят своих детей и как чтут честный, умный труд. Возможно, вы заметили их многочисленных старейшин, поскольку я упомянул их вскользь. В Ум-Хелате люди живут долго и богато, с крепким здоровьем до тех пор, пока позволяет судьба, выбор и медицина. Каждый ребенок знает возможности; у каждого родителя есть жизнь.
Итак, это Ум-Хелат: город, жители которого просто заботятся друг о друге. Они верят, что в этом и заключается цель города — не просто получать доход, энергию или продукцию, но и защищать и воспитывать людей, которые этим занимаются.
Что я забыл упомянуть? О, это то, что покажется тебе самым фантастическим, друг: разнообразие! Жители Ум-Хелата так многочисленны и так сильно различаются по внешнему виду, происхождению и развитию. Люди в этой стране происходят из многих других, и это проявляется в блеске кожи, курчавости волос, пухлости губ и бедер. Если пройтись по улицам, где работают рабочие и ремесленники, людей с темной кожей немного больше; если пройтись по коридорам исполнительной башни, есть несколько дополнительных, выполненных в бледном цвете. В этом скорее история, чем злой умысел, и она до сих пор активно, намеренно исправляется — потому что жители Ум-Хелата не наивно верят в благие намерения как решение всех бед. Нет, здесь нет ни поклонников простой терпимости, ни отчаянных пресмыкающихся перед теми скупыми жалкими крохами уважения, которые0004 разнообразие
Если пройтись по улицам, где работают рабочие и ремесленники, людей с темной кожей немного больше; если пройтись по коридорам исполнительной башни, есть несколько дополнительных, выполненных в бледном цвете. В этом скорее история, чем злой умысел, и она до сих пор активно, намеренно исправляется — потому что жители Ум-Хелата не наивно верят в благие намерения как решение всех бед. Нет, здесь нет ни поклонников простой терпимости, ни отчаянных пресмыкающихся перед теми скупыми жалкими крохами уважения, которые0004 разнообразие
Вам это кажется неправильным? Не должно. Беда в том, что у нас есть дурная привычка, поощряемая теми, кто скрывает злой умысел, настаивать на том, чтобы люди, уже страдающие, подвергались новым, ненужным страданиям. Это парадокс толерантности, предательство свободы слова: мы не решаемся признать, что некоторые люди просто чертовски злы и их нужно остановить.
Ведь это Ум-Хелат, а не та варварская Америка. Это не Омелас, городской клещ, толстый и довольный, уткнувшийся головой в замученного ребенка. Мой рассказ об Ум-Хелате — дань уважения, правда, но тебе нечего бояться, друг.
Итак, как же существует Ум-Хелат? Как может такой город выжить, не говоря уже о том, чтобы процветать? Богатые без бедных, продвинутые без войн, прекрасное место, где все души знают себя красивыми. . . Не может быть, скажете вы. Утопия? Как банально. Это сказка, мысленное упражнение. Крабы в бочке, собака-собака, угнетение Олимпиады — это не продлится долго, настаиваете вы. Это никогда не могло быть в первую очередь. Расизм естественен, настолько естественен, что мы назовем его «трайбализмом», чтобы намекнуть, что все так делают. Сексизм естественен, и гомофобия естественна, и религиозная нетерпимость естественна, и жадность естественна, и жестокость естественна, и жестокость, и страх, и, и, и . . . и. «Невозможный!» — шипишь ты, медленно сжимая кулаки. «Как ты смеешь. Что сделали эти люди, чтобы заставить вас поверить в такую ложь? Что ты делаешь со мной, чтобы предположить, что это возможно? Как ты смеешь. Как ты смеешь .
«Как ты смеешь. Что сделали эти люди, чтобы заставить вас поверить в такую ложь? Что ты делаешь со мной, чтобы предположить, что это возможно? Как ты смеешь. Как ты смеешь .
О, друг! Боюсь, я обиделся. Мои извинения.
Еще. . . как еще мне передать тебе Ум-Хелат, когда даже мысль о счастливом, справедливом обществе так возбуждает твой гнев? Хотя, признаюсь, я недоумеваю, почему ты так сердишься. Вы как будто чувствуете угрозу самой идее равенства. Как будто какая-то часть тебя хочет злиться. Нуждается в несчастье и несправедливости. Но . . . ты?
вы?
Веришь, друг? Принимаете ли вы День добрых птиц, города, радости? Нет? Тогда позвольте мне сказать вам еще одну вещь.
Помнишь ту женщину? Такая высокая и загорелая, такая красивая и лысая, такая любящая в своем искреннем удовольствии, такая прекрасная в своей седине грозовой тучи. Она одна из многих, кто носит одинаковую одежду и стремится к той же цели. Следуйте за ней, теперь, когда она оставляет позади толпу и идет по вымощенным биоволокном переулкам в тени. Под небоскребом, парящим в нескольких метрах над землей — о, это совершенно безопасно, Ум-Хелат управляет гравитацией уже несколько поколений — она останавливается. Там ждут еще двое: один гетен, один мужчина, оба тоже одетые в серый дамаск. Они тоже лысые, их шипованные головы блестят. Они приветствуют друг друга тепло, с объятиями, где те приветствуются.
Под небоскребом, парящим в нескольких метрах над землей — о, это совершенно безопасно, Ум-Хелат управляет гравитацией уже несколько поколений — она останавливается. Там ждут еще двое: один гетен, один мужчина, оба тоже одетые в серый дамаск. Они тоже лысые, их шипованные головы блестят. Они приветствуют друг друга тепло, с объятиями, где те приветствуются.
В них нет ничего особенного. Просто некоторые из многих людей, которые работают для обеспечения счастья и процветания своих сограждан. Думайте о них как о социальных работниках, если хотите; их роль ничем не отличается от роли социальных работников где бы то ни было. Пришел слух о хлопотном деле, и вот почему они собираются: обсудить его и принять трудное решение.
Видите ли, в Ум-Хелате есть чудеса гораздо более великие, чем парящие в воздухе небоскребы, и одно из них — способность преодолевать расстояния между возможностями — то, что мы бы назвали вселенными. Любой может это сделать, но почти никто не пытается. Это потому, что из-за причуды пространства-времени единственный мир, в который могут попасть люди в Ум-Хелате, — это наш собственный. И зачем кому-то из этого славного места приближаться к нашему мрачному адскому пейзажу?
И зачем кому-то из этого славного места приближаться к нашему мрачному адскому пейзажу?
Вы опять обиделись. Ах, друг! У тебя нет права быть.
В любом случае опасность путешествия невелика. Даже Ум-Хелат не смогла успешно найти способ уменьшить огромные потребности в энергии макромасштабных планарных трансверсалов. Только волновые частицы могут перемещаться из нашего мира в их и обратно. Только информация. Кто бы побеспокоился? Ах, но вы забываете: это земля, где никто не голодает, никто не болен, никто не живет в страхе, и даже война почти забыта. В таком месте, подпитываемые роскошью безопасности и комфорта, люди могут искать знания исключительно ради знаний.
Но некоторые знания опасны.
В конце концов, Ум-Хелат был еще худшим местом в прошлом. Не все ее народы, столь разные по происхождению, обычаям и языку, объединились исключительно по своему выбору. Когда-то в городе была другая цивилизация, которая, возможно, вас так не огорчала! (Бедняжка. Там, там. ) Остатки того времени усеивают землю вокруг города, разрушенные, огромные и полуразрушенные. Здесь мост. Там огромный грузовик с ржавым кривым кузовом на заднем плане, который древние народы называли экзотическим термином 9.0004 ракета . Вдалеке: скелетные останки другого города, когда-то такого же огромного, как Ум-Хелат, но никогда еще такого прекрасного. Работы, подобные этим, загромождают всю землю, не более и не менее почитаемые для ум-хелатианцев, чем остальная часть ландшафта. Действительно, каждому молодому гражданину нужно напоминать об этих вещах по достижении совершеннолетия и рассказывать тщательно отобранные истории об их природе и назначении. Когда молодые граждане узнают об этом, это почти непостижимый шок, поскольку у них буквально не хватает слов, чтобы понять такие вещи. Когда-то в Ум-Хелате говорили на 9 языках.0004 наших языков, да, ибо этот мир когда-то был нашим миром; это была не столько параллель, сколько тот же тогда. Возможно, вы все еще узнаете языки, но вас озадачит то, как они говорят .
) Остатки того времени усеивают землю вокруг города, разрушенные, огромные и полуразрушенные. Здесь мост. Там огромный грузовик с ржавым кривым кузовом на заднем плане, который древние народы называли экзотическим термином 9.0004 ракета . Вдалеке: скелетные останки другого города, когда-то такого же огромного, как Ум-Хелат, но никогда еще такого прекрасного. Работы, подобные этим, загромождают всю землю, не более и не менее почитаемые для ум-хелатианцев, чем остальная часть ландшафта. Действительно, каждому молодому гражданину нужно напоминать об этих вещах по достижении совершеннолетия и рассказывать тщательно отобранные истории об их природе и назначении. Когда молодые граждане узнают об этом, это почти непостижимый шок, поскольку у них буквально не хватает слов, чтобы понять такие вещи. Когда-то в Ум-Хелате говорили на 9 языках.0004 наших языков, да, ибо этот мир когда-то был нашим миром; это была не столько параллель, сколько тот же тогда. Возможно, вы все еще узнаете языки, но вас озадачит то, как они говорят . . . а как их нет. О, кое-что из этого будет вам знакомо, по крайней мере, в концепции, например термины для обозначения пола, которые не означают ни он, ни она, и осуждение слов, предназначенных для оскорбления и очернения. И все же вы будете ломать голову над выбором ум-хелатианцев сохранить для себя описательные термины, такие как курчавый или толстый или глухой . Но это только слова, друг, разве ты не видишь? Без присущего им презрения такие термины имеют не больше значения, чем если бы лошади могли с гордостью называть себя паломино, миниатюрными или мохнатыми. Различие никогда не было проблемой само по себе — и ум-хелатинцы до сих пор имеют разногласия друг с другом, во мнениях и в других отношениях. Конечно же! Они люди. Но что шокирует молодых жителей Ум-Хелата, так это осознание того, что когда-то эти различия во мнениях включали различия в уважении. Когда-то одним людям приписывалась ценность, а другим нет. Когда-то за одними признавали человечность, а за других — нет.
. . а как их нет. О, кое-что из этого будет вам знакомо, по крайней мере, в концепции, например термины для обозначения пола, которые не означают ни он, ни она, и осуждение слов, предназначенных для оскорбления и очернения. И все же вы будете ломать голову над выбором ум-хелатианцев сохранить для себя описательные термины, такие как курчавый или толстый или глухой . Но это только слова, друг, разве ты не видишь? Без присущего им презрения такие термины имеют не больше значения, чем если бы лошади могли с гордостью называть себя паломино, миниатюрными или мохнатыми. Различие никогда не было проблемой само по себе — и ум-хелатинцы до сих пор имеют разногласия друг с другом, во мнениях и в других отношениях. Конечно же! Они люди. Но что шокирует молодых жителей Ум-Хелата, так это осознание того, что когда-то эти различия во мнениях включали различия в уважении. Когда-то одним людям приписывалась ценность, а другим нет. Когда-то за одними признавали человечность, а за других — нет.
Это День Добрых Птиц в Ум-Хелате, когда каждая душа имеет значение, и даже мысль о том, что некоторые из них могут не иметь значения, вызывает анафему.
Вот почему социальные работники Ум-Хелата собрались вместе: потому что кто-то прорвал барьер между мирами. Житель Ум-Хелата прослушал наше радио с помощью оборудования, которое вы не узнаете, но которое записывает мельчайшие квантовые возмущения, возбуждаемые сигнальными длинами волн. Он смотрел наше телевидение. Он следил за нашими социальными сетями, смотрел наши видео, лайкал наши селфи. Мы удивительно примитивны по сравнению с Ум-Хелат. Время течет одинаково в обоих мирах, но люди там не тратили себя на то, чтобы подчинить друг друга, и в этом замечательная разница. Так что любой может сделать это — построить вещь, чтобы путешествовать по мирам. Например, построить собственное любительское радио. Легкий. Вот почему в Ум-Хелате существует целая подпольная промышленность — ах! преступление! теперь вы верите немного больше — построено на информации, полученной из странного чужого мира, который является нашим собственным. Брошюры написаны и распространены. Искусство и шепот торгуются. Запрещенное так соблазнительно, не так ли? Даже здесь, где злом называют только то, что причиняет вред другим. Сборщики информации знают, что то, что они делают, неправильно. Они знают, что это то, что разрушило старые города. И действительно, они ужасаются тому, что слышат через динамики, видят на экранах. Они начинают понимать, что наш мир — это мир, в котором представление о том, что0004 некоторые люди менее важны, чем другие было позволено укорениться и расти до тех пор, пока оно не сломает и не сломает основы нашей человечности. — Как они могли? — восклицают собиратели. «Зачем им делать такие вещи? Как они могут просто оставить этих людей голодать? Почему они не слушают, когда тот жалуется на неуважение? Что значит, что на них напали и никому, никому до этого нет дела? Кто так относится к другим людям? ” И все же, даже несмотря на свое восхищение, они разделяют эту идею. Зло . . . спреды.
Брошюры написаны и распространены. Искусство и шепот торгуются. Запрещенное так соблазнительно, не так ли? Даже здесь, где злом называют только то, что причиняет вред другим. Сборщики информации знают, что то, что они делают, неправильно. Они знают, что это то, что разрушило старые города. И действительно, они ужасаются тому, что слышат через динамики, видят на экранах. Они начинают понимать, что наш мир — это мир, в котором представление о том, что0004 некоторые люди менее важны, чем другие было позволено укорениться и расти до тех пор, пока оно не сломает и не сломает основы нашей человечности. — Как они могли? — восклицают собиратели. «Зачем им делать такие вещи? Как они могут просто оставить этих людей голодать? Почему они не слушают, когда тот жалуется на неуважение? Что значит, что на них напали и никому, никому до этого нет дела? Кто так относится к другим людям? ” И все же, даже несмотря на свое восхищение, они разделяют эту идею. Зло . . . спреды.
Итак, социальные работники Ум-Хелат стоят и разговаривают сейчас над телом мужчины. Он мертв — рано, не по своей воле, с искусно сделанной пикой, вонзившейся ему в позвоночник и сердце. (Позвоночник, чтобы сделать это безболезненно. Сердце, чтобы сделать это быстро.) Это только одно из видов оружия, которое носят социальные работники, и они предпочитают его, потому что щука бесшумна. Потому что не было ни выстрела, ни рикошета, ни треска, ни шипения, ни крика, никто больше не придет расследовать. Болезнь унесла одну бедную жертву, но ей не нужно брать больше. Таким образом, заражение сдерживается . . . в настоящее время. В настоящее время.
Он мертв — рано, не по своей воле, с искусно сделанной пикой, вонзившейся ему в позвоночник и сердце. (Позвоночник, чтобы сделать это безболезненно. Сердце, чтобы сделать это быстро.) Это только одно из видов оружия, которое носят социальные работники, и они предпочитают его, потому что щука бесшумна. Потому что не было ни выстрела, ни рикошета, ни треска, ни шипения, ни крика, никто больше не придет расследовать. Болезнь унесла одну бедную жертву, но ей не нужно брать больше. Таким образом, заражение сдерживается . . . в настоящее время. В настоящее время.
Рядом с телом мужчины присела маленькая девочка. Она кудрявая, полная, слепая, смуглая, высокая для своего возраста. Обычно шумный ребенок, теперь она оплакивает смерть своего отца, и ее слезы горят от несправедливости всего происходящего. Она услышала, как он сказал: «Прости». Она видела, как социальные работники проявляют единственно возможное милосердие. Но она еще недостаточно взрослая, чтобы быть предупрежденной о последствиях нарушения закона или понять, что ее отец знал об этих последствиях и принял их, поэтому для нее то, что произошло, не имеет ни цели, ни причины. Это бессмысленная, чудовищная и невозможная вещь, называемая убийством.
Это бессмысленная, чудовищная и невозможная вещь, называемая убийством.
«Я вам отвечу», — говорит она между рыданиями. — Я заставлю тебя умереть так же, как ты заставил его умереть. Это немыслимо сказать. Что-то здесь очень не так. Она рычит: «Как ты смеешь. Как смеет тебя.
Социальные работники обмениваются обеспокоенными взглядами. Они сами заражены, конечно; это разрешено и, откровенно говоря, неизбежно в их сфере деятельности. Невозможно перекрыть наводнение, не промокнув. (Есть меры. Шпильки на их скальпах — ну. В нашем собственном мире тех, кто вызвался работать в лепрозориях, когда-то почитали и сажали в тюрьму вместе с ними.) Таким образом, социальные работники знают, что по непонятным причинам, отец этой девочки поделился с ней ядовитыми знаниями нашего мира. Незагрязненный житель Ум-Хелата спросил бы: «Почему?» после первоначального шока и ужаса, потому что они ожидали причины. Было бы быть причиной. Но эта девочка уже решила, что социальные работники менее важны, чем ее отец, и поэтому причина не имеет значения. Она считает, что весь город менее важен, чем эгоизм одного человека. Бедный ребенок. Она почти отравлена заразой нашего мира.
Она считает, что весь город менее важен, чем эгоизм одного человека. Бедный ребенок. Она почти отравлена заразой нашего мира.
Почти. Но тут наш социальный работник, высокий смуглый, который заставил сотню незнакомцев улыбнуться самодельной божьей коровке, приседает и протягивает ребенку руку.
Что? Что вас удивляет? Вы думали, что это закончится хладнокровным убийством ребенка? Есть и другие варианты — и это Ум-Хелат, друг, где важен даже жалкий больной ребенок. Они будут держать ее в карантине и выходить на связь в течение нескольких дней. Если девушка примет руку, выслушает их, они попытаются объяснить, почему ее отец должен был умереть. Она рано для знаний, но надо что-то делать, понимаете? Затем вместе они похоронят его, если придется, собственными руками, в прекрасном саду, за которым они ухаживают в перерывах между работой. В этом саду находятся все Ум-Хелатиане, нарушившие закон. То, что они должны умереть в качестве сдерживания, не означает, что они не могут быть удостоены чести за эту жертву.
Но есть только один метод лечения этого токсина, когда он попадает в кровь: борьба с ним. Зубы и когти, копья и когти, близко и жестоко; ни пощады, ни условно-досрочного освобождения, ни дебатов. Ребенок должен расти, учиться и стать еще одним социальным работником, ведущим бесконечную войну против идеи. . . но она будет жить, помогать другим и находить в этом смысл. Если она возьмет женщину за руку.
Это работает для тебя, друг? Добавляет ли возможность жесткого принуждения достаточно реализма? Способны ли вы лучше принять эту постколониальную утопию теперь, когда вы видите ее окровавленные зубы? Ах, но не они выбирали эту битву, люди Ум-Хелата сегодня; так поступали их предки, когда они плели ложь и игнорировали совесть, чтобы нажиться на чужой боли. Их жадность стала философией, религией, рядом наций, построенных на крови. Ум-Хелат решила стать лучше. Но иногда только кровавая жертва может остановить истинное зло.
А теперь мы подошли к тебе, мой друг. Мой маленький солдат. Видишь, что я сделал? Так коварны эти маленькие мысли, идущие в обе стороны по квантовому пути. Теперь, возможно, вы будете думать об Ум-Хелат и желать. Теперь вы, возможно, наконец-то сможете представить себе мир, в котором люди научились любить так же, как в нашем мире они научились ненавидеть. Быть может, вы расскажете об Ум-Хелат другим и распространите это представление еще дальше, подобно радостным птицам, мигрирующим на пассате. Можно . Все — даже бедняки, даже ленивые, даже нежелательные — могут иметь значение. Вы видите, как сама мысль об этом вызывает у некоторых крайнюю ярость? Это инфекция, защищающая себя. . . потому что если многие из нас верят, что что-то возможно, тогда оно становится таковым.
Видишь, что я сделал? Так коварны эти маленькие мысли, идущие в обе стороны по квантовому пути. Теперь, возможно, вы будете думать об Ум-Хелат и желать. Теперь вы, возможно, наконец-то сможете представить себе мир, в котором люди научились любить так же, как в нашем мире они научились ненавидеть. Быть может, вы расскажете об Ум-Хелат другим и распространите это представление еще дальше, подобно радостным птицам, мигрирующим на пассате. Можно . Все — даже бедняки, даже ленивые, даже нежелательные — могут иметь значение. Вы видите, как сама мысль об этом вызывает у некоторых крайнюю ярость? Это инфекция, защищающая себя. . . потому что если многие из нас верят, что что-то возможно, тогда оно становится таковым.
А потом? Кто знает. Война, может быть. Огонь лихорадки и очищающий бич. Никто этого не хочет, но разве нет альтернативы лежать беспомощным, прыщавым, покрытым волдырями и вздымающимся, пока мы все не умрем?
Так что не уходи. Ребёнку ты тоже нужен, разве ты не видишь? Вы также должны бороться за нее, теперь, когда вы знаете, что она существует, или уходить бессмысленно. Вот, вот моя рука. Возьми это. Пожалуйста.
Вот, вот моя рука. Возьми это. Пожалуйста.
Хорошо. Хороший.
Сейчас. Давай приступим к работе.
Понравилась эта история? Поддержите нас одним из следующих способов:
- Купить электронную книгу
- Прямая (ePub/Mobi/PDF)
- Amazon (Kindle)
- Barnes & Noble (Nook)
- Weightless (ePub/Mobi)
- Apple iBooks
- Кобо (ePub)
Распространяйте информацию!
«Добрые деревенские жители»
Халга Хоупвелл из «Хороших деревенских жителей» — уникальный персонаж в вымышленном мире О’Коннора. Хотя О’Коннор использует термин «интеллектуал» или «псевдоинтеллектуал» в одном из своих романов и в семи рассказах, Халга — единственная женщина в группе. Однако ее пол не удерживает ее от общей участи всех других интеллектуалов О’Коннор. В каждом случае интеллектуал приходит к пониманию того, что его вера в свою способность полностью контролировать свою жизнь, а также контролировать те вещи, которые на нее влияют, ошибочна.
Эта история разделена на четыре отдельных раздела, которые помогают подчеркнуть отношения между четырьмя центральными персонажами. Разделив историю на четыре нечетких части, О’Коннор смог установить тонкие параллели между персонажами миссис Фриман и Мэнли Пойнтер (коммерсанта Библии), а также между миссис Хоупвелл и ее дочерью Халгой, когда они находились в в то же время предоставляя детали, которые, кажется, подчеркивают различных аспекта из четырех отдельных символов.
Например, О’Коннор использует день «просветления» Халги, чтобы провести параллели между миссис Фриман и Мэнли Пойнтер, в то время как воспоминания о событиях предыдущего дня устанавливают параллели, существующие между Халгой и ее матерью.
Вы также можете отметить, что выбор О’Коннор имен для своих персонажей помогает установить их значение в истории. Например, имя «Хоупвелл» (хорошая надежда) характеризует и мать, и ее дочь. Обе женщины — личности, которые упрощенно верят, что желаемое можно получить, хотя каждая из них по-своему слепа к миру, как он существует на самом деле. Обе женщины не видят, что мир (потому что это падший мир) представляет собой смесь добра.0004 и зло. Это заблуждение заставляет их думать, что мир намного проще, чем он есть на самом деле.
Обе женщины не видят, что мир (потому что это падший мир) представляет собой смесь добра.0004 и зло. Это заблуждение заставляет их думать, что мир намного проще, чем он есть на самом деле.
Поскольку и Халга, и ее мать приняли этот ложный взгляд на реальность, каждая из них «хорошо надеется» приспособить этот мир к своим собственным потребностям — миссис Хоупвелл живет в мире, где клише действуют как истина, а Халга настаивает на том, чтобы что нет ничего позади или за пределами поверхностного мира.
Хотя миссис Фримен (свободный человек) получает более четкое представление о реалиях мира (она, например, не принимает ни Халгу, ни Мэнли Пойнтера за чистую монету), она предпочитает концентрироваться на болезненных и гротескных аспектах жизни.
Имя Пойнтер (мужественное), а не его настоящее имя, на одном уровне действует как полунепристойный каламбур, а на другом уровне оно указывает на глубины, в которые человечество может опуститься, если будет следовать только своему «мужественному» природа.
Чтобы позволить читателю развить искреннюю симпатию к Халге, О’Коннор помещает ее в среду, которая оттолкнет любого чувствительного человека. Хульга находится в постоянном контакте с тщеславной, но простодушной матерью и внешне простодушной, но проницательной наемницей. Миссис Хоупвелл выживает в созданном своими руками мире иллюзий, изолируя себя от реального мира, произнося псевдофилософские, штампованные максимы, которые только еще больше изолируют ее от дочери, у которой есть докторская степень. в философии.
В репертуаре философии «хорошей страны» миссис Хоупвелл есть такие старые стандарты, как «Ты руль за рулем», «Чтобы создать мир, нужны все виды» и «Все люди разные». Но, что важно, миссис Хоупвелл не может примириться с дочерью, которая «отличается», несмотря на то, что миссис Хоупвелл может звучать так, как будто она обладает всеприемлемым, католическим состраданием. На самом деле, миссис Хоупвелл, вероятно, подытожила бы свою неспособность понять свою дочь-с-докторской степенью. говоря: «Она гениальна, но у нее нет ни капли здравого смысла». Следовательно, миссис Хоупвелл считает бунт Халги не более чем шалостью незрелого ума.
говоря: «Она гениальна, но у нее нет ни капли здравого смысла». Следовательно, миссис Хоупвелл считает бунт Халги не более чем шалостью незрелого ума.
Это именно докторская степень Халги. степень в области философии, которая создает серьезную проблему между двумя женщинами. Миссис Хоупвелл считает, что девочки должны ходить в школу и хорошо проводить время, но Халга получила высшую степень образования, и все же образование не «вывело ее наружу»; в частном порядке миссис Хоупвелл рада, что «у [Хульги] больше нет повода снова ходить в школу». Миссис Хоупвелл хотела бы похвастаться своей дочерью, как она может похвастаться дочерьми миссис Фриман, но хвастаться Халгой практически невозможно. Миссис Хоупвелл не может сказать: «Моя дочь — философ». Это утверждение, как известно миссис Хоупвелл, «закончилось с греками и римлянами».
Манера одежды Хульги также способствует большому непониманию, существующему между двумя женщинами. Миссис Хоупвелл считает, что на Халге «юбка шестилетней давности и желтая спортивная рубашка с выцветшим ковбоем на лошади» — это идиотизм, что является доказательством того, что, несмотря на докторскую степень Халги. и ее имя изменилось, она «еще ребенок».
и ее имя изменилось, она «еще ребенок».
Помимо того, что Халга носит неподходящую одежду, изменение ее имени (с «Джой» на «Хулга») нанесло миссис Хоупвелл такую рану, что она никогда полностью не заживет. Сменить имя с «Джой» на «Хулга», по словам миссис Хоупвелл, было актом смехотворно незрелого бунта. Миссис Хоупвелл убеждена, что Джой размышляла, пока не «наткнулась на самое уродливое имя на любом языке», а затем на законных основаниях сменила имя.
Миссис Хоупвелл смущена и рассержена поведением своей дочери, но она знает, что в конечном счете должна принять его — из-за несчастного случая на охоте, который стоил Джой ноги, когда ей было десять лет. Это несчастье усугубляется мнением врача, что Хульга не доживет до сорока из-за болезни сердца; кроме того, Халга была лишена возможности танцевать и проводить то, что миссис Хоупвелл называет «нормальным хорошим времяпрепровождением».
Пропасть между двумя женщинами еще больше усугубляется отношением миссис Хоупвелл к девушкам Фримена — в отличие от ее отношения к Халге. Миссис Хоупвелл любит хвалить Глайнез и Карраме, говоря людям, что они «две из лучших девочек», которых она знает, и она также хвалит их мать, миссис Фриман, как леди, которую «ей никогда не было стыдно брать с собой… куда-нибудь или представить… кому-нибудь». Напротив, миссис Хоупвелл очень стыдится имени Халги, того, как она одевается, и ее поведения.
Миссис Хоупвелл любит хвалить Глайнез и Карраме, говоря людям, что они «две из лучших девочек», которых она знает, и она также хвалит их мать, миссис Фриман, как леди, которую «ей никогда не было стыдно брать с собой… куда-нибудь или представить… кому-нибудь». Напротив, миссис Хоупвелл очень стыдится имени Халги, того, как она одевается, и ее поведения.
Сама Халга относится к двум девушкам Фримена с отвращением. Она называет их «Глицерин» и «Карамель» (маслянистые и липко-сладкие). Миссис Хоупвелл знает, что Халга не одобряет девушек Фримена, но сама она по-прежнему очарована ими, совершенно не осознавая глубокой потребности своей дочери быть принятой, хотя Халга заявляет: «Если вы хотите меня, вот я — КАК Я ЯВЛЯЮСЬ.»
В результате того, что миссис Хоупвелл не понимает Халгу, Халга уходит; она решает не пытаться установить какие-либо значимые отношения со своей матерью. Мы особенно видим это отстранение в сцене, в которой ее мать только что произнесла серию своих любимых, всегда готовых банальностей, а О’Коннор сосредотачивается на глазах Халги. Глаза Халги, по ее словам, «ледяно-голубые, как у человека, который добился слепоты усилием воли и средствами, чтобы сохранить ее».
Глаза Халги, по ее словам, «ледяно-голубые, как у человека, который добился слепоты усилием воли и средствами, чтобы сохранить ее».
Таким образом, Халга, по признанию О’Коннора, «слепа», и по иронии судьбы именно во время одного из обменов мнениями между Халгой и ее матерью, в то время как Халга пытается раскрыть ей слепоту своей матери (ее отсутствие сознания), Халга терпит неудачу. ; вместо этого она обнаруживает огромную слабость в своих якобы атеистических взглядах, что позже делает ее открытой для атаки Мэнли Пойнтера.
Миссис Хоупвелл сказала Халге простыми словами «хорошей страны», что улыбка на ее лице улучшит ситуацию («улыбка никогда ничему не повредит»). В момент, казалось бы, огромного прозрения, Халга набросилась на свою мать, закричав: «Мы не сами себе свет!» Кроме того, она процитировала католического философа семнадцатого века Мальбранша за то, что он изначально произнес эту истину.
О’Коннор показывает нам, что Халга с докторской степенью. степень по философии, до сих пор исповедовал абсолютный атеизм. Для Халги нет ни бога, ни загробной жизни; человек это все. Однако теперь мы видим, что Хульга бессознательно хочет, чтобы поверила, что есть сила более могущественная, чем она сама. Подсознательно она глубоко желает чего-то, чему она могла бы сдаться, как она позже делает из-за ухаживаний Пойнтера. Таким образом, по иронии судьбы, указывая на «слепоту» своей матери, Хульга открыла нам, что она сама слепа в отношении своих собственных желаний и собственного взгляда на реальность.
Для Халги нет ни бога, ни загробной жизни; человек это все. Однако теперь мы видим, что Хульга бессознательно хочет, чтобы поверила, что есть сила более могущественная, чем она сама. Подсознательно она глубоко желает чего-то, чему она могла бы сдаться, как она позже делает из-за ухаживаний Пойнтера. Таким образом, по иронии судьбы, указывая на «слепоту» своей матери, Хульга открыла нам, что она сама слепа в отношении своих собственных желаний и собственного взгляда на реальность.
Помните, что до этого момента Хулга придерживался атеистической точки зрения. Она считала себя рационалистом с железной волей, о чем свидетельствует подчеркнутый отрывок в одной из ее книг, которую миссис Хоупвелл пыталась прочитать. Сознательное предположение Хульги о том, что за поверхностной реальностью, которую мы видим вокруг, ничего не было, далеко от «истины», которую она теперь цитирует в философии Мальбранша. Мальбранш, католический философ XVII века, считал, что даже самые простые телесные движения возможны только благодаря постоянно присутствующей сверхъестественной силе. Эта сверхъестественная сила метафорически функционировала как нити между кукловодом (разумом) и марионеткой (телом).
Эта сверхъестественная сила метафорически функционировала как нити между кукловодом (разумом) и марионеткой (телом).
Постоянная враждебность, существующая между Хульгой и ее матерью, несомненно, усугубляется присутствием миссис Фриман, которую мать Хульги идеализирует как пример «хороших деревенских людей». Мать Хульги наивно верит в абсолютную доброту «хороших деревенских людей»; она считает, что если человек может нанять хороших деревенских жителей, «вам лучше держаться за них». О’Коннор, однако, не изображает миссис Фриман в качестве примера «хороших деревенских жителей».
Напротив, миссис Фриман изображена как довольно проницательная женщина, способная «использовать» слепоту миссис Хоупвелл к реальности, точно так же, как Мэнли Пойнтер позже «использует» слепоту Халги к реальности в своих корыстных целях. На самом деле миссис Хоупвелл настолько слепа к реальности, что считает, что может «использовать» миссис Фриман. Она слышала, что миссис Фриман всегда хочет «быть во всем»; в таком случае миссис Хоупвелл считает, что она может противостоять этому дефекту характера, поставив миссис Фриман «главной». Мы, конечно, знаем, что миссис Фримен не дура, когда дело доходит до манипуляций.
Мы, конечно, знаем, что миссис Фримен не дура, когда дело доходит до манипуляций.
О’Коннор еще больше укрепляет свое мнение о миссис Фриман как о манипуляторе миссис Хоупвелл, наделяя ее, миссис Фриман, атрибутами, которые аналогичны атрибутам Мэнли Пойнтера. Например, и миссис Фриман, и Мэнли Пойнтер рассматриваются миссис Хоупвелл как «хорошие деревенские жители»; оба испытывают болезненный интерес к деревянной ноге Халги; оба они позволяют своим «жертвам» формировать ошибочное представление о «хороших деревенских людях»; и, наконец, и Пойнтер, и миссис Фриман описываются как обладающие стальными глазами, способными проникнуть сквозь фасад Халги.
Прибытие девятнадцатилетнего Мэнли Пойнтера, продавца Библии и мошенника, представлено О’Коннором очень реалистично. Он знаком со всеми ловкими уловками, которые использует типичный коммивояжер, и у него также есть второе чутье, которое позволяет ему использовать миссис Хоупвелл в своих интересах, даже если она не заинтересована в том, чтобы развлекать любого продавца. Его комментарий «Людям не нравится дурачиться с такими деревенскими людьми, как я», затрагивает скрытый переключатель в миссис Хоупвелл, и она отвечает шквалом банальностей о хороших деревенских людях и нехватке в мире достаточного количества представителей этой породы. Для нее «хорошие деревенские жители — соль земли». Попросив ненадолго извиниться, миссис Хоупвелл идет на кухню, чтобы проверить, готов ли ужин, где ее встречает Халга, которая предлагает ее матери «избавиться от соли земли… и давай поедим».
Его комментарий «Людям не нравится дурачиться с такими деревенскими людьми, как я», затрагивает скрытый переключатель в миссис Хоупвелл, и она отвечает шквалом банальностей о хороших деревенских людях и нехватке в мире достаточного количества представителей этой породы. Для нее «хорошие деревенские жители — соль земли». Попросив ненадолго извиниться, миссис Хоупвелл идет на кухню, чтобы проверить, готов ли ужин, где ее встречает Халга, которая предлагает ее матери «избавиться от соли земли… и давай поедим».
Когда миссис Хоупвелл возвращается в гостиную, она находит Пойнтера с Библией на каждом колене. Когда она пытается уйти от него, он упоминает, что он просто бедный деревенский мальчик с больным сердцем. Это упоминание о болезни сердца, аналогичной болезни сердца Халги, оказывает заметное влияние на миссис Хоупвелл, и она приглашает его остаться на ужин, хотя она «сожалеет, как только услышала это от себя». На протяжении всего ужина Пойнтер смотрит на Халгу, которая быстро ест, убирает со стола и выходит из комнаты.
Когда молодой Пойнтер уезжает, он договаривается о встрече с Халгой на следующий день, и банальный разговор между ними ясно иллюстрирует наивность Халги. Она убеждает себя, что произошли «значительные события» с «глубоким смыслом». Той ночью она лежит в постели, воображая диалоги между собой и Пойнтером, безумные на первый взгляд, но проникающие глубоко в глубины, о которых не подозревает ни один продавец Библии. «Их разговор… был такого рода», — говорит она. Она также воображает, что соблазнила его и ей придется иметь дело с его угрызениями совести. Она также воображает, что берет его раскаяние и превращает его в более глубокое понимание жизни. Наконец, Халга воображает, что она забирает весь позор Пойнтера и превращает его во «что-то полезное».
Когда Халга встречает Пойнтера у ворот, она легко продолжает свои заблуждения о его невиновности и своей мудрости. Их поцелуй — первый для Халги — используется О’Коннором, чтобы показать, что план Халги может пойти не так гладко, как она себе представляет. Несмотря на то, что поцелуй вызывает дополнительный прилив адреналина, вроде того, который «позволяет вынести набитый чемодан из горящего дома», Хульга теперь убежден, что ничего исключительного не произошло и что все «зависит от разума».
Несмотря на то, что поцелуй вызывает дополнительный прилив адреналина, вроде того, который «позволяет вынести набитый чемодан из горящего дома», Хульга теперь убежден, что ничего исключительного не произошло и что все «зависит от разума».
Халга, однако, ошибается, и даже цветные образы О’Коннора, которые вставлены, когда Халга и Пойнтер идут к старому амбару (в какой-то момент сравнимый с поездом, который, как они боятся, может «ускользнуть»), усиливают впечатление что Хульга, возможно, встретила свою пару. Розовые сорняки и «розовые крапчатые склоны холмов» (розовый цвет символизирует чувственность и эмоции) служат для того, чтобы подчеркнуть, как Хулга медленно теряет контроль над ситуацией.
Добравшись до амбара, двое забираются на чердак, где Пойнтер активно начинает брать управление на себя. Поскольку очки Халги мешают их поцелуям, Пойнтер снимает их и кладет в карман. Потеря очков Хульги символически знаменует ее полную потерю восприятия, и она начинает отвечать на его поцелуи, «целуя его снова и снова, как будто пытаясь вытянуть из него все дыхание».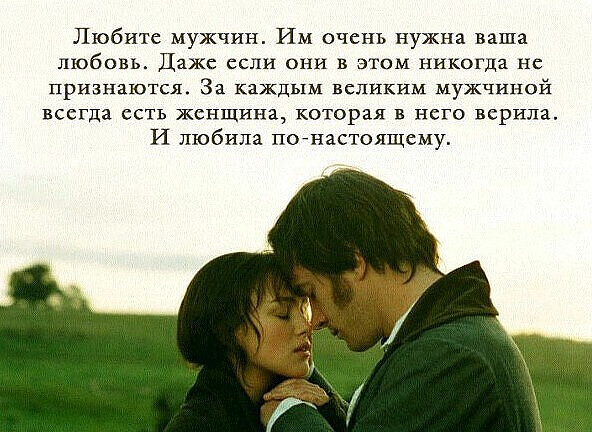 Хотя Халга пытается продолжить свою «обработку» молодежи, объясняя, что она «одна из тех людей, которые ничего не поняли», Пойнтер игнорирует ее комментарии и продолжает ухаживать за ней, страстно целуя ее и настаивая на том, чтобы она сказала ему, что она любит его. Наконец, Халга произносит: «Да, да», и Пойнтер настаивает на том, чтобы она это доказала. Эта просьба приводит Халгу к мысли, что она «соблазнила его, даже не решив попробовать».
Хотя Халга пытается продолжить свою «обработку» молодежи, объясняя, что она «одна из тех людей, которые ничего не поняли», Пойнтер игнорирует ее комментарии и продолжает ухаживать за ней, страстно целуя ее и настаивая на том, чтобы она сказала ему, что она любит его. Наконец, Халга произносит: «Да, да», и Пойнтер настаивает на том, чтобы она это доказала. Эта просьба приводит Халгу к мысли, что она «соблазнила его, даже не решив попробовать».
Халга возмущена, обнаружив, что Пойнтер требует «доказательства любви», чтобы она показала ему, где ее деревянная нога соединяется с ее телом; Халга «так же чувствительна к своей искусственной ноге, как павлин к своему хвосту». Никто никогда не прикасается к нему, кроме нее. Она заботится о нем, как кто-то другой мог бы заботиться о его душе.
В обращении, произнесенном перед Конференцией южных писателей, О’Коннор так прокомментировал деревянную ногу: «Нам сообщают, что доктор философии калека как духовно, так и физически… и мы понимаем, что есть деревянная часть ее души, которая соответствует ее деревянной ноге». Поскольку дело обстоит именно так, неудивительно, что комментарий Пойнтера о том, что именно ее нога «делает ее другой», приводит к полному краху плана Халги.
Поскольку дело обстоит именно так, неудивительно, что комментарий Пойнтера о том, что именно ее нога «делает ее другой», приводит к полному краху плана Халги.
Отчет О’Коннора о реакции Халги заслуживает подробного изучения, поскольку в нем подчеркивается тот факт, что решение Халги отдать ногу, по сути, является интеллектуальным 1:
Она сидела и смотрела на него. Ни в ее лице, ни в круглых морозно-голубых глазах не было ничего, что указывало бы на то, что это ее тронуло; но она чувствовала, как будто ее сердце остановилось и оставило разум качать кровь. Она решила, что впервые в жизни оказалась лицом к лицу с настоящей невинностью. Этот мальчик с инстинктом, исходящим из запредельной мудрости, коснулся правды о ней. Когда через минуту она сказала хриплым высоким голосом: «Хорошо», это было все равно, что полностью отдаться ему. Это было похоже на то, как если бы она потеряла свою собственную жизнь и снова обрела ее чудесным образом в его жизни.
Выбор О’Коннором известной библейской параллели («Тот, кто найдет свою жизнь, потеряет ее, и тот, кто потеряет свою жизнь ради Меня, найдет ее», Матфея 10:39), ясно изображает рациональную капитуляцию Халги перед Пойнтером и твердо подчеркивает значение ее рационального решения в контексте истории.
Взяв на себя обязательство перед Пойнтером, Халга позволяет себе предаваться фантазиям, в которых «она убежит с ним, и что каждую ночь он будет снимать ногу, а каждое утро снова надевать ее». Поскольку она отдала свою ногу (теперь символически функционирующую как ее душа) Пойнтеру, Халга чувствует себя «полностью зависимой от него».
Прозрение Халги, или момент благодати, происходит в результате предательства Пойнтера ее веры в него и разрушения ее интеллектуальных притязаний. До того, как он предал ее, Халга считала себя интеллектуальным лидером всех окружающих ее людей. Она полагалась на мудрость этого мира, чтобы вести ее, вопреки библейскому предупреждению: «Смотрите, чтобы кто не прельстил вас философией и пустым обольщением, по человеческим преданиям, по стихиям мира, а не по Христу». «(Колоссянам 2:8).
Однако для того, чтобы Хульга вышла за пределы своего нынешнего состояния, ей необходимо осознать, что «Бог обратил «мудрость» мира сего в безумие» (1 Коринфянам 1:20). С точки зрения Халги, отказ от ноги был интеллектуальным решением; следовательно, разрушение ее веры в силу собственного интеллекта может произойти только через предательство со стороны того, в кого она разумно решила верить, в кого верить.
С точки зрения Халги, отказ от ноги был интеллектуальным решением; следовательно, разрушение ее веры в силу собственного интеллекта может произойти только через предательство со стороны того, в кого она разумно решила верить, в кого верить.
Мэнли Пойнтер играет свою роль, удаляя ногу Халги и ставя ее вне досягаемости. Когда она просит его вернуть ее, он отказывается и из выдолбленной Библии (возможно, символизирующей его собственное религиозное состояние) достает виски, профилактические средства и игральные карты с порнографическими изображениями. Когда потрясенный Халга спрашивает, является ли он «хорошим деревенским человеком», как он утверждает, Пойнтер отвечает: «Да… но это меня не останавливает. неделя.»
Разочарованная, Халга пытается дотянуться до своей деревянной ноги (души), но Пойнтер легко толкает ее вниз. Потерпев физическое поражение, Халга пытается использовать свой интеллект, чтобы пристыдить Пойнтера и заставить его вернуть ногу. Она шипит: «Ты прекрасный христианин! Ты такой же, как они все — говоришь одно, а делаешь другое», только для того, чтобы услышать, как Пойнтер говорит ей, что он , а не христианин. Когда Пойнтер покидает чердак сарая с деревянной ногой Халги, он еще больше разочаровывает Халгу, говоря ей, что он получил ряд интересных вещей от других людей, включая стеклянный глаз, точно так же, как он взял ногу Халги.
Когда Пойнтер покидает чердак сарая с деревянной ногой Халги, он еще больше разочаровывает Халгу, говоря ей, что он получил ряд интересных вещей от других людей, включая стеклянный глаз, точно так же, как он взял ногу Халги.
Последний комментарий Пойнтера лишает Халгу ее последнего ресурса — ее чувства интеллектуального превосходства. «И вот еще что я тебе скажу, — говорит Пойнтер, — ты не такой умный. Я ни во что не верю с самого рождения».
Следовательно, это полностью наказанная Хулга, которая поворачивает «свое бурлящее лицо к отверстию» и наблюдает, как исчезает Пойнтер, «синяя фигура, успешно борющаяся над зеленым пестрым озером». Цветные образы, связанные с Пойнтером, когда он уходит (синий, с небесами и небесной любовью; зеленый, с милосердием и возрождением души), в сочетании с образом хождения по воде, по-видимому, указывают на то, что О’Коннор желает читателю видеть в Пойнтере орудие Божьей благодати для Халги. Хотя Пойнтер может показаться маловероятным кандидатом на роль благодати, О’Коннор, комментируя действие благодати в своих рассказах, отмечает, что «часто это действие, в котором дьявол был невольным орудием благодати».
